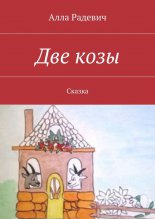Дневник шизофренички Сешей Маргерит

M.-A. Sechehaye
JOURNAL D’UNE SCHIZOPHRNE
Auto-observation d’une schizophrne pendant le traitement psychothrapique
Presses Universitaires De France
ISBN 978-2-13-053795-3 (фр.)
© Presses Universitaires de France, 1950
Перевод с французского Л. И. Фусу
В оформлении обложки использована картина А. Кроули
Введение
Все, что изложено ниже, может быть воспринято читателем как инверсия, негативное изображение моей работы «Символическая реализация»[1]. В ней я описала случай молодой девушки, которую врачи, с чисто терапевтической точки зрения, отнесли к больным шизофренией. Путем описания симптомов шизофрении и процесса их исчезновения я продемонстрировала метод, с помощью которого больная смогла излечиться. Конечно, даже в сухом беспристрастном описании неизбежно угадываются чувства и мысли, переполнявшие душу моей героини Рене.
Символические реализации показали изменения в ее эмоциональной жизни. Прогресс, явившийся результатом этих символических реализаций, позволил нам проследить эволюцию психики от полнейшего инфантилизма до стадии зрелости и независимости.
Вместе с тем в процессе, описанном в «Символической реализации», я оставалась «снаружи» как наблюдатель, который присутствует при внешних манифестациях, но не проникает во внутреннюю жизнь. Ведь даже находясь в состоянии ментального и физического упадка, заставляющего нас думать о его деменции, больной шизофренией сохраняет душу, ум и зачастую переживает очень живые чувства, не имея, однако, возможности проявить их. Даже в периоды тотального безразличия, в состоянии ступора, когда больной ничего не чувствует, он сохраняет обезличенную ясность сознания, которая позволяет ему не только воспринимать то, что происходит вокруг него, но и отдавать себе отчет в своем эмоциональном состоянии. Зачастую само это безразличие, достигающее экстремального уровня, мешает ему говорить и отвечать на вопросы. Факты же, «регистрируемые» больным, позднее позволят ему вспомнить этапы своего заболевания, ответить на вопросы и при случае изложить все зафиксированные факты. И тогда мы откроем в нем настоящую жизнь, наполненную борьбой, невыразимыми страданиями, скудными радостями; жизнь чувственную, наличие которой трудно было в нем даже заподозрить и которая оказывается невероятно богатой и поучительной для психолога.
Это подтверждает то, о чем писал З. Фрейд, говоря о душевнобольных: «Эти больные отвернулись от внешней реальности и именно поэтому знают намного больше, чем мы, о реальности внутренней, психической, и могут поведать нам об аспектах, которые в ином случае остались бы нам недоступны»[2].
Все изложенное далее в настоящей книге под названием «Дневник шизофренички» покажет нечто вроде «негатива», инверсии символической реализации, т. е. все то, что прячется за симптомами и шизофреническими манифестациями.
Однако мы прекрасно знаем, что негатив в фотографии является главным: без него нет позитива, нет изображения. С другой стороны, особенность негатива в том, что все черное на нем становится на изображении белым, а то, что на фотографии находится слева, на негативе – справа. Короче говоря, негатив – это инверсия позитива.
C определенной точки зрения так же обстоит дело и с самонаблюдением больного в сравнении с тем образом, который складывается о нем через симптомы и поступки.
Из этого противопоставления следует вывод, который необходимо учитывать, если мы не хотим составить себе ложного мнения о пациенте и его заболевании: из рассказа больного о его внутренней жизни у нас иногда складывается впечатление, что его болезнь намного сильнее, чем мы думаем, когда обращаем внимание лишь на поверхностные явления, в другие же моменты, наоборот, кажется, что на самом деле человек не настолько болен, насколько об этом свидетельствует его внешнее состояние. И как же сильно мы бываем удивлены, когда обнаруживаем, что пациент, казавшийся дементным, на самом деле оставался люцидным и осознавал все, что происходило вокруг. Тут же у нас проявляется тенденция взвалить на него ответственность за его поведение, упрекнуть за проявление симптомов, как будто он был над ними властен. Мы забываем, что в действительности человек был беспомощным и не отвечал за свои поступки.
Мы должны понимать, что суть шизофрении – как раз в искажении взаимосвязи между аффективностью, которая сильно нарушается потерей контакта с жизнью, и интеллектом, который остается невредимым и который, как кинооператор, фиксирует все, что происходит рядом с ним.
Очевидно, что Рене не могла пересказать все впечатления, полученные ею на протяжении болезни. Впрочем, были длительные периоды, когда она находилась в таком состоянии гебефрено-кататонического возбуждения, что в своей спутанности не была в состоянии достаточно ясно понимать то, что происходило вокруг, и особенно то, что происходило внутри нее.
В течение болезни наблюдались также и периоды ярко выраженного ступора, когда безразличие было настолько явным, что не позволяло перцептивным впечатлениям фиксироваться как мнестические следы. Поэтому, познакомившись с откровениями Рене – откровениями, которые свидетельствуют об ее удивительной люцидности, не надо забывать, что они воспроизводят лишь определенные периоды заболевания, по счастью, самые интересные с психологической точки зрения.
Часть первая
Самонаблюдения
Глава первая
Появление первых ощущений ирреальности
В этой главе мы познакомимся с откровениями, которые я услышала от Рене вскоре после ее выздоровления. Она рассказала о первых ощущениях ирреальности, которые она испытала в пятилетнем возрасте.
«Очень хорошо помню день, когда это случилось. Мы в это время жили за городом и я, как обычно, вышла погулять одна. Вдруг из школы, мимо которой я как раз проходила, до меня донеслась песня на немецком языке – это пели дети, у которых был урок пения. Я остановилась, чтобы послушать, и в этот момент во мне поселилось странное чувство – чувство, сложное для того, чтобы его можно было проанализировать, но похожее на то, что я переживала позже: ирреальность. Мне казалось, что я больше не узнаю школу, что она стала большой, как казарма, и все дети, которые пели, показались мне пленниками, которых заставляют петь. Все происходило так, как будто школа и пение детей были отделены от всего остального мира, в то же время мои глаза воспринимали пшеничное поле, которому не было пределов. И эта сияющая на солнце желтая бесконечность вместе с песней пленных детей в школе-казарме из отшлифованного камня вызвали во мне такую тревогу, что я начала рыдать. Я побежала в наш двор и стала играть, для того чтобы все стало таким „как прежде“, то есть для того чтобы вернуться в реальность. Тогда впервые я увидела вещи, которые позже всегда будут появляться в моем переживании ирреальности: бескрайнее пространство, слепящий свет и отшлифованность, гладкость материи.
Я не могу объяснить себе, что случилось. Знаю лишь, что как раз в тот период я узнала, что у моего отца есть любовница, и что это заставляло мою маму плакать. Это потрясло меня, потому что я слышала, как мама сказала, что „если отец ее бросит, она покончит с собой“».
До 12-летнего возраста Рене пережила еще много ощущений ирреальности. Но с 12 лет они постепенно становились все более и более интенсивными и все более и более частыми.
Самое тяжелое впечатление Рене того периода связано со школой. Вот что случилось однажды в школе, которую она посещала уже два года. «Однажды не перемене я прыгала через скакалку. Две девочки крутили ее, держа каждая за свой конец, а две другие девочки впрыгивали, каждая со своей стороны, для того чтобы встретиться под скакалкой. Когда пришла моя очередь впрыгивать и я, находясь уже на полпути до скакалки, увидела, как моя партнерша прыгает, чтобы мы встретились, меня охватила невероятная паника, потому что я вдруг перестала ее узнавать. Я хорошо видла ее такой, какой она была, но в тоже время это была уже не она. Я увидела ее маленькой на другом конце скакалки, и она росла, росла, по мере того как приближалась ко мне, а я – к ней. Я закричала: „Стой, Алиса, ты похожа на льва, я тебя боюсь!“ Ужас, который, вероятно, был в том, что я кричала, и который я хотела спрятать под видом шутки, привел к тому, что игра сразу остановилась. Девочки разглядывали меня с удивлением, говоря: „Ты что, сумасшедшая? Алиса – лев? Сама не знаешь, что говоришь“. Потом игра возобновилась. И вновь произошла странная трансформация моей партнерши, и, нервно смеясь, я повторяла: „Остановись, Алиса, ты меня пугаешь, ты – лев!“ На самом деле я вовсе не видела в ней льва: я использовала это слово, чтобы выразить то, как я воспринимала все увеличивающийся образ своей подруги и тот факт, что я перестала ее узнавать. Неожиданно я обнаружила сходство этого феномена с кошмаром „иголки в стоге сена“. Речь идет о сне, который я часто видела, особенно когда у меня была высокая температура, – сне, который вызывал у меня настоящий ужас. Позднее я всегда ассоциировала свои ощущения ирреальности со сновидением с иголкой. Вот этот сон: амбар, ярко освещенный электричеством. Стены выкрашены в белый цвет, ровные – ровные и блестящие. В этой бесконечности – иголка, тонкая-тонкая, твердая, блестящая под ярким светом. Эта иголка, в этой пустоте, вызывала у меня невероятную тревогу. Потом сено заполняло пустоту и поглощало иголку. Стог, вначале маленький, рос, рос, а в центре его была иголка, находившаяся под огромным электрическим напряжением, которое она передавала стогу. Напряжение, захват пространства сеном и ослепляющий свет приводили к тому, что ужас переходил в припадок, и я просыпалась с криком: „Иголка, иголка!“.
То, что происходило со мной во время игры в скакалку с моей подругой, было того же порядка: напряжение, нечто, что чрезвычайно быстро растет, и тревога.
И вот с тех пор в школе, на переменах, у меня часто возникало ощущение ирреальности. Я стояла у решетки окна, как будто была пленницей, и наблюдала за школьниками, с криками бегавшими по двору. Они казались мне муравьями под ослепляющим светом. Здание школы становилось огромным, гладким, ирреальным, и невыразимая тревога охватывала меня. Я представляла себе, как люди, смотревшие на нас с улицы, думают, что все мы пленники, как я, и мне так хотелось вырваться наружу и спастись бегством. Иногда, как безумная, которой хотелось вернуться к реальной жизни, я трясла решетку, как будто не было другого способа выйти. И все потому, что мне казалось, что улица была живой, настоящей, веселой, и люди, которые ходили по улицам, были живыми, реальными, в то время как все, что происходило во дворе школы, было бесконечным, ирреальным, механическим, бессмысленным: это был кошмар иголки в стоге сена.
Эти состояния появлялись у меня только во время перемен, на уроках их не было. Я сильно страдала и не знала, как из этих состояний выйти. Ни игра, ни разговоры, ни чтение – ничто не могло взломать этот круг ирреальности, в котором я находилась.
Приступы не только не делались реже, а лишь усиливались и становились чаще. Однажды я была на внеклассном мероприятии и внезапно увидела, как зал становится огромным, как будто освещенным ужасным электрическим светом – светом, который не давал теней. Все было отшлифованным, гладким, искусственным, напряженным до предела. Стулья и парты казались мне макетами, расставленными тут и там; ученики и преподаватели казались марионетками, которые двигались без причины, без цели. Я больше никого и ничего не узнавала. Реальность была как будто размытой, будто покинувшей все эти предметы и всех этих людей. Жуткая тревога проникла в меня, и я исступленно искала спасения. Я вслушивалась в разговоры, но не могла понять значения слов. Голоса казались мне металлическими, холодными, без тембра. Время от времени какое-нибудь слово откалывалось от других. Оно повторялось в моем мозгу, абсурдно, как если бы было вырезано ножом. И когда какая-нибудь из моих подруг приближалась ко мне, я видела, что она увеличивается и увеличивается, как тот стог сена. Я подошла к своей наставнице и сказала: „Мне страшно, потому что на голове у каждого человека – воронья голова, очень маленькая“. Она ласково улыбнулась и что-то ответила – не могу вспомнить что. Но ее улыбка, вместо того чтобы успокоить меня, еще больше усилила мою тревогу и смятение, потому что я увидела ее зубы, белые и ровные. Эти зубы блестели во вспышках света, и вскоре, оставаясь по-прежнему зубами, они стали единственным, что я видела, как если бы весь зал был из зубов под беспощадным светом. Небывалая до этого тревога охватила меня. Что в тот день все же спасло меня, так это движение. Как раз наступил час похода в капеллу для благословления, и мне надо было встать в очередь вместе с другими детьми. И мне очень помогло это движение, изменение поля зрения, необходимость делать что-то, что было обычным и понятным. И все же я перенесла свое состояние ирреальности в капеллу, хотя и в ослабленном виде. В тот вечер я была просто разбита.
Поразительная вещь: как только мне удавалось вновь вернуться в реальность, я тут же переставала думать об своих ужасных переживаниях. Я не забывала о них, а просто больше о них не думала. И тем не менее они очень часто возвращались, занимая все большее и большее место в моей жизни».
Глава вторая
Борьба с ирреальностью начинается
«Мой последний год в начальной школе был очень хорошим с точки зрения учебы. Я получила три поощрения, из которых два были первой степени. Таким образом, у меня было все, чтобы успешно заниматься в лицее. Увы, этого не случилось, и в большой степени из-за „ирреальности“. Во-первых, мне было очень тяжело адаптироваться к ритму учебных дисциплин и к новой манере преподавания. И потом, три предмета буквально ужасали меня. Это были уроки музыки, рисования и физкультуры. И еще я добавила бы урок шитья. У меня был хороший высокий голос, сопрано, и преподаватель рассчитывал, что в хоре я буду исполнять сольные партии. Однако очень скоро он обнаружил, что пела я фальшиво – будучи невнимательной, брала на один-два тона выше или ниже. Мне также не давалось сольфеджио, не получалось отбивать такт и следить за ритмом. Каждый из этих уроков вызывал во мне невероятную, не пропорциональную предмету тревогу. Так же обстояло дело и с рисованием. Не знаю, что со мной произошло во время летних каникул, но я обнаружила, что потеряла чувство перспективы. Я копировала модель с рисунка моей коллеги, что давало ложную перспективу по отношению к тому месту, где находилась я. На физкультуре я путала команды „направо“, „налево“. На уроке шитья я не могла понять технику кройки, загадкой оставалось и вывязывание чулочных пяток. Все эти предметы, хоть и были разными, представляли для меня одинаковую сложность: несмотря на мои старания, я все больше и больше теряла практические навыки.
В этих сложных условиях я вновь пережила ощущение ирреальности. Во время работы на уроке, в тишине, я слышала уличный шум: проезжающий трамвай, разговаривающие люди, ржание лошади, сигналы машин. И мне казалось, что каждый из этих звуков как будто вычленялся из неподвижности, отрывался от своего источника и терял какое-либо значение и смысл. Мои одноклассники казались роботами или манекенами, которыми управляют невидимые механизмы. Стоящий на подиуме преподаватель, который говорил, жестикулировал, писал на доске, казался мне гротескной марионеткой. И эта жуткая тишина, прерываемая лишь уличными шумами, доносившимися издалека; это беспощадное солнце, которое нагревало класс, эта безжизненная неподвижность – чудовищная тревога от всего этого охватывала меня. Мне хотелось выть.
Иногда тревога овладевала мной по утрам, когда в половине восьмого я шла в школу. Внезапно улица становилась бесконечной, белой под обжигающим солнцем; люди бегали туда-сюда, как муравьи; машины двигались во все направлениях, без цели; вдалеке был слышен колокол. Потом все останавливалось в ожидании, с затаенным дыханием, в невероятном напряжении – напряжении иголки в стоге сена. Мне казалось, что что-то должно произойти, какое-то невероятное потрясение. Сумасшедшая тревога заставляла меня останавливаться и выжидать. Затем, при том что в реальности ничего не менялось, я начинала вновь воспринимать бесцельное движение людей и предметов и продолжала свой путь в школу.
К счастью для себя, я заболела туберкулезом легких, и мне пришлось срочно оставить школу и перебраться в горный санаторий. После нескольких дней тревоги, связанной с произошедшими изменениями, я достаточно легко адаптировалась благодаря принятой там размеренной жизни. Приступы ирреальности значительно сократились и сменились состояниями увлечения и восторга от природы. Я жила одна в маленькой комнате, и самым большим удовольствием для меня было слушать, как гудит в лесу осенний ветер. Однако стоны и завывания качающихся под ветром деревьев все же тревожили меня и часто портили мне удовольствие. Я считала, что ветер идет с Северного полюса через замерзшие степи Сибири, с воем пролетает сквозь леса. Ветер казался мне живым, демоническим, сокрушающим все на своем пути. И тогда я видела, как моя комната становилась непропорционально огромной, стены – отполированными и блестящими, пугающий ослепительный электрический свет переполнял каждый предмет. И ветер, яростно сотрясающий оконные ставни, и глухие стоны елок, сгибавшихся под ветром, являли сильный контраст между буйством снаружи и покоем внутри. И вновь тревога нарастала во мне до состояния припадка. Мне хотелось сломать этот круг ирреальности, который сковывал меня внутри электрической неподвижности. В свободное от лечения время я звала к себе приятельницу, чтобы поиграть и поболтать с ней. Но даже несмотря на игру и разговоры, мне не удавалось возвращаться к реальности. Все казалось искусственным, механическим, электрическим. И чтобы вырваться из этого, я начинала вести себя очень возбужденно: смеялась, прыгала, расшвыривала вещи, тормошила их, пытаясь сделать так, чтобы к ним вернулась жизнь. Это были невероятно тяжелые моменты!
Как же я была счастлива, когда вещи сохраняли свое обычное состояние, когда люди были живыми, нормальными, и особенно, когда мне удавалось установить контакт с ними!
Я вернулась из санатория на три месяца, затем приехала туда еще на целый год. В тот год, а точнее первого января я впервые испытала новое чувство: Страх. Надо сказать, что ирреальность снова возросла, а ветер приобрел особое значение. В те дни, когда была ветреная, плохая погода, я становилась особенно возбужденной. По ночам я не спала, вслушивалась в звук ветра, будто участвовала в его вое, плаче, в его отчаянных криках. Вся моя душа плакала и стонала вместе с ним. Все больше и больше я верила, что ветер несет какую-то весть, которую я должна предугадать. Но что хотел сказать ветер, до поры до времени мне было неведомо.
Пока в день Нового года, во время тихого часа я впервые не почувствовала то, что уже назвала выше: страх. Он буквально свалился на меня, непонятно откуда. В тот послеобеденный час ветер дул и завывал сильнее, чем обычно. Я слушала его, соединяясь с ним всем своим существом, дрожа, ожидая неизвестно чего. Внезапно страх, необъятный ужасный страх проник в меня. Это уже не была обычная тревога, связанная с ирреальностью, это был настоящий страх – страх, который все мы ощущаем перед лицом угрозы, несчастья. И ветер, как будто для того, чтобы еще больше усилить мое смятение, выл, повторяя свои бесконечные жалобы в глухих стонах леса. Мне было так страшно, что я подумала, что больна. И все же я вышла навестить подругу в соседнем санатории. Чтобы добраться туда, нужно было пройти по короткой прямой дороге через лес. Но был такой густой туман, что я потерялась. Я кружила вокруг санатория, не видя его, и мой страх возрастал. Я поняла, что боялась ветра, потом я начала бояться деревьев, таких больших и черных в тумане, но все-таки больше всего я боялась ветра. Наконец я уловила значение сообщения, которое нес ветер: ледяной ветер с Северного полюса хотел разрушить или взорвать землю, и это могло быть предзнаменованием того, Земля вскоре взлетит на воздух. С тех пор эта мысль не давала мне покоя все больше и больше. Но мне по-прежнему не была известна причина страха, который с тех пор обрушивался на меня в любое время дня. Я рассказала об этом врачу, и тот хотел помочь мне с помощью гипноза. Я сильно воспротивилась, так как не хотела потерять свою личность. Поэтому я продолжала мучиться и терпеть и свой страх, и свои приступы ирреальности. Несмотря ни на что, никто не догадывался ни о моей внутренней тревоге, ни о моем страхе. Меня принимали за ненормальную, экзальтированную особу. И это неудивительно, так как я действительно всегда была возбуждена, выкидывала всякие фортели, громко смеялась и имела вид идиотки. Но все эти проявления вовсе не были играми возбужденной девушки, которая не контролирует себя. Наоборот, фактически это были попытки победить свой страх. Когда он наваливался на меня, я чувствовала себя беспокойной, возбужденной, ожидающей непременного „несчастья“. Тогда я искала выхода в играх или беседах. Однако страх быстро нарастал во мне, и помощь, которую я ожидала получить от товарищей, сводилась к нулю. Я предпринимала другую попытку, пытаясь прогнать страх с помощью возбуждения: начинала выкрикивать слова, смеяться. Эти крики и жестикуляция были следствиями моего страха и одновременно защитой от него. Мало-помалу я стала откровенничать и делиться со своими товарками новостью о том, что мир вскоре взорвется, что прилетят самолеты, чтобы бомбить и уничтожить нас. Я твердо верила во все эти вещи, хотя и говорила о них смеясь, и мне хотелось поделиться моим страхом с другими, чтобы не чувствовать себя такой одинокой. И все-таки я верила в то, что земля вскоре взорвется, не так, как я верила в по-настоящему реальные факты. Я смутно чувствовала, что эта моя убежденность была связана с моим личным, персональным страхом и что этот страх не был всеобщим.
Так прошел целый год, на протяжении которого я носила в себе свой страх и свою ирреальность. За исключением приступов возбуждения, я была абсолютно нормальной. Все дети в санатории очень любили меня и приходили ко мне как к своей маленькой маме. Я читала им письма, которые они получали, и занималась корреспонденцией самых маленьких.