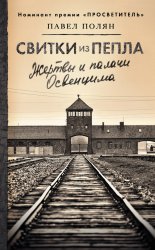Путь Моргана Маккалоу Колин
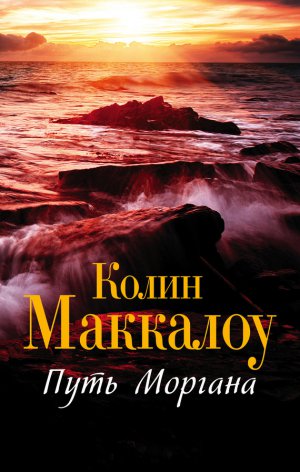
Его любовь к Уильяму Генри неуловимо изменилась при виде болезненной привязанности Пег к сыну. Мысли о том, что ребенок заболеет или заблудится, стали для нее постоянным источником страха. Если Уильям Генри переходил с шага на бег, даже в таверне, Пег останавливала его и спрашивала, куда он так торопится. Когда Дик брал Уильяма Генри на ежедневную прогулку, Пег увязывалась за ними, и мальчик был обречен идти за руку с дедушкой и матерью, которые ни на минуту не спускали с него глаз. Стоило ребенку приблизиться к пристани и начать считать корабли (а он уже умел считать до ста), Пег поспешно уводила его прочь, упрекая Дика в беспечности. Но хуже всего было то, что мальчик не сопротивлялся, даже не пытался завоевать независимость, в чем обычно преуспевают шестилетние мальчишки.
– Я поговорил с сеньором Хабитасом, – сказал Ричард однажды долгим летним вечером, когда «Герб бочара» уже закрылся. – Поток заказов для мастерской пока не иссякает, но мы настолько вошли в ритм работы, что могли бы уделить внимание новому ученику. – Он сделал глубокий вздох и взглянул в глаза Пег. – Отныне я буду брать Уильяма Генри с собой в мастерскую.
Он хотел объяснить, что это ненадолго, что мальчик отчаянно нуждается в новых впечатлениях и лицах, что ему присущи терпение и способности к механике, которые так высоко ценятся людьми, собирающими оружие. Но он не успел выговорить ни слова.
Пег разрыдалась.
– Нет, нет, нет! – пронзительно выкрикнула она с таким ужасом, что Уильям Генри вздрогнул, съежился, сполз со стула и уткнулся головой в отцовские колени.
Дик стиснул кулаки и хмуро уставился на них, поджав губы, а Мэг схватила со стойки кувшин с водой и выплеснула его содержимое в лицо Пег. Та умолкла, хватая ртом воздух.
– Я же просто предложил, – объяснил Ричард отцу.
– Лучше бы ты промолчал, Ричард.
– Но я думал… ну, ну, Уильям Генри! – Ричард обнял сына, усадил его на колени и взглядом пресек возражения Дика. Дик считал, что его внук уже слишком взрослый, чтобы льнуть к отцу. – Все хорошо, Уильям Генри, все хорошо.
– А мама? – пролепетал побледневший ребенок, глаза которого стали громадными.
– Мама разволновалась, но вскоре она успокоится. Видишь? Бабушка знает, что делать. Просто мне следовало промолчать. – Ричард поглаживал сына по спине, сдерживая желание рассмеяться – не от веселья, а от горечи. – Вечно я все делаю не так, отец, – добавил он. – Но я не хотел огорчить Пег.
– Знаю, – отозвался Дик и дернул за хвост деревянного кота. – Вот, выпей, – велел он, подавая Ричарду кружку. – Знаю, ты не любишь ром, но сейчас он тебе не повредит.
К собственному изумлению, Ричард обнаружил, что ром и впрямь помог ему, успокоил нервы и приглушил боль.
– Что же мне делать, отец? – спросил он немного погодя.
– Во всяком случае, не брать Уильяма Генри к Хабитасу.
– Значит, она не просто разволновалась?
– Боюсь, что так, Ричард. Но баловать его все-таки не следует.
– Кого? – вдруг вмешался Уильям Генри.
Мужчины переглянулись.
– Тебя, Уильям Генри, – решительно ответил Ричард. – Ты уже вырос, мама напрасно так беспокоится за тебя.
– Знаю, папа, – кивнул Уильям Генри, сполз с отцовских колен, подошел к матери и погладил ее по плечу. – Мама, не волнуйся. Я уже большой.
– Он еще совсем малыш! – выпалила Пег после того, как Ричард отнес ее наверх и уложил в постель. – Ричард, как тебе такое пришло в голову? Взять ребенка в оружейную мастерскую!
– Пег, мы же только собираем ружья, а не стреляем из них, – терпеливо напомнил Ричард. – А Уильям Генри уже подрос, ему необходимы… – он замялся, подыскивая слово, – новые впечатления.
Пег отвернулась.
– Вздор! Зачем ребенку, живущему в таверне, новые впечатления?
– Здесь он каждый день видит одно и то же, – возразил Ричард, старательно пряча досаду. – Его окружают пьянство, хмельные слезы, неосторожные замечания, драки, сквернословие, похоть и отвратительная суета. Ты думаешь, что рядом с тобой все это не повредит ребенку, но не забывай: я тоже сын трактирщика, я хорошо помню, как мне претила жизнь таверны. Откровенно говоря, я обрадовался, когда меня отдали учиться в школу Колстона, а еще больше – когда стал учеником оружейника. Уильяму Генри будет полезно побыть среди трезвых, здравомыслящих людей.
– К Хабитасу ты его не возьмешь! – выпалила Пег.
– Как мне поступать, я решу сам, Пег, и без твоих советов. Но теперь я вижу, – продолжал он, садясь на кровать и кладя ладонь на плечо жены, – что нам давно пора было поговорить. Нельзя до бесконечности держать Уильяма Генри в пеленках только потому, что он наш единственный ребенок. Сегодня я понял, что ему необходимо предоставить больше свободы. Ты должна привыкнуть к тому, что Уильям Генри вырос – на следующий год мы отдадим его в школу Колстона, несмотря на все твои возражения.
– Я не отпущу его! – вскричала Пег.
– Придется. А если ты станешь противиться, Пег, значит, ты заботишься не о нашем сыне, а о самой себе.
– Знаю, знаю, знаю! – пробормотала она, закрыв лицо ладонями и раскачиваясь из стороны в сторону. – Но что я могу поделать? Кроме него, у меня больше ничего нет – и никогда не будет!
– У тебя есть я.
Минуту Пег молчала.
– Да, – наконец согласилась она. – У меня есть ты. Но это разные вещи, Ричард. Если с Уильямом Генри что-нибудь случится, я умру.
Солнце уже зашло; тонкие серые лучики света проникали сквозь щели в перегородке и паутиной ложились на лицо Ричарда Моргана, который неотрывно смотрел на жену. «Да, это не одно и то же», – думал он.
В школе Колстона получали образование сыновья большинства бристольцев, принадлежащих к среднему классу. Эта школа была отнюдь не единственной в городе: все религиозные конфессии, кроме римско-католической, имели свои благотворительные школы, в особенности много их принадлежало англиканской церкви. Но только в двух школах ученики были обязаны носить форму: мальчики из Колстона – синие сюртуки, а девочки из женской школы – красные платья. Обе школы были устроены при англиканской церкви, но девочкам не так повезло: их учили только читать, но не писать, зато много времени уделяли вышивке шелковых жилетов и сюртуков для знати. За эту работу классным дамам платили, а ученицам – нет. Среди бристольских мужчин было больше умеющих писать и считать, чем в любом другом английском городе, в том числе и в Лондоне. Дети из состоятельных семей получали совсем иное образование.
Сто учеников Колстонской школы находились на полном пансионе; этой участи не избежал и Ричард. Во время учебы в школе и ученичества в мастерской, с семи до девятнадцати лет, он виделся с родителями только по воскресеньям и на каникулах. Разве Пег могла согласиться на такое? К счастью, Колстонская школа предлагала и другой режим обучения: за кругленькую сумму ребенок процветающего горожанина мог посещать школу с семи утра до двух часов дня с понедельника по субботу. Разумеется, в праздники уроков не было – ни один школьный учитель не желал лишаться выходных дней, установленных англиканской церковью и самим покойным мистером Колстоном.
Для Уильяма Генри, семенящего рядом с дедом (Мэг пришлось устроить настоящий скандал, чтобы отговорить Пег сопровождать сына), первое утро в школе было важным событием, началом совершенно новой жизни, и он сгорал от любопытства. Он был бы рад побывать и в оружейной мастерской, но крепостные стены, которыми окружила его мать, оставались неприступными, хотя мальчик уже давно устал от однообразия. Более пылкий и порывистый ребенок не раз попытался бы взять эти стены штурмом, но Уильям Генри унаследовал отцовские терпение и сдержанность. Его девизом стало слово «ждать». И вот теперь наконец ожидание кончилось.
Колстонская школа для мальчиков немногим отличалась от двух десятков других благотворительных заведений, называемых домами призрения, больницами или работными домами: она выглядела мрачно, была неопрятной, стекла в ее окнах никогда не мыли, штукатурка потрескалась, балки расслоились. Сырость пропитывала ее от фундамента до дымоходов времен Тюдоров, внутренние помещения не предназначались для учебы, а вонь расположенного неподалеку Фрума вызывала тошноту у всех, кроме коренных бристольцев.
На школьном дворе резвилась толпа мальчишек, половина которых была одета в синие форменные сюртуки. Как приходящий ученик, Уильям Генри не был обязан носить форму. Кроме него, на положении приходящих учеников находилось несколько сыновей олдерменов или членов гильдии купцов, не желавших признаваться, что их отпрыски учатся в благотворительном заведении.
Рослый тощий мужчина в черном костюме и накрахмаленном белом галстуке священника приблизился к Дику и Уильяму Генри, обнажая в улыбке гнилые почерневшие зубы.
– Преподобный Причард, – с поклоном произнес Дик.
– Мистер Морган. – Переведя взгляд на Уильяма Генри, священник слегка приподнял брови. – Это сын Ричарда?
– Да, это Уильям Генри.
– Тогда идем, Уильям Генри. – И преподобный Причард зашагал по двору, не оглядываясь.
Уильям Генри торопливо последовал за ним, ошарашенный хаосом, царившим во дворе.
– Вам повезло, – заметил наставник приходящих учеников, – ваш день рождения совпал с началом учебы, мастер Уильям Генри Морган. Для начала вы изучите алфавит и таблицы сложения. Вижу, вы принесли с собой грифельную доску. Отлично.
– Да, сэр, – отозвался Уильям Генри, чьи манеры были безупречны.
Это были его последние осознанные слова – до самого обеда мальчик пребывал в смятении. Он совсем растерялся. Сколько правил, и все до единого совершенно бессмысленны! Встать прямо. Сесть. Опуститься на колени. Читать молитву. Повторять слова. Как задавать вопросы, когда их задавать нельзя. Кто что сделал и с кем. Когда случилось то, а когда – это…
Занятия проходили в просторной комнате, вмещающей сотню учеников школы Колстона; несколько наставников переходили от одного класса к другому или распекали один класс, не заботясь о том, чем занимаются другие. Уильяму Генри Моргану необычайно повезло: как только начались трудные времена, его дедушка, не занятый привычными делами, принялся учить его алфавиту и даже простым действиям арифметики. Если бы не домашние уроки, первый день в школе ошеломил бы мальчугана.
Преподобный Причард присутствовал в комнате, но не давал уроки. Уильяма Генри определили в класс, наставником которого был мистер Симпсон, и вскоре мальчику стало ясно, что среди подопечных у мистера Симпсона есть любимчики и те, кого он терпеть не может. Этот поджарый мужчина с сальной кожей и брезгливым выражением лица недолюбливал мальчишек, которые громко шмыгали носом и вытирали нос кулаком, или тех, на пальцах которых виднелись липкие коричневые пятна, означающие, что их обладатели пользуются руками при отправлении естественных надобностей.
Уильям Генри охотно выполнял приказы наставника – сидеть смирно, не вертеться, не раскачиваться на скамье, не вытирать нос, не шмыгать, не болтать. Поэтому мистер Симпсон обратил на него внимание лишь на минуту, чтобы спросить его имя и сообщить, что, поскольку в Колстонской школе уже есть два Моргана, Уильяма Генри будут называть Морган Третий. Другой мальчик, которому задали тот же вопрос и дали тот же ответ, сглупил и запротестовал, вовсе не желая быть Картером-младшим. За это он получил четыре сильных удара тростью: один за то, что забыл произнести «сэр», второй – за дерзость, а еще два – на всякий случай.
Трость внушала страх, с таким орудием Уильям Генри еще не успел познакомиться. В сущности, за семь лет жизни его ни разу даже не отшлепали. Поэтому он мысленно поклялся, что никогда не даст наставникам Колстона повод подвергнуть его порке. Часы пробили одиннадцать, ученики расселись на скамьях за длинными столами в школьной столовой, и тут Уильям Генри узнал, кто из них лучше всего знаком с тростью – болтуны, непоседы, грязнули, тупицы, наглецы и те, кто просто не мог удержаться от скверных поступков.
Ни в классе, ни в столовой Уильям Генри старался не приближаться к товарищам, но вскоре обратил внимание на мальчика, сидящего неподалеку, – он казался жизнерадостным, но не слишком дерзким, и потому его ни разу не наказывали и не бранили. Взглянув на незнакомца, Уильям Генри улыбнулся так, что один из наставников затаил дыхание и замер.
Едва увидев улыбку новичка, маленький незнакомец оттолкнул с дороги соученика. Тот шлепнулся на пол, был поднят за ухо и уведен к столу наставников, стоящему на помосте в глубине громадной гулкой комнаты.
– Я Монктон-младший, – сообщил мальчик, улыбаясь так, что Уильям Генри увидел дырку на месте выпавшего зуба. – Учусь здесь с февраля.
– Морган Третий, поступил сегодня, – шепотом отозвался Уильям Генри.
– Его преподобие уже объявил, что в столовой можно говорить громче. Должно быть, твой отец богат, Морган Третий.
Уильям Генри оглядел синий сюртук Монктона-младшего и задумчиво склонил голову.
– Вряд ли, Монктон-младший. Во всяком случае, он не слишком богат. Он учился здесь и тоже носил синий сюртук.
– Вот оно что! – Поразмыслив, Монктон-младший кивнул. – Твой отец еще жив?
– Да. А твой?
– Нет, как и моя мать. Я сирота. – Монктон-младший склонил голову, его ярко-голубые глаза влажно блеснули. – А как тебя нарекли при крещении, Морган Третий?
– У меня два имени – Уильям Генри. А как зовут тебя?
– Джонни. – На лице Монктона-младшего появилось заговорщицкое выражение. – Я буду звать тебя Уильямом Генри, а ты меня – Джонни, но только когда нас никто не слышит.
– А разве это запрещено? – спросил Уильям Генри, продолжающий постигать школьные правила.
– Нет, просто не одобряется. А я терпеть не могу быть младшим!
– А мне не нравится быть третьим. – Уильям Генри виновато перевел взгляд на помост, где его товарища по скамье угощали розгами – орудием пострашнее трости, тем более что порка занимала больше времени и наказанный был вынужден или стоять до конца дня, или беспокойно ерзать на табурете. Встретившись глазами с учителем, сидящим рядом с мистером Симпсоном, Уильям Генри заморгал и потупился, сам не зная почему.
– Кто это такой, Джонни?
– Рядом с директором? Старина Рок, мистер Причард.
– Нет, с другой стороны, рядом с мистером Симпсоном.
– Мистер Парфри. Он преподает латынь.
– А у него есть прозвище?
Монктон-младший ухитрился так завернуть вверх губу, что достал ею до кончика вздернутого носа.
– Если и есть, то мы его не знаем. Латыни учат старших.
Тем временем мистер Парфри и мистер Симпсон беседовали об Уильяме Генри.
– Вижу, Нед, в твоем стаде появился Ганимед.
Мистер Эдвард Симпсон мгновенно понял, о ком идет речь.
– Морган Третий? Видел бы ты его глаза!
– Непременно посмотрю. Но даже отсюда видно, как он обаятелен. Воистину Ганимед – эх, стать бы Зевсом!
– К тому времени, Джордж, как ты начнешь мучить его латынью, он станет старше на два года и будет таким же неряшливым, как они все, – отозвался мистер Симпсон, привередливо ковыряя еду, которая, кстати, была более съедобной, чем пища для учеников. В семье мистера Симпсона болезни передавались из поколения в поколение, сокращая жизни.
Эта беседа вовсе не свидетельствовала о тайных пороках, а просто была симптомом незавидной участи учителей. Джордж Парфри мечтал стать Зевсом, но так же тщетно он мог бы грезить об удаче Роберта Наджента, ныне графа Наджента. Среди школьных учителей было немало потомков обедневшей знати. Для мистера Симпсона и мистера Парфри работа в школе Колстона стала неслыханной синекурой: им платили фунт в неделю – но не во время каникул, – а также круглый год предоставляли стол и жилье. Поскольку экономы Колстона закупали отличную еду (директор слыл истинным эпикурейцем), а каждый учитель имел собственную комнату, у них не было причин искать новое место – разумеется, если им не предлагали работу в Итоне, Хэрроу или Бристольской средней школе. Брак лишь осложнял положение наставника, о нем не могло быть и речи, пока учителя не добивались особого разрешения или повышения в должности; впрочем, браки не запрещались, но никто и не помышлял о том, чтобы поселить жену и детей в учительской комнатушке при школе. И кроме того, ни мистер Симпсон, ни мистер Парфри не питали пристрастия к прекрасному полу. Они предпочитали себе подобных, а именно – друг друга. Однако чувства таились лишь в душе бедняги Неда Симпсона, а Джордж Парфри всецело принадлежал себе, не отвечая ему взаимностью.
– Может, сходим к горячим источникам в воскресенье, после службы? – с надеждой спросил мистер Симпсон. – Воды мне полезны.
– При условии, что я смогу взять с собой краски, – отозвался мистер Парфри, по-прежнему не отрывая глаз от Уильяма Генри Моргана, который с каждой минутой оживлялся и хорошел. Мистер Парфри скорчил гримасу. – Ума не приложу, чем тебе могут помочь эйвонские помои, но если ты не станешь мешать мне наслаждаться покоем возле скал Сент-Винсента, я составлю тебе компанию. – Он вздохнул. – О, как бы я хотел написать портрет этого ангелочка!
Направляясь в школу за Уильямом Генри, Ричард боролся с тревогой. Что, если перепуганный малыш будет умолять отца не отправлять его завтра в школу?
Но его опасения оказались напрасными. Ричард сразу отыскал взглядом сына, который со смехом бежал по двору, перебрасываясь шутками со своим ровесником в синем сюртуке, светловолосым и болезненно худым пареньком.
– Папа! – Уильям Генри бросился к отцу, товарищ последовал за ним. – Папа, это Монктон-младший, но я зову его Джонни, когда нас никто не слышит. Он сирота.
– Как дела, Монктон-младший? – приветливо спросил Ричард, на которого нахлынули воспоминания о собственной учебе в Колстоне. Он тоже был Морганом-младшим, а когда ему минуло одиннадцать, его переименовали в Моргана-старшего. И только лучший друг звал его Ричардом. – Я спрошу у преподобного Причарда, можно ли пригласить тебя к нам на обед в воскресенье, после церковной службы.