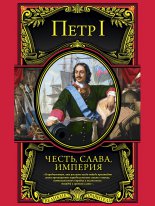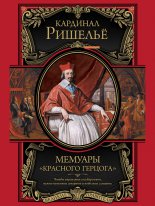Клуб «КЛУБ» Полушкин Афанасий
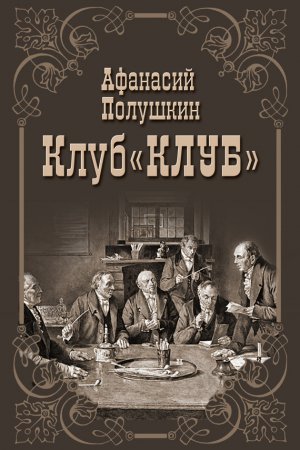
Пока шла церемония представления, я обнаружил, что мой стакан – с трещиной, коньяк из него медленно вытекает, расплываясь по столу темной лужицей, так что пить за знакомство пришлось все и сразу. После этого инициатива окончательно перешла к Гере, сообщившему, что он со школы пишет стихи. Тут до меня дошло, какова моя роль, и я хватанул зеленого лука для блеска в глазах.
Гера начал читать. И сразу, видимо, поэму, потому что чтение длилось восемнадцать минут. Не могу похвастаться тем, что я запомнил все перипетии сюжета, более того, я бы вообще ничего не запомнил, потому что примерно минуте на пятнадцатой прораб Вася, готовясь к финалу, наполнил все пластиковые стаканчики до самого верха, и я волей-неволей наблюдал, как уровень моего стаканчика понижается, а лужа на столе растет. Но первые две строки этой поэмы настолько поразили мое неокрепшее к тому времени литературное чувство, что их я запомнил на всю жизнь. Коньяк у всех в бокалах? Готовы? Вот эти строки:
Я снова просыпаюсь по частям:
Желудок, сердце, печень, позвоночник…
Теперь вы примерно представляете, о чем я думал до того, как в мой стакан вновь полился коньяк. Да, да вот об этом: мне, студенту филфака, очевидный графоман читает, как петух свое кукареку, дилетантские стишки, от которых тошнит уже со второй секунды. И прошло уже три, нет четыре, нет пять. А рядом сидит, тупо уставившись в пол пусть не прямой, но начальник, специально меня для этого доставивший. Я уже выпил почти целый стакан их коньяка, и, видимо, придется пить еще, а, точно, вот он уже наливает. Лужа на столе все больше. И если я скажу, что все плохо, то окажусь неблагодарной свиньей, испортившей двум друзьям встречу, а если похвалю, то плюну на всю русскую поэзию. Кой черт я остался один в этом здании, где мой напарник, он бы выкрутился, ну почему я все время попадаю в это…
Дальше думать времени не оставалось, Срочно надо было лицемерить, потому что Гера взял свой стаканчик, задрал голову, показав острый кадык, и прозвучали завершающие поэму стихи. Я не их помню, осталось лишь общее впечатление, которое лучше всего передать так:
Кукареку, кукареку, кукар! Кукаре, кукареку, кукареку!!
– Вот, – сказал Вася, старший прораб.
Я не дал паузе разрастись. Я тоже поднял свой стаканчик, стараясь держать его над столом, а не над джинсами, набрал воздуха в легкие, с чувством выдохнул: «Хорошо!» – и выпил все до дна, после чего закашлялся. На глазах выступили слезы. Видимо, что-то попало не туда.
На этом программа вечера с моим участием закончилась. Видимо, поэма у Геры была только одна, а на лирику он решил сегодня не размениваться. Мне налили доверху все тот же протекающий стакан, вручили бутерброд с мертвым сыром и отправили восвояси.
Я дошел до лестницы, оставляя за собой крупные пятна коньяка на полу, и имел глупость выпить залпом и третий стакан. Ну, или то, что в нем осталось. В нашу комнату сторожей-пожарников я спуститься сумел. Ноги отказали уже на топчане. Я еще подумал, что надо бы сделать обход здания… Нет, правда.
* * *
Разбудил меня звонок телефона, явно не первый. И не пятый, как выяснилось позже, а примерно девятый-десятый. Мой напарник, пропустив почти всю смену, следуя джентльменскому кодексу поведения, приехал ее сдавать. Не достучавшись в дверь, он оккупировал телефонную будку напротив дома Филатовой, набирал номер сторожки, дожидался двадцатого гудка, давал отбой и набирал снова.
Я снял трубку, выслушал все, что было сказано, спустился со второго этажа на первый, сдвинул задвижку на двери, впустил сменщика и понял, что пьян сильнее, чем мог себе когда-либо представить. Церемонию сдачи-принятия смены, видимо, пришлось сократить до минимума. Я прав? Спасибо.
Как я добрался до дома, не омню. И не потому, что много лет прошло. Я этого не помнил никогда. Но, судя по тому, что сменился я в половине восьмого, а до «Сокола» добрался в половине первого, дорога была непростой. Родители еще с вечера уехали на дачу, квартира была в моем распоряжении, но мне нужен был лишь диван.
* * *
Разбудил меня в пять минут седьмого звонок телефона, явно не первый. Звонила моя однокурсница. Вы все с ней знакомы, так что я не буду называть ее имени. Или так: ее звали А. Мы с ней перезванивались время от времени, причем инициатива всегда исходила от А. И я не считал это каким-то знаком. Звонила – и звонила. Мы что-то обсуждали, много шутили. Или, так скажем, я старался шутить. Теперь-то я не уверен, что шутки были смешные. Она как-то назвала меня язвой. Но звонить не перестала.
Да. Так вот, я снял трубку, что-то ответил, обнаружил, что могу воспринимать окружающее, стоять, говорить, ориентироваться в пространстве и вообще почти трезв. Даже захотелось что-нибудь съесть. Кофе выпить. Позавтракать. Но опять не судьба.
А. говорила странно, очень серьезно, очень непохоже на наше с ней обычное общение. Слов я, конечно, не помню, той выразительности во фразе, что поразила меня в стихах накануне, А. не достигла. Но общий смысл меня поразил. Она сказала, что один из тех, кто входил в нашу компанию, сейчас переживает трудное время. Что он может… потерять себя? Или наоборот, не может найти себя? Или не хочет искать? Или хочет, но ему что-то мешает. Ну, как это обычно говорят женщины, пойди их пойми. В общем, трудно ему сейчас. И как я понял, сейчас, это именно сейчас, в субботу, четырнадцатого июня, тысяча девятьсот восьмидесятого года, в шесть ноль пять, нет, уже в шесть ноль девять, после полудня. И я должен поехать сейчас на Арбат, в дом Филатовой, чтобы его поддержать, подставить ему все то, что обычно подставляют друзья… Нет, коленка и подножка в том разговоре не упоминались. И я сразу поехал, не спорить же с красивой девушкой. Кофе только выпил с бутербродом с колбасой, что полноценным завтраком назвать, конечно, нельзя. Еще душ принял и рубашку сменил, в которой спал на работе и дома. А джинсы менять не стал, не было у меня вторых джинсов.
Ничего никому подставить я в этот день, точнее уже вечер, не сумел, потому что на Арбате я был в семь часов с минутами, у дома Филатовой уже стояли пожарные машины, зеваки и милиция. Пожар тушили в доме…
К чему я стал это рассказывать. Ни в тот день, ни после меня в этой истории ничего не беспокоило. Так, смешной эпизод. С мелким враньем и парой провалов в памяти. Но значительно позже одна мысль поселилась в мозгу и все не дает покоя. Я выключился на диванчике в комнате-сторожке на втором этаже в то время, когда на третьем этаже два начальника допивали пятую бутылку из шести. Утром на третьем этаже никого не было, да и не остались бы они на ночь. Но кто же тогда закрыл дверь на задвижку? Я сам не мог, поскольку после девяти (если не больше) часов сна с трудом стоял на ногах. Мой напарник до работы в ту ночь не доехал, он разбудил меня утром телефонным звонком. Никого из вас, как я понимаю, в ту ночь в здании не было. Так как же задвижка оказалась задвинутой?
Общим решением присутствующих мораль к этой истории не прилагается.
Заседание шестое
Это рассказ о людях, живущих двойной жизнью. Они не шпионы, не преступники, не революционеры. Они – городские партизаны.
Название басни:
Городские партизаны
рассказчик:
Владимир Порошин
Он
Он – отставной военный, подполковник, работает охранником в банке. Предлагали пойти в личные телохранители, но жена была против: могут убить вместе с хозяином, а у них дети: мальчик (постарше) и девочка (помладше). Его друзья любят пиво, охоту и разговоры о джипах.
Его легенда на эту ночь: денег банк платит мало, нужны подработки. В галерее «Подвалъ» ночная вечеринка, презентация новой коллекции Йоджи Ямамото. Заплатят, как за неделю. Товарищ обещал, майор-десантник. Бывший, конечно.
Она
Она – студентка третьего курса «Высшей школы управления», папа выдает лицензии, у мамы – антикварный салон. Ее подруги пьют «Мохито», любят «Moschino» и лимузины.
Ее легенда: у подруги день рождения, а это серьезно. Это на всю ночь. Как минимум. Сначала клуб «Опера», потом «Fabrique», следом «Фьюжесть». А там уж как пойдет.
Они
Они встречаются в полночь, в старой коммунальной квартире на Сретенке, добираясь до нее на метро с пересадками и проверяя, нет ли хвоста.
Войдя в квартиру, она сразу сбросила туфельки на высоких каблуках. Он лишь слегка повел плечом: инструктаж уже шел. На кухне у веселого толстяка с бородкой дьякона они получили по две бутылки с «коктейлем Молотова». Она сложила свои в холщовую сумку, вынув оттуда кеды. Он поместил свои в специальные карманы, пришитые к подкладке темной куртки.
Их цель на сегодня – Старосадский переулок, точнее – машины, стоящие на тротуаре. Ведь они – «двойка» – звено боевой группы партизан-пешеходов, борющихся с оккупацией их города автомобилями.
Выйдя в заданный штабом район, они разместили свои заряды под четырьмя машинами, занявшими тротуар в Старосадском: вольво, маздой, «восьмеркой» и фордом. Он достал «Зиппо», подаренную сослуживцами при увольнении из армии, она – золотую зажигалку от Prada.
Она
Вдруг она жестом попросила его подождать. Затем, снова жест: ей понадобился нож. У него всегда с собой – охотничий, с рукояткой из оленьего рога, подаренный сослуживцами на юбилей. Вынув бутылку из-под «восьмерки», она скользнула на несколько метров вверх по переулку и нырнула под грузовой ЗИЛ, занявший весь тротуар. Из-под ЗИЛа вниз по мостовой побежал ручеек, обтекая шины стоящих на тротуаре машин.
Она вылезла из-под грузовика, подняла над головой зажженную зажигалку и сразу погасила. Он тут же начал поджигать тряпки, торчащие из горлышек бутылок. Из-под ЗИЛа прыснула струйка огня.
Последняя фаза операции – отход. Она бежала легко и невесомо. Он старался, но отставал. Когда грохнуло, они были уже почти на Котельнической набережной.
Он
Она вернула ему нож, он молча похлопал ее по плечу. Вот за что он ценил ее – за креативность. Вот уже больше года он не соглашался взять себе другого напарника, а она – перейти на работу в городской штаб.
До галереи «Подвалъ» он добрался на метро. Быстро переоделся, поблагодарил товарища, который прикрыл его на время отлучки. «Она хоть стоит того?» – только и спросил товарищ. Он молча кивнул и встал на фэйс-контроль.
Они
Под утро к воротам галереи, в которой проходила вечеринка, подкатил белый лимузин, из которого со смехом и визгом вывалились четыре молодые дурочки и два сонных толстяка. Когда они, выкурив по сигарете, прошли в галерею, ОНА на него даже не взглянула. А ОН ее просто не узнал.
Отсюда мораль: Ну вот, я так и думал, что фейс-контроль – это полная лажа.
Intersaison. Сергей Фабр. Африка
Рассуждение о публицистике Захара Прилепина, подготовленное для книги «Сто нелепостей современной литературы»
Оговоримся сразу – не обо всей публицистике, а о тех ее фрагментах, что печатались журнале со странным таким названием… Написал бы – дурацким, но, если вдуматься, все названия дурацкие, в том числе и название этой статьи.
Почему Африка? В рассказе «Чувство долга» есть такие слова: «Какой бы топор подложить под компас, чтоб наш корабль, идущий самым верным курсом, все стороны света перепутал, поплыл отсюда, куда глаза глядят…» Без всякого сомнения, автор вспоминает фильм моего (а уж его – тем более) детства «Пятнадцатилетний капитан». Там на китобойном судне, направляющемся в Америку («идущем самым правильным курсом»), случайно взятый в команду повар Негоро (а на самом деле – работорговец Перейра) подложил под компас топор, в результате чего корабль прибыл не в Америку, а в Африку.
Не могу сказать с полной уверенностью, ассоциирует ли автор себя с работорговцем, пиратом и беглым каторжником (как это недавно произошло с одним милиционером, представившимся демонстрантам цитатой из того же фильма: «Я Себастьян Перейра»), но, видимо, стабильный курс на Америку ему совсем не нравится. В том понимании Америки – «огромной туши США, застящей белый свет» (рассказ «Фидель: левый марш»), – которое сложилось у него в голове. Африка – лучше.
Из другого рассказа: «Поедем на авто, несогласный» – читатель может узнать, что мы, возможно, уже в Африке: «В общем, у меня возникает ощущение, что я живу в какой-то африканской стране».
Еще раз отметим, нам представляется, что автор – не Себастьян Перейра, более того, он относится к таким перейрам с нескрываемой брезгливостью, что видно уже по рассказу «Камуфлированные будни эпохи перемен»: «Еще в бытность работы в ОМОНе мне и моим однополчанам приходилось подрабатывать охранниками. …Мы охраняли – назовем вещи своими именами – воров из числа новых знакомых нашего командира, тоже начинавшего осваивать великий и ничтожный русский бизнес». (Мельком отметим, что «великий и ничтожный» – явная отсылка к «великому и ужасному» обманщику Гудвину из книги Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Тяготение к детским впечатлениям для брутального «я» рассказчика – как щербинка на гладком лезвии ножа.)
Кто же он тогда в Африке, этот рассказчик, биографически совпадающий с автором? Что он там (здесь) делает? Ну, наверное, он некий сторонний наблюдатель, которого случайно занесло в Африку. Ничего он не делает. И от нечего делать он наблюдает и комментирует местные нравы. Так, по крайней мере, следует из рассказа «Камуфлированные будни эпохи перемен»:
«Занятная примета времени: многие представители нового поколения российских писателей начинали свой творческий путь именно в охранном бизнесе».
«Манеры звезд не принципиально отличались от повадок прежних наших клиентов, но первое время на певчих птиц было хотя бы любопытно смотреть».
В общем: «В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать». Но рассказчику не страшно, скорее – ЗАНЯТНО и ЛЮБОПЫТНО. Согласитесь, оба использованных слова свидетельствуют о его ЛЕГКОМ интересе к тому, что происходит и о некоторой ОТСТРАНЕННОСТИ от событий, хотя события эти происходят именно с ним. А наблюдает он за нравами немного со стороны, скорее всего, потому, что настоящим африканцем себя не чувствует. Давайте попробуем посмотреть с ним в одну сторону, чтобы разглядеть, что же его интересует.
Рассказчику не хватает денег для покупки автомобиля («Чувство долга»), он пытается взять кредит в банке:
«Они говорят: вот договор займа на три года, вот на два.
– Не-на-до, – отвечаю, – мне ни на три года, ни на два. Дайте мне на месяц.
– Нет, на месяц нельзя.
– А на два месяца?
– Ни на два месяца нет, ни на три. Только на год.
Дальше – смешнее».
Конструкция диалога, заметим, совершенно «довлатовская», им, Довлатовым, сооруженная, крепко сбитая, наждачной бумагой зашкуренная, лаком покрытая, – бери да пользуйся. Но есть одно отличие. Довлатов в этом мире был – естествоиспытатель. Он людей изучал, он любовался ими и, в конечном счете, он их понимал. А Прилепин – наблюдатель. Ему изучать и понимать неинтересно, потому что он уже знает, как должно быть устроено. Его задача: фиксировать и сравнивать. Вот так должно быть (кредит – на два месяца, охрана – достойным людям т. п.), а вот так – есть: смешно и любопытно, но нелепо, неправильно, гадко, грязно. Поэтому у Довлатова мы никогда не найдем фраз подобных, например, этой: «Оставьте нам хоть что-нибудь, хотя бы одно крепкое место в этом болоте, где мы удержимся на одной ноге, вторую поджав, что твоя цапля – с неизменной лягушкой в клюве» (рассказ «Слишком много правых»).
(Ну никуда не деться от детских впечатлений. Болотная метафора – из «Журавля и цапли», разумеется, русской народной сказки).
Выбирая для характеристики условного рассказчика у Довлатова термин «естествоиспытатель», я сделал это сознательно. Мне нравится то, как тот «испытывает» людей: на прочность, на чувство юмора, на искренность, дружбу, любовь. «Наблюдатель» Прилепин не таков. Он либо судит своих персонажей, либо любуется ими.
Вот он судит: «Мы и так в последние времена оказались почти что в пустоте: с тысячелетним рабством внутри, с историей Родины как сменой методов палачества…» («Слишком много правых». И обратите внимание: «последние времена» – это лексикон пророков и юродивых, из словаря не судьи, но судии). Вот опять судит: «Что же такое случилось с нами, как же все это снова началось? Или еще не началось. Или не кончалось никогда?» («Поедем на авто, несогласный»).
А вот любуется: «Он по-прежнему полон достоинства, и в отличие от большинства государственных правителей минувшего столетия, известных мне (уж российских-то наверняка), не делает вид, что собирается жить вечно» («Фидель: левый марш»). Вот снова любуется: «Мы рассматриваем фотографии Всеволода Емелина, и невооруженным взглядом видно, что в подавляющем большинстве случаев поэт несколько или глубоко пьян» («Печальный плотник Всеволод Емелин»).
С тем, что он осуждает, более или менее понятно – то самое африканское болото, в котором аборигены (они же цапли) торчат по колено в жиже, воображая, что они не в Африке никакой, а в самой настоящей Америке. А чем он любуется? Героями, конечно. Их у него немного, но они есть. Вот Фидель: «Он сделал из маленького народа народ великий, упрямый, несломленный и гордый. Единственное социалистическое государство в Западном полушарии!» («Фидель: левый марш»). Вот Емелин: «Сначала Емелин устроился сторожем. Потом плотником в церковь… Там и работает до сих пор» («Печальный плотник Всеволод Емелин»).
Почему гордо строить социализм с восклицательным знаком – это хорошо, а работать в банке по правилам этого банка – плохо? Это знает сам Прилепин, мне понять, видимо, не дано. Но это не единственный вопрос, возникший у меня по прочтении тоненькой книжечки прилепинской публицистики. Вот еще один, что лучше: гордо строить социализм или много пить, работая плотником в церкви и сочиняя матерные стихи? Нет, правда, что лучше? Потому что мне показалось, что и то и другое нравится Прилепину в равной степени. Но разве можно одновременно гордиться продолжительностью жизни для мужчин на Кубе в 77 лет и пребывать в состоянии постоянного алкогольного опьянения, что неизбежно подталкивает героического поэта-плотника к ответу на вопрос, сколько ему лет: «Сорок восемь. Помирать пора»? А, впрочем, почему бы и нет. Оба молодцы, один на Кубе (столь же ирреальной, что и Америка), другой в нашей родной достоевской Африке, где если уж довелось вылезти из болота, то лишь для того, чтобы смиренно брести то ли в «Бесах», то ли посередь «Униженных и оскорбленных» («Поедем на авто, несогласный?»).
Если читать тексты Прилепина не от случая к случаю, не регулярно даже (по мере их появления), а сразу и залпом, то становится очень даже заметно, что в тех случаях, когда он «судит», всегда или почти всегда попадает в нерв, делая больно и еще больнее. Когда же он «любуется», то пишет благоглупости, вроде вот этой: «Русский человек – не православный, не голубоглазый, не русый, нет. Это пьющий человек, отягощенный семьей и заботами. Но при этом: последний кусок не берет, пустую бутылку на стол не ставит, начальству вслух о любви не говорит» («Печальный плотник Всеволод Емелин»).
«Мы не лекарство, мы – боль», – написал как-то Герцен о людях пишущих, о ЛИТЕРА-торах. Прилепин, как мне кажется, хочет быть и болью, и лекарством одновременно. «Так не бывает», – написал я было, а потом вспомнил, что нет – бывает. Бывает: когда одной болью пытаются «заслонить» другую – кошмарную.
Сезон второй
Заседание первое
Это рассказ о Воине, сумевшем вырваться за пределы реальности.
Название басни:
Битва
рассказчик:
Антон Бухаров
Герой рассказа, назовем его Т., жил по привычкам.
Нет, не по привычке, что значит: привык жить и живет себе. Он жил ПО ПРИВЫЧКАМ, переходя от одной привычки к другой по мере необходимости.
Следование привычкам, если заняться этим всерьез, очень полезно. Оно не оставляет места для волнений и переживаний, а значит, способствует успехам в работе, освобождает от лишних друзей и не дает развиваться болезням.
Например.
В будние дни Т. просыпался в 7.30 утра, делал пятьдесят приседаний, принимал душ, съедал на завтрак два яйца всмятку (варить две с половиной минуты), бутерброд с сыром, пил кофе (варить в турке, с солью) с сахаром (полторы ложки на стеклянную чашку из ИКЕИ) и отправлялся на работу (спортивный костюм, кроссовки, верхняя одежда – по сезону), выходя за дверь в 8.35. Семь минут до станции метро «Речной вокзал» одним и тем же маршрутом, покупка газеты («Комсомольская правда»), вход в метро через крайнюю левую дверь и крайний левый турникет (проездной билет на год), далее – эскалатор вниз, четвертый вагон от конца поезда (последняя дверь, направо, сиденье у задней стенки вагона). В 8.44 поезд отправляется, в 8.52 Т. проходит через крайний правый турникет на станции метро «Сокол», чтобы выйти на улицу и через три минуты оказаться в школе №***, где работает учителем физкультуры.
Тем, кто еще не включил телевизор и все еще следит за судьбой Т., я хотел бы напомнить, что многие умные люди считали привычку единственным наглядным доказательством того факта, что смысл жизни существует. Т, надо сказать, так не думал. Он вообще не думал в таких категориях. Честно говоря, он и в каких-либо еще категориях (кроме: «выше, быстрее, сильнее», разумеется) думал нечасто, что служит еще одним доказательством пользы привычек.
Т. прожил 44 года по привычкам, не догадываясь, что он Воин. Герой. И вполне мог бы не догадаться, если бы на станции метро «Сокол» не сменили турникеты на новые – те, что с пластиковыми дверями, которые должны открываться при приближении любого человека, желающего выйти из метро. Для тех, кто не понял, ключевые слова: «новые», «должны», «любого».
Стать Воином Т. заставила битва между ним и турникетом. Не удивляйтесь. В жизни всякое бывает.
Не то что вне жизни.
Битва началась в 8.42 14 марта 2008 года, в пятницу. Крайний правый турникет, до сих пор покорно пропускавший всех подряд, не открыл свои пластиковые двери перед Т. Не открыл, и все. Он ведь – турникет и не обязан отчитываться в своих действиях ни перед кем. Тем более перед учителем физкультуры.
Далее события развивались примерно так:
8.43. Т. стоит перед турникетом. Двери закрыты.
8.44. Т. стоит перед турникетом. Двери закрыты.
8.45. Т. пинает двери турникета ногой. Двери закрыты все равно.
8.46. Т. проходит сквозь соседний турникет.
8.47. День Т. погиб, похоронен и отпет.
Более того, погибли еще два выходных дня, поскольку Т. не мог ни о чем думать, кроме как о том, что произошло в пятницу (его унизили) и неизбежно произойдет в понедельник (его унизят опять). Можете не верить, но мысль о том, чтобы выйти из метро через другой турникет, пришла ему в голову еще в пятницу в 23.45 и была с негодованием отвергнута. Человеку не пристало отступать перед высокомерной железякой. Что-то вроде этого он мог бы сказать в 23.46, если бы мог думать в таких категориях. Но он ничего не сказал. Во-первых, чтобы не будить жену. А во-вторых, не сказал, и все. Две ночи почти не спал: с пятницы на субботу и с воскресенья на понедельник.
Вы еще здесь? История длинная и развивается неспешно. В понедельник в 8.43 крайний правый турникет спокойно пропустил Т. наружу. И во вторник. И в среду. А в четверг, раскрыв, было, двери, он внезапно их захлопнул, больно ударив Т. по ребрам. Битва продолжалась.
Провести шесть уроков физкультуры с ушибленными ребрами непросто, но он выстоял. В пятницу он ринулся сквозь турникет с безрассудством быка, в первый (и последний) раз попавшего на арену «Plaza Monumental de Las Ventas» и получил новый удар. Двери закрылись мгновенно, и Т. врезался в них с разбегу. Раздался треск. Нет, пластиковые двери выдержали. Треснуло ребро Т.
Вот в этот миг он стал Воином. Бесстрашным и Мудрым.
Он отступил.
Прошел через соседний турникет.
Пришел в школу.
Провел свои уроки.
Поговорил с учителем физики.
Посидел в классе информатики, с упорством вола раздвигая болотную жижу инета.
Распечатал пару схем на хромом школьном принтере и вновь пошел к учителю физики.
В субботу в его школе уроки физкультуры были только у младших классов. Он договорился о замене и поехал на «Горбушку». За оружием.
Итак. Понедельник. 23 марта. 8.42. Т. ровным шагом подходит к турникетам и направляется к крайнему правому в их ряду. Фальшивое бесстрастие открытых дверей больше его не обманет. Он Герой: слышит нервное гудение внутренностей турникета, видит мушиное подрагивание дверей. Сделав шаг внутрь, он останавливается и встречает прямым взглядом, обращенный к нему злой зрачок фотоэлемента.
Звучит музыка Мариконе. Человек и турникет замерли в ожидании. Падает секунда.
Вторая.
Третья.
Нечеловечески быстрым движением, Т. выхватывает электрошокер и приставляет его к болевой точке турникета. Разряд. Шипение. Невнятное движение пластика – последняя сверхтурникетная попытка закрыть двери. Жизнь уходит из машины судорожными толчками электричества.
Человек медленно проходит сквозь турникет. Поворачивая на лестницу, он бросает равнодушный взгляд на останки покореженного противника. Человеку больше нет дела до мертвой железки. Битва выиграна. Турникет перейден.
Отсюда мораль: построй себе триумфальную арку, пройди под ней и успокойся.
Заседание второе
Эту историю рассказал мне старый приятель, с которым мы встретились на ежегодном собрании однокурсников. Он рассказывал, водя вилкой по тарелке с салатом, а в это время еще один наш однокурсник пытался петь: «Виноградную косточку в теплую землю зарою» Булата Окуджавы на мотив «А ну давай наяривай» группы «Любэ».
Название басни:
Опять кто-то дышит в затылок
рассказчик:
Виктор Коренев
Так вот, этот мой приятель внезапно как-то обнаружил, что притягивает к себе придурков. Оговоримся, он никого не обзывал, он дал определение.
– Придурок, – сказал он, – это человек, поступающий дурно и знающий, что поступает дурно, но при этом делающий вид, что ничего особенного не происходит.
В отличие от дурака, то есть человека, слабо связанного с реальностью (объяснял он мне), придурок очень точно вписан в действительность. Он совершает дурные поступки не только и не столько для того, чтобы получить для себя какую-либо выгоду (тогда бы он был простым негодяем). Нет, он демонстративно не замечает разницы между хорошим и дурным. И это дает ему преимущество выживаемости. Дурак, следуя своей ДУРИ, часто вредит самому себе. Негодяй, делая НЕГОДНОЕ другим, постоянно вынужден оправдываться, пусть даже в собственных глазах, затрачивая на это дополнительные силы и эмоции. Придурок же может просто не замечать других людей и уважать только себя. Ergo: дураком быть глупо, негодяем – стыдно, а придурком – удобно.
Мой знакомый утверждал, что нашествие придурков началось внезапно. Его сосед, живущий этажом выше, как-то по весне стал слушать «Радио Куча» с открытым окном. Тут же другой сосед, недавно купивший большую машину марки «SsangYong», стал ставить ее у входа в подъезд, перекрывая проход на три четверти. Там как раз удобно: если двумя колесами на тротуар заехать, можно машину разместить, так, чтобы ее никто, проезжая мимо, не задел. И еще одно удобство состоит в том, что жители дома, проходя к двери в подъезд, неизбежно полируют бампер машины своими куртками и пальто.
Сам мой приятель, назовем его К., машину покупать себе почему-то не стал, на работу ездит в метро. Он мне рассказывал, что там, в вагоне метро, каждый раз, когда рядом с ним освобождается место, туда сразу же плюхается жирный потный тип с бутылкой пива в руке и желанием поговорить. Вариант: толстая тетка с мобильным телефоном, по которому уже говорит очень громко. Там же в метро не слышно ни черта.
Его студенты (а он преподает на факультете справедливого управления) очень полюбили на лекциях пить колу с чипсами и говорить по мобильным телефонам. Некоторые культурно выходят из аудитории, другие говорят так. Они не встают в тот момент, когда он входит в аудиторию, зато после лекции все они хлопают в ладоши. Придурки.
Этот мой приятель К., он, как вы, может быть, догадались, не очень коммуникабелен. Если возникает потребность пообедать в кафе в городе, то выбирает какой-нибудь дальний столик, где может посидеть в одиночестве. Но стоит ему занять этот самый столик, как тут же два соседних занимают компании молодых людей, говорящих между собой на своем языке, который им кажется нормальным. При этом оказывается, что юные существа за одним столом прекрасно знакомы с теми, что расположились за другим. А другой, напомню, – это через стол (и голову) К. И вот те, что сидят за одним столом, начинают дружить с теми, что сидят за другим столом. Дружат они, конечно, при помощи колы, сигарет, чипсов и слов. И все это через голову К. А у него на отдельные слова особая реакция: ему не хочется жить.
А еще у него рядом с домом построили новый футбольный стадион. И разные люди в разноцветных шарфах проходят теперь его двором по субботам. Они бросают под ноги упаковки из-под чипсов и бутылки из-под колы. И сигареты. И слова. И с ними идут их девушки. И они перебрасываются этими словами. И бутылками из-под колы. И им весело, а моему коллеге К. опять не хочется жить.
Когда я спросил его, почему же он решил, что именно он притягивает придурков, он мне ответил:
– А как же? Вот же они, рядом.
Действительно, ведь это его соседи, его улица, по которой идут ночью сограждане и весело бьют друг другу морду под его окном. И это его студенты оставляют в аудитории недоеденную пиццу. А метро? Ведь не может быть в Москве такого количества придурков с пивом и мобильниками, чтобы занимать все свободные места рядом с К. Или может?
А почему в Безымянной библиотеке, в профессорском зале, в любой его части, именно напротив К. садится доктор наук в засыпанном перхотью пиджаке, надетом на грязный свитер, долго толкает стол чугунным животом и начинает сморкаться в кулак?
Ему трудно стало заходить в продовольственные магазины. Там у касс его ждут покупатели, забывающие что-то там положить в тележку и уходящие надолго искать свой забытый товар, заставляя кассиршу (и К.) ждать. Там юные дамы с детьми-ангелами перекрывают своими тележками проходы между стеллажами, а другие, с такими же тележками и ангелами, тут же наезжают ему на пятки, стоит ему лишь чуть-чуть притормозить.