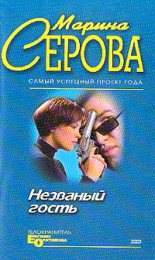Моя жизнь. Южный полюс Амундсен Руаль
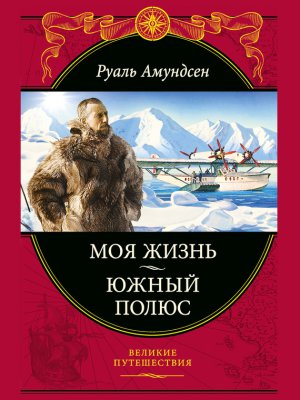
Прежде чем кончить эту главу, я хочу оглянуться на прошлое и вкратце перечислить предшествовавшие попытки совершить плавание Северо-западным проходом. Задолго до моей экспедиции мне удалось, в 1899 году, приобрести у одного старика из Гримсби, в Англии, всю существовавшую тогда литературу о Северо-западном проходе. Благодаря этим книгам я был подробнейшим образом осведомлен об интересующем меня предприятии еще прежде, чем стал готовиться к моей увенчавшейся успехом экспедиции. При первом взгляде на карту этих местностей можно убедиться, что там существует несметное число проливов, отделяющих группу островов от северных берегов Америки. При поверхностном рассмотрении казалось, что самый естественный путь — это тот, который идет прямо на запад от северной оконечности Боотии Феликс, так как карта там указывает на открытые воды с самого этого места. Это как раз и есть тот путь, которым так неудачно пыталось пройти большинство моих предшественников. В моем же предприятии больше всего способствовало удачному исходу то, что я шел на юг вдоль западного побережья Боотии Феликс до самой южной оконечности Земли Короля Уильяма и только оттуда повернул к западу, держась все время у самого берега.
Я должен принести горячую благодарность старику в Гримсби, так как в одной из его книг, повествующей о поисках Джона Франклина, предпринятых адмиралом Леопольдом Мак-Клинтоком [25], я прочел предположение, что настоящий проход будет найден тем, кто изберет более южный маршрут, нежели тот, которого до сих пор держались все исследователи. Это предположение явилось главным основанием в выборе моего пути.
Многие из прежних попыток пройти Северо-западным проходом были предприняты экспедициями, которые английское правительство посылало на помощь Джону Франклину, не вернувшемуся из своей последней экспедиции. Он и его спутники погибли от голода и, как ни странно, именно в тех местах, где мы сами напали на изобилие зверья и рыбы.
Несколько лет тому назад британское правительство назначило премию в 350.000 крон тому, кто первый откроет Северо-западный проход. Эта премия была разделена между доктором Джоном Рэ, служащим Компании Гудсонова залива, и адмиралом Робертом Ле Мессюрье Мак-Клюором. Моя удачная экспедиция на «Йоа» является первым и до сего дня единственным сквозным плаванием Северо-западным проходом (1927 год). Принимая во внимание связанные с ним бесчисленные трудности и опасности, в высшей степени сомнительно, чтобы кто-либо в будущем на него отважился.
Соображения, которыми руководствовалось британское правительство, присуждая премию Джону Рэ и адмиралу Роберту Мак-Клюру, были следующие: Мак-Клюр пытался пройти с запада и продвинулся до залива Милосердия на Земле Бенкса. Там ему пришлось покинуть свое судно, и он был в конце концов доставлен обратно вместе со своими людьми спасательной экспедицией, явившейся на Землю Бенкса с востока.
Доктор Джон Рэ был служащим Компании Гудсонова залива. Он вообще никогда не пытался предпринять плавание Северо-западным проходом, но в качестве начальника ряда экспедиций по суше к северным берегам Канады он составил в высшей степени ценные карты и привез первые достоверные сведения о судьбе Франклиновой экспедиции.
Едва ли стоит добавлять, что, хотя эти дельные люди и заслужили вполне награду за свои труды и успехи, экспедиция на «Йоа» все же остается первым и единственным плаванием всем Северо-западным проходом.
Достигнув, таким образом, первой цели, которую я поставил себе в жизни, я начал искать новые области для своей деятельности. Годы 1906 и 1907 я посвятил чтению лекций, разъезжая по Европе и Америке, и вернулся в Норвегию с деньгами, хватившими на уплату всем моим кредиторам, в их числе и тому, который чуть не помешал моей экспедиции. Я снова был свободен и мог приступить к составлению новых планов.
ГЛАВА 4.
ЮЖНЫЙ ПОЛЮС
Следующей задачей, которую я задумал разрешить, было открытие Северного полюса. Мне очень хотелось самому проделать попытку, предпринятую несколько лет тому назад доктором Нансеном, а именно — продрейфовать с полярными течениями через Северный полюс поперек Северного Ледовитого океана. Для этой цели я воспользовался знаменитым судном доктора Нансена «Фрам». Хотя оно со временем сильно обветшало и износилось, но я не сомневался, что оно еще способно выдерживать толчки полярных льдов и ему вполне можно доверить судьбу экспедиции. Я закончил все подготовительные работы, привел «Фрам» в порядок, погрузил снаряжение и продовольствие и подобрал товарищей, среди которых находился также летчик. Но вот, когда все уже было почти готово к отправлению, по всему миру распространилось известие об открытии адмиралом Пири Северного полюса в апреле 1909 года [26]. Это, конечно, было для меня жестоким ударом!
Чтобы поддержать мой престиж полярного исследователя, мне необходимо было как можно скорее достигнуть какого-либо другого сенсационного успеха. Я решился на рискованный шаг: заявил официально, что, оставаясь по-прежнему при своем мнении, считаю научные результаты такого плавания достаточно важными, чтобы не отказываться от последнего, и покинул с моими спутниками Норвегию в августе 1910 года.
Согласно первоначальному плану, мы должны были выйти в Северный Ледовитый океан через Берингов пролив, так как предполагали, что главное течение идет в этом направлении.
Наш путь из Норвегии в Берингов пролив шел мимо мыса Горн, но прежде мы должны были зайти на остров Мадейру. Здесь я сообщил моим товарищам, что так как Северный полюс открыт, то я решил идти на южный. Все с восторгом согласились.
История о наших достижениях в этой экспедиции подробно изложена в моей книге «Южный полюс». Описание экспедиции капитана Скотта [27] также настолько общеизвестно, что возвращаться к нему было бы бесцельным повторением. Однако здесь стоит привести некоторые соображения по поводу причин нашего счастливого возвращения из этого рискованного предприятия и трагической гибели капитана Скотта и его спутников. Я считаю уместным откровенно разобрать ту часть критики, которая была вызвана моим соревнованием с капитаном Скоттом, но основана на общераспространенном искажении некоторых существенных фактов; она, как мне известно, послужила поводом к несправедливому суждению обо мне со стороны многих людей. Одно из этих утверждений гласит, что я, выражаясь спортивным языком, недобросовестно «обошел» Скотта, якобы не уведомив его о моем намерении устроить состязание между нашими экспедициями. В действительности же дело обстояло совершенно иначе.
Капитан Скотт имел самые точные, какие только можно себе представить, сведения о моих намерениях не только еще до ухода его из Австралии, но и позднее, когда мы оба уже находились на месте наших зимовок в Антарктике. Покидая осенью 1910 года Мадейру, я оставил запечатанную в конверте депешу в Австралию на имя капитана Скотта, которую мой секретарь, согласно моему поручению, отослал несколько дней спустя после того, как мы вышли в море, — в ней я совершенно ясно и открыто извещал Скотта о моем намерении вступить с ним в состязание относительно открытия Южного полюса.
Позднее, зимою (в Антарктике, разумеется, стояло лето), группа из экспедиции Скотта посетила нашу зимовку в бухте Китовой — приблизительно в 60 норвежских милях от зимовки Скотта — и здесь осмотрела все наши подготовительные работы. Обеим экспедициям, конечно, пришлось провести зиму на своих зимовках, ожидая наступления теплой погоды для дальнейшего продвижения к полюсу. Мы не только оказали этим людям самое широкое гостеприимство и предоставили все возможности осмотреть наше снаряжение, но я даже пригласил их остаться у нас зимовать и забрать половину наших собак. Они отказались.
Мои опыт в полярных путешествиях укрепил во мне убеждение, что собаки являются единственными подходящими ездовыми животными в снегах и льдах. Они быстры, сильны, умны и способны двигаться в любых условиях дороги, где только может пройти сам человек. Скотт же явился на юг, снабженный моторными санями, не замедлившими доказать свою непригодность на снегу и льду. Он также привез с собою несколько шотландских пони, на которых и возлагал все свои надежды. Я с самого начала считал это роковой ошибкой, явившейся, к моему прискорбию, в значительной мере причиной трагической гибели Скотта.
Итак, повторяю, Скотт был полностью уведомлен о моих намерениях, прежде чем сам приступил к выполнению своих.
То обстоятельство, что мы устроили нашу зимовку на Ледяном барьере, самым существенным образом способствовало нашему успеху, так же как выбор Скоттом западной части материка явился причиной его гибели при возвращении с полюса. Прежде всего, вследствие воздушных течений в Антарктике погода на материке гораздо суровее, чем на льду. Климат Антарктики — даже в самых благоприятных случаях — является худшим во всем мире, главным образом из-за необычайно сильных штормов, которые здесь свирепствуют почти без перерывов. Сила ветра при этих штормах достигает невероятной скорости. Скотт испытал не раз ураганы такой силы, что положительно не мог удержаться на ногах. На своей зимовке Скотт и его товарищи во время томительных зимних месяцев почти беспрерывно страдали от скверной погоды. Наша зимовка на льду барьера, напротив, оказалась в более благоприятных условиях в смысле погоды, и нам ни разу не пришлось страдать от каких-либо неприятностей.
Приобретенный нами опыт помог нам построить абсолютно непроницаемое для ветра жилье, а так как мы сумели наладить и хорошую вентиляцию, то жили мы, можно сказать, со всеми удобствами.
Ледяной барьер, описанный так подробно во всех книгах об Антарктике, в действительности не что иное, как чудовищных размеров ледник, спускающийся с высот антарктических гор к морю. Этот ледник имеет сотни миль в ширину и от ста до двухсот футов в вышину. Как и все ледники, на нижнем своем конце он беспрестанно ломается. Поэтому мысль разбить постоянный лагерь на самом барьере постоянно отвергалась: это считалось слишком опасным.
Я внимательно проштудировал все труды прежних исследователей Антарктики. При сравнении различных описаний, читая об открытии Китовой бухты, я был поражен тем, что хотя эта бухта вдается в самый барьер, она не претерпела заметных изменений с того самого времени, когда была впервые открыта Джоном Россом в 1841 году. «Если, — думал я, — эта часть ледника фактически не сдвинулась с места в течение 70 лет, то такому явлению имеется только одно объяснение: ледник в этом месте должен покоиться на неподвижном основании какого-нибудь острова». Чем больше я раздумывал над этим объяснением, тем сильнее убеждался в его справедливости. Поэтому я нисколько не боялся за устойчивость нашей зимовки, принимая решение разбить наш постоянный лагерь на краю Ледяного барьера в Китовой бухте. Нет нужды добавлять, что убеждение мое всецело подтвердилось дальнейшими событиями. У нас имелись самые чувствительные приборы, и мы целыми месяцами вели беспрерывные наблюдения, но ни одно из них не отметило ни малейшего колебания льда в этом месте.
Выбор Китовой бухты дал нам множество преимуществ при попытке достигнуть полюса. Прежде всего мы находились здесь ближе к полюсу, чем Скотт в своей зимовке, а путь к югу, который мы вынуждены были избрать, оказался, как показали последствия, безусловно самым благоприятным. Но больше всего способствовало нашему успеху применение собак. Причина этого в кратких словах следующая: наш метод достижения полюса состоял в том, что мы с места нашей зимовки предприняли несколько повторных поездок к югу и устроили по определенному направлению и на расстоянии нескольких дней пути друг от друга склады продовольствия, вследствие чего могли проделать поход к полюсу и обратно, не таская взад и вперед наши запасы. Эти склады мы устроили очень быстро и в каждом из них оставили потребный минимум припасов для обратного пути.
Учитывая расстояния между этими складами и количество продовольствия, оставляемого в каждом из них, я мог уменьшить вес забираемого продовольствия, присчитав к нашим запасам и мясо собак, тащивших продовольствие.
Так как эскимосская собака дает около 25 килограммов съедобного мяса, легко было рассчитать, что каждая собака, взятая нами на юг, означала уменьшение на 25 килограммов продовольствия как на нартах, так и на складах. В расчете, составленном перед окончательным отправлением на полюс, я точно установил день, когда следует застрелить каждую собаку, то есть момент, когда она переставала служить нам средством передвижения и начинала служить продовольствием. Этого расчета мы придерживались с точностью приблизительно до одного дня и до одной собаки. Более чем что-либо другое, это обстоятельство явилось главным фактором достижения Южного полюса и нашего счастливого возвращения к исходной путевой базе.
Скотт и его спутники погибли при возвращении с полюса вовсе не вследствие огорчения, вызванного тем, что мы опередили их, а потому, что неминуемо должны были погибнуть от голода из-за недостаточного снабжения пищевыми припасами. Разница между обеими экспедициями состояла как раз в преимуществе собак над средствами передвижения другой экспедиции.
Дальнейшее течение событий общеизвестно. С четырьмя товарищами — Вистингом, Хансеном, Хасселем и Бьоландом — достиг я в декабре 1911 года Южного полюса.
Мы провели там три дня и исследовали прилегающий район нашей стоянки на 10 километров в окружности, чтобы на тот случай, если в наше счисление вкралась незначительная ошибка, все же быть вполне уверенным, что мы побывали на самом месте полюса. Мы водрузили там норвежский флаг и благополучно вернулись на нашу зимовку. Месяц спустя после нас, в январе 1912 года, Скотт достиг полюса и нашел там оставленные нами документы. Скотт и его четыре товарища проделали геройские усилия, чтобы вернуться к своей зимовке, но умерли от голода и истощения, не достигнув ее.
Никто лучше меня не может воздать должное геройской отваге наших мужественных английских соперников, так как мы лучше всех способны оценить грозные опасности этого предприятия.
Скотт был не только блестящий спортсмен, но и великий исследователь. К сожалению, не могу сказать того же о многих его соотечественниках. Как во время войны можно наблюдать, что бойцы вражеских армий питают друг к другу большое уважение, тогда как обитатели тыла считали своей обязанностью сочинять исполненные ненавистью песни о врагах, так и среди исследователей часто случается, что они глубоко чтят своих соперников, в то время как дома их соотечественники считают долгом уменьшать заслуги исследователя, если последний не принадлежит к их национальности. В связи с этим я считаю себя вправе утверждать, что англичане — народ, который неохотно признается в своих неудачах. Мне не раз пришлось это испытать на себе в связи с открытием Северо-западного прохода и Южного полюса. Двух примеров будет достаточно для пояснения моей мысли.
Год спустя после моей экспедиции на Южный полюс сын одного проживавшего в Лондоне и очень известного норвежца вернулся домой возмущенный, жалуясь своему отцу, что в школе учат, будто Скотт открыл Южный полюс. Ближайшее расследование установило, что мальчик говорил правду, а также тот факт, что и в других английских школах обычно не признают за норвежцами их успеха.
Но вот случай, еще более вопиющий и оскорбительный, так как его виновник находился на высоких ступенях просвещения и поэтому менее заслуживает снисхождения. Случай этот имел место на одном банкете, данном в честь меня Королевским географическим обществом в Лондоне в связи с моим докладом в этом городе и где почетным председателем был лорд Керзон [28] из Кедлестона. В произнесенной речи лорд Керзон подробно остановился на моем докладе, отмечая особенно то обстоятельство, что я приписываю часть успеха собакам. Лорд Керзон закончил свою речь следующими словами: «Поэтому я предлагаю всем присутствующим прокричать троекратное ура в честь собак», — причем он подчеркнул насмешливый и унизительный смысл этих слов, сделав в мою сторону успокоительный жест, — хотя я даже не пошевелился, — словно убедительно прося меня не реагировать на это слишком прозрачное оскорбление.
Первый порт, в который зашел «Фрам» на обратном пути, был Буэнос-Айрес. Воспользуюсь этим обстоятельством, чтобы выразить мою глубокую благодарность дону Педро Кристоферсену, который, как известно, постоянно проживает в столице Аргентины. Его своевременная помощь деньгами, добрыми советами и личными услугами не раз выручала экспедицию.
Повсюду в Европе, не только на моей родине, но и в других странах, нас встречали с большими почестями. Также и во время предпринятой вскоре поездки по Соединенным Штатам я был предметом самого лестного внимания. Национальное географическое общество почтило меня своей большой золотой медалью, которою я был награжден в Вашингтоне в присутствии целого ряда выдающихся людей. Я всегда буду сожалеть о том, что во время этого чествования случилось нечто, очевидно, дискредитировавшее меня в глазах общества, так как впоследствии оно при всяком случае относилось ко мне с ошеломляющим пренебрежением. Я говорю «ошеломляющим», потому что до сих пор не могу постигнуть, за что я попал в такую немилость.
Самое неприятное произошло весною 1926 года. Я тогда читал в Соединенных Штатах доклады об удачном полете 1925 года до 88° северной широты. Я получил также приглашение от Национального географического общества прочесть доклад на эту тему в Вашингтоне и обещал заехать туда на обратном пути. Мой маршрут от берегов Тихого океана к востоку лежал через Канзас-Сити недалеко от тюрьмы в форте Ливенворса. Я вспомнил о своем совместном пребывании с доктором Куком в течение двух исполненных опасностей лет в Антарктической экспедиции на «Бельгике». Вспомнил также, как я обязан ему за доброту ко мне, тогда неопытному новичку, и то обстоятельство, что я обязан ему жизнью, ибо говоря по правде, это он спас нас от многих опасностей плавания, я решил, что самым скромным проявлением моей благодарности будет поездка в тюрьму, где я смогу приветствовать моего бывшего друга в его нынешнем несчастье. Я должен был сделать это хотя бы для того, чтобы впоследствии не упрекать себя в самой низкой неблагодарности и презренной трусости. Я не хотел, да и теперь не хочу судить о позднейшей жизни доктора Кука. Обстоятельства, приведшие его в заключение, мне совершенно неизвестны, и я не желаю ни знакомиться с ними, ни составлять о них собственное мнение. Даже если бы он был виновен в преступлениях и более тяжких, нежели те, за которые его покарали, мой долг благодарности и мое желание навестить его остались бы неизменны. Что бы ни сделал Кук — это был не тот доктор Кук, которого я знал в моей молодости, — человек с доброй, честной душой и великим сердцем. Какие-нибудь моральные неудачи, против которых сам он был бессилен, должно быть, испортили и изменили в корне этого человека.
Репортеры, с которыми я говорил после моего визита к доктору Куку, распространили слух, якобы я заявил, что доказательства Пири об открытии им Северного полюса недостаточны, тогда как у Кука они очевидны [29]. В действительности же я ни с какими журналистами на эту тему не говорил и приписываемые мне высказывания являются чистейшей выдумкой. Однако, Национальное географическое общество сочло их достоверными, так как отклонило мой протест по телеграфу, и взяло обратно свое приглашение прочесть лекцию.
Очевидно, они считали себя вправе поступить таким образом, опираясь на газетные сообщения. Нечего и говорить, что я счел этот отказ за необдуманный и опрометчивый поступок, основанный на ложной информации.
Возвращаюсь к 1914 году. Пока я находился в Америке, занятый добыванием продовольствия и снаряжения для трансполярного дрейфа, «Фрам» был на пути в Норвегию. Мне удалось приобрести биплан Фармана [30], который должен был находиться на «Фраме» для рекогносцировочных полетов над льдами Арктики. То была моя вторая попытка применить воздухоплавание для полярных исследований, и этого факта, а также и даты — 1914 — не следует забывать ввиду значения, которое приобрели аэропланы и дирижабли в годы 1925—1926 в моих арктических экспедициях. Об этом значении я буду говорить подробнее в одной из следующих глав.
Мне только что доставили в Осло аппарат Фармана, как разразилась мировая война со всеми ее ужасами. Об экспедиции теперь, конечно, не могло быть и речи. Поэтому я предоставил самолет государству для надобностей норвежского воздушного флота.
ГЛАВА 5.
ВО ВЛАСТИ ДРЕЙФУЮЩИХ ЛЬДОВ
Во время войны мне было нечего делать, и я решил последовать примеру столь многих обитателей нейтральных стран, а именно попытаться нажить себе состояние. Я надеялся добыть таким путем средства, которых всецело хватило бы на снаряжение следующей моей экспедиции. Только материально не обеспеченный исследователь может себе представить, какие громадные препятствия выпадают на долю всех исследователей, сколько им приходится расточать времени и трудов, чтобы выжимать деньги на экспедиции. Бесконечные промедления, унижения, которым подвергается их самолюбие и даже честь при изыскании средств, составляют трагедию жизни исследователя. Я думал, что нашел, наконец, возможность избавиться от этих испытаний.
Возможность эта появилась тогда во всех нейтральных странах, и нигде в такой мере, как у нас в Норвегии. Наличие кораблей имело существенное значение для союзников, а услуги прекрасного норвежского торгового флота ценились особенно высоко. Я вложил свой весьма скромный капитал в акции пароходных компаний и, подобно многим другим, заработал много денег. Так как я занимался этим делом не ради самого дела, то отстранился от него в 1916 году, решив, что с меня достаточно Я нажил около миллиона крон. Этого должно было хватить на покрытие всех расходов на предполагаемую мною новую экспедицию в Северный Ледовитый океан.
Теперь, когда у меня хватало средств на лучшее, «Фрам» уже не удовлетворял меня. Судно было ветхое, сильно пострадавшее от времени, и ремонт для снаряжения его в новое плавание обошелся бы очень дорого. Кроме того, я уже набросал проект судна, гораздо лучше приспособленного для моих целей. Я показал эти наброски известному конструктору и кораблестроителю Христиану Иенсену, который разработал чертежи и согласился строить судно. Оно должно было иметь 120 футов в длину и 40 футов в ширину, но самое важное в нем была форма его корпуса. Последний должен был иметь форму яйца, разрезанного пополам вдоль. Другими словами, подводная часть судна должна была быть повсюду округлой, чтобы судно, стиснутое льдами, не представляло нигде плоскостей, на которые лед мог бы давить; лед должен был выжимать судно кверху. Таким образом, эта форма обеспечивала наибольшее сопротивление при наименьшей поверхности.
Так как в Норвегии не было достаточно больших бревен, то мне пришлось выписать лес специально из Голландии. Это вызвало, конечно, необычайно большие расходы не только по самому материалу, но и по доставке его в Норвегию. Корабль строился на верфи Иенсена в Аскере. 7 июня 1917 года он был спущен со стапелей и получил название «Мод» в честь нашей королевы.
Следующая моя задача состояла в закупке продовольствия для экспедиции. Я закупил его в Америке. Во время этой подготовки правительство Соединенных Штатов пригласило меня осмотреть линию фронта во Франции и Бельгии. Думаю, что поводом к этому приглашению послужили нижеследующие причины.
В 1917 году немцы начали свою бесчеловечную подводную войну. Я никогда не соглашался с теми, кто осуждал немцев за пользование подводными лодками с целью повредить корабли неприятеля или даже корабли нейтральных стран, когда существовали явные доказательства того, что суда эти перевозили военную контрабанду. Германия могла надеяться на победу только в том случае, если ей удалось бы помешать союзникам получать снабжение морским путем. И я находил, что немцы правы, применяя с этой целью подводные лодки. Но я никогда не признавал за немцами права пользоваться подводными лодками в тех случаях, когда подозрительное судно даже не подвергалось осмотру, а пассажиры и команда не доставлялись в безопасное место. Поэтому, когда немцы окончательно отбросили последнюю человечность и стали бесцеремонно топить корабли без всякого предупреждения, то я стал разделять общее всем цивилизованным людям чувство горячего возмущения.
В октябре 1917 года возмущение это достигло крайних пределов, когда немецкая подводная лодка без предупреждения потопила в Северном море одно из наших торговых судов и даже стреляла по спасательным шлюпкам, которые экипаж пытался спустить на воду.
Перед самой войной кайзер лично наградил меня немецким орденом, пожалованным мне за открытие Южного полюса. Кроме того, у меня было несколько немецких медалей.
В день, когда пришло известие об этом жестоком потоплении, во мне возникло неудержимое желание проявить свое мнение каким-нибудь поступком. Но по свойственной мне сдержанности я не хотел поступать опрометчиво. Я дал себе сутки срока, чтобы обдумать свое первоначальное решение. Но сутки прошли — и решение осталось неизменным. Взвесив все точно и приняв твердое намерение, я отправился в германское посольство в Осло, захватив с собою конверт, заключавший все мои германские знаки отличия с приложенным к ним официальным заявлением. В посольстве меня провели к князю Виду, исполнявшему тогда обязанности германского посла. Я часто встречался с ним в обществе, и отношения у нас с ним всегда были очень приятные, поэтому он с улыбкой подошел ко мне и протянул руку. Я же смотрел на него совершенно серьезно и сделал вид, что не замечаю протянутой руки. Я заявил, что пришел по важному делу, и прочел вслух мое тщательно составленное письмо, так как боялся, что недостаточно владею немецким языком для свободного и сильного выражения моих чувств. Высказав таким образом свое негодование и гнев, я заявил, что возвращаю все знаки отличия, полученные мною от кайзера, на которого смотрю отныне с отвращением и презрением, вследствие чего награды, им данные, утратили для меня всякую ценность.
Возможно, что американское правительство прислало мне вышеупомянутое приглашение отчасти вследствие этого моего поступка. Отправляясь в Америку, я посетил в Лондоне в январе 1918 года адмирала Симса. Он любезно объяснил мне все приемы борьбы союзников с подводными лодками.
Весною 1918 года я читал в Соединенных Штатах доклады о своем посещении прифронтовой полосы и вернулся в Норвегию всего за несколько недель до того, как «Мод» была приведена в полную готовность к своему долгому плаванию. Я решил избрать кратчайший путь к Северному Ледовитому океану. Для этого я намеревался огибать берега Норвегии от Осло до Тромсё. Оттуда я собирался идти Северо-восточным проходом вдоль северных берегов Европы и Азии мимо мыса Челюскина и обогнуть Новосибирские острова, где должен был попасть в то самое полярное течение, которое я мог бы встретить, если бы выбрал путь через Берингов пролив.
Незадолго до отплытия «Мод» из Осло, поздней осенью 1918 года, норвежский посол в Берлине в письме советовал мне испросить разрешения на мое плавание в Северный Ледовитый океан у германских морских властей, так как иначе могло случиться, что «Мод» будет взорвана миной немецкой подводной лодки. Я в ответ объявил, что никогда не стану просить такого разрешения ни у какого правительства.
Тут адмирал Симс оказал мне большую услугу своей любезностью. Он прислал мне сведения насчет самого благоприятного времени для моего плавания, когда все немецкие подводные лодки, обслуживавшие Северный Ледовитый океан, возвратились на свои базы за продовольствием. Мы покинули Тромсё 16 июля 1918 года и пошли вдоль северных берегов Европы на восток.
В течение десяти дней мы все на борту пребывали в состоянии напряженного беспокойства, так как знали, что до самого Белого моря мы не застрахованы от встречи с подводной лодкой. Наши опасения были причиной комичного случая, происшедшего 25 июля, когда мы подошли к Югорскому Шару. На палубе не было никого, кроме вахтенных, — все остальные находились внизу. Неожиданно разразившийся шторм потребовал аврала для выполнения нужных маневров. Поэтому я неожиданно появился на ступеньках трапа и крикнул вниз: «Все наверх! Скорее!» Минуту спустя я с удивлением увидел, что по ступенькам трапа стремительно несется мне навстречу моя команда: некоторые были в самых несложных ночных костюмах, другие впопыхах кое-как напялили чужое платье, а некоторые даже появились в полном штатском платье с фетровыми шляпами на головах и с саквояжами в руках. Удивление мое сменилось громким хохотом, когда я сообразил, что мой неожиданный зов был принят за сигнал опасности взрыва от мины подводной лодки. Мой смех, а также погода вывели ребят из заблуждения, и они вскоре вернулись на палубу, приняв более подходящий вид для работы.
Северо-восточный проход [31], разумеется, был уже неоднократно пройден до нас и для опытных мореплавателей не представляет особых трудностей. Первое достойное упоминания затруднение постигло нас в Карском море, да и оно быстро было преодолено. 1 сентября мы пришли на остров Диксон, где пополнили запасы горючего, и после четырехдневного пребывания там пошли дальше в восточном направлении. 9 сентября мы прошли мимо мыса Челюскина, замечательного тем, что он является самым северным пунктом Азии. Здесь мы встретили сплоченный старый лед и стали медленно подвигаться вперед по узкой полынье, тянувшейся вдоль берега.
13 сентября лед стал вовсе непроходимым, и мы принялись искать места, где можно было бы стать на зимовку.
Однако местность здесь мало благоприятствовала нашим целям. Мы нигде не могли отыскать защищенную со всех сторон бухту, какую нам посчастливилось найти при плавании Северо-западным проходом. Здесь вообще не было никаких бухт. Все наши надежды сосредоточились на двух крохотных островках, которые до некоторой степени могли уменьшить натиск льдов, напиравших с севера на материк. К последнему здесь было легко подойти, так как за этими островками до самого берега тянулась полынья, но, несмотря на заманчивый вид этого места, я все же боялся, не окажется ли оно для нас впоследствии мышеловкой.
Мы подошли к островкам с подветренной стороны и пришвартовались к крепкому льду в 150 метрах расстояния от берега. Эту малонадежную бухту назвали гаванью «Мод», и, несмотря на первое неблагоприятное впечатление, нашли в ней надежное убежище на целый год.
Покончив с установкой судна, мы высадились на материк, чтобы осмотреть, годится ли берег для устройства наших обсерваторий, помещений для собак и т.п. Мы нашли подходящие условия и построили обсерваторию и помещение для 20 собак. Мы так торопились, что через две недели, то есть 30 сентября, все было закончено. Теперь зима нас не пугала.
Так как удобство зимней квартиры зависит в первую очередь от возможности укрыться от резких полярных ветров, то нашим следующим заданием было нагрести к бортам «Мод» как можно больше снега, так что вскоре вокруг корабля образовался высокий снежный вал, достигавший уровня палубы и круто обрывавшийся на лед. Ради большего удобства мы спустили более полого на лед сходню, ведшую до самых дверей кают на палубе «Мод» прямо на лед. По одной стороне этой сходни в качестве перил был протянут трос, за который в гололедицу можно было держаться, чтобы не упасть.
В нашей своре была собака, ожидавшая прибавления семейства. Она меня очень любила и каждое утро, чуть только я выходил на палубу, бросалась ко мне, чтобы приласкаться. Обычно я брал ее на руки и спускался с нею на лед, и она сопровождала меня в моей утренней прогулке, которую я ежедневно совершал для тренировки. Однажды утром, когда я только что взял ее на руки и хотел уже спускаться, Якоб, сторожевой пес на «Мод», налетел на меня со всех ног и так сильно толкнул, что я поскользнулся, сорвался со сходни, головою вниз скатился с крутого склона и упал всей тяжестью правым плечом на лед. В первый момент у меня зарябило в глазах. Когда я очнулся, мне кое-как удалось принять сидячее положение, но плечо болело нестерпимо. Я не сомневался в тяжелом переломе, что и подтвердилось впоследствии рентгеновским снимком. В конце концов мне все же удалось вскарабкаться на палубу и протащиться до моей каюты. Там уже Вистинг, прошедший курс первой помощи в одной из больниц Осло, употребил все свои старания, чтобы выправить перелом. Но боль была так жестока, что я не мог перенести прикосновения. Поэтому Вистинг прибинтовал мне руку к туловищу, и так я пролежал в постели восемь дней. После этого я уже начал бродить, держа руку на лямке. Но неудачи мои еще не кончились. Злая судьба продолжала меня преследовать.
Утром 8 ноября я вышел на палубу так рано, что было еще темно почти как ночью. От тумана свет казался еще слабее. Якоб, сторожевой пес, бросился ко мне и, как-то особенно попрыгав и поплясав вокруг меня, скатился по мосткам вниз и исчез на льду. Опасаясь нового падения, я не осмелился последовать его примеру, а степенно спустился по сходне и пошел дальше вдоль корабля, осторожно обходя попадавшиеся на пути ледяные и снежные глыбы. Очутившись под носовой частью судна, я остановился, но не успел простоять и нескольких секунд, как услыхал слабый звук, такой странный, что сразу насторожил уши. Сначала звук был похож на слабое жужжание в такелаже, когда начинается ветер. В следующий момент звук усилился, и я узнал в нем чье-то тяжелое дыхание. Я напряженно стал всматриваться в сторону, откуда он доносился, и, наконец, увидел Якоба, несшегося со всех ног к кораблю. В следующую секунду позади выросла фигура громадного белого медведя, бежавшего вплотную по его следам. Звук, услышанный мною, был не что иное, как сопение быстро приближавшегося зверя.
Я сразу представил положение вещей. Это была медведица с медвежонком. Якоб учуял ее и напал на малыша. Гнев матери, по-видимому, моментально убедил Якоба, что у него есть неотложные дела на борту. Положение не лишено известного юмора, но мне некогда было им забавляться, так как я сознавал опасность, которая мне грозила. Увидав меня, медведица села и уставилась на меня. Я тоже смотрел на нее. Однако думаю, что мы смотрели друг на друга с разными чувствами. Оба мы находились на одинаковом расстоянии от сходни. Что мне было делать? Я был один, беспомощный, владея только одной, да еще левой, рукой. Выбора не было никакого. Я побежал как можно скорее к сходне, но медведица сделала то же самое. Началось состязание на скорость бега между разъяренным зверем и полукалекой. Шансы последнего были невелики. В тот самый момент, когда я достиг сходни и хотел поспешить наверх на палубу, медведица хорошо рассчитанным ударом лапой в спину повалила меня наземь. Я упал прямо на сломанное плечо, лицом в снег и стал ждать конца. Но час мой еще не настал. Якоб, который уже давно находился на палубе, вдруг вздумал опять сбежать вниз, вероятно чтобы поиграть с медвежонком. Для этого ему надо было пробежать мимо того места, где медведица была занята мною. Увидав Якоба, она даже подпрыгнула высоко на воздух и бросила меня, перенеся все свое внимание на Якоба. Я недолго раздумывал, вскочил и убежал от опасности. Никогда за всю мою жизнь не был я так близок к смерти.
Этот случай с тех пор часто занимал меня в отношениях душевных движений в моменты высшей опасности. Я всегда слыхал, что человек перед лицом смерти, в последние короткие мгновения с бешеной быстротой переживает в памяти всю свою минувшую жизнь. Однако, когда я лежал под медведицей, ожидая смерти, мысли мои не были заняты ничем значительным. Наоборот, из всего пережитого передо мною вдруг возникла одна сцена из лондонской уличной жизни и в связи с нею мысль, которую в такую минуту безусловно можно было назвать пустой. А именно — я поставил себе вопрос: сколько головных шпилек сметаются с тротуара Риджент-стрит в Лондоне по утрам в понедельник? Почему такая дурацкая мысль явилась мне в один из самых серьезных моментов моей жизни, — этот вопрос я предоставляю психологам, но я с тех пор часто задумывался над тем, как странно может реагировать человеческий мозг в момент величайшей опасности.
Царапины на моей спине были пустячные, но я боялся, что опять сломал себе плечо при падении; к счастью, этого не случилось. Тогда я сам прописал себе долгий и болезненный курс лечения. Вначале я старался поднимать руку настолько, чтобы можно было держать в ней карандаш. С этой целью я несколько раз в день усаживался на стул, опирался на него спиной и, взяв правую руку левой, изо всех сил моей левой руки поднимал вверх правую, повторяя с небольшими промежутками времени эту болезненную процедуру. К концу года я уже мог поднять правую руку до уровня моего лица, но прошло еще несколько месяцев мучительных упражнений, прежде чем руке моей вернулись все ее способности.
Первая возможность посоветоваться с врачом явилась лишь в 1921 году в Сиатле [32]. Он сделал несколько рентгеновских снимков, изучил их со вторым врачом, после чего оба еще раз подвергли меня внимательному обследованию. Результаты последнего их сильно поразили. Они сказали мне, что плечо мое, судя по рентгеновским снимкам, находится в состоянии, при котором я не должен был бы вовсе владеть рукою. Очевидно, к числу других моих особенностей принадлежит и та, что я являюсь каким-то невозможным, но удачным чудом медицины.
Вскоре после этого со мной произошел еще худший случай. Наша обсерватория была небольшим помещением без окон и с очень плохой вентиляцией. Она освещалась и отоплялась шведской патентованной лампой, в которой керосин распылялся при помощи ручного насоса. Этот газ в момент распыления возгорался и давал красивый и жаркий желтый свет. Я всегда пользовался этими лампами в моих экспедициях и считаю их идеальными для этой цели.
Однажды я пошел в обсерваторию производить наблюдения. Через короткое время я заметил, что впадаю в сонливое состояние, сопровождаемое ненормальным сердцебиением. Сначала я не отдавал себе в этом отчета, как не замечаешь незначительных изменений в окружающей обстановке, когда бываешь углублен в работу. Только спустя некоторое время я обратил внимание на эти странные симптомы и встревожился, но тут же почувствовал, что сейчас упаду в обморок К счастью, мне удалось дотащиться до двери и выйти на свежий воздух.
Я так и не выяснил впоследствии, что тогда, собственно, произошло — поглотило ли пламя бульшую часть кислорода воздуха, или же при распылении керосина возникла какая-то неправильность и лампа стала выделять ядовитые газы. Как бы там ни было, но я оказался основательно отравленным, и это очень отозвалось на моем сердце. Прошло несколько дней, прежде чем утихли сильные сердцебиения; прошли целые месяцы, прежде чем я мог сделать физическое усилие, не испытывая тотчас одышки, и целые годы, прежде чем я поправился окончательно. Еще в 1922 году врачи советовали мне прекратить исследовательскую деятельность, если я хочу остаться в живых. Невзирая на эти советы, я остался на своем посту и еще сегодня, когда мне исполнилось 55 лет, с удовольствием готов держать пари, что с успехом могу соревноваться с большинством молодых людей в двадцатипятилетнем возрасте.
Этот случай имел место перед Новым годом, а в феврале я был еще так слаб, что подъем на холм 50 футов высоты поблизости от «Мод», чтобы увидеть возвращение солнца, чуть не стоил мне жизни.
Несмотря на наступление весны, мы по-прежнему были крепко стиснуты льдами, которые против обыкновения не вскрывались. Настало лето, а мы все еще оставались запертыми за островками По ту сторону их простиралась открытая вода, но как туда добраться, когда на тысячу метров тянулся толстый береговой припай? Я вспомнил средство доктора Кука, примененное в экспедиции «Бельгики», и распорядился просверлить пятьдесят дыр во льду на пути к открытой воде и в каждую дыру заложить взрывчатые вещества, соединив их между собою электрическим проводом так, чтобы все заряды взорвались одновременно. К нашему огорчению, взрыв не имел никаких заметных для глаза последствий. Тем не менее я был уверен, что от взрыва лед непременно должен дать трещины, хотя мы их и не видели. Из наших навигационных таблиц я узнал, что уровень самой высокой воды ожидался в ночь на 12 сентября. Я надеялся, что в этот день вода поднимет лед настолько, что невидимые трещины откроются и ледяная поверхность, кажущаяся на глаз сплошной, расколется на части.
Никогда не забуду я этой ночи на 12 сентября. Я был свидетелем одного из самых красивых зрелищ, какие только мне приходилось наблюдать во время моих полярных экспедиций. Небо было совершенно чисто, и сияющая луна обливала весь снежный ландшафт сверкающим блеском. Во многих местах мы различали белых медведей, расхаживавших по льду. Кроме луны, сверкало еще великолепное северное сияние.
Мы стояли на палубе, очарованные красотою ночи, но нервы наши были до крайности напряжены из-за сомнительного исхода тех упований, которые мы возлагали на подъем воды. И вот наконец по линии взрыва раздался треск, вскоре показались большие трещины и цельная ледяная поверхность раскололась на куски. Мы не стали терять времени и пошли навстречу открытой воде.
После того как мы покинули эту зимовку, разыгралась трагедия, единственная за все время моей деятельности полярного исследователя. Экипаж «Мод» состоял из десяти человек. Один из молодых матросов, Тессем, страдал хроническими головными болями и очень хотел вернуться на родину. Желание вполне понятное, если принять во внимание, что мы уже целый год находились в пути, а все еще не добрались до места, откуда, собственно, должна была начаться наша экспедиция. Нам оставалось еще покрыть несколько сотен миль к востоку, прежде чем можно было рассчитывать встретить то северное течение, с которым мы должны были дрейфовать к полюсу.
Поэтому я, не задумываясь, отпустил его и также не возражал, когда Кнутсен изъявил желание сопровождать Тессема. Я даже весьма обрадовался этой возможности отправить почту на родину. Путешествие, которое они намеревались совершить, казалось им, так же как и нам остальным, сущей детской забавой для таких бывалых на севере молодцов. Требовалось проехать около 800 километров по льду до острова Диксон, то есть проделать путь гораздо менее значительный, чем мое странствование от острова Гершеля до форта Эгберт, описанное мною в предыдущей главе. Кроме того, молодые люди обладали преимуществом превосходного во всех отношениях снаряжения. Поэтому при нашем уходе с места зимовки они весело махали нам на прощание, и мы махали им в ответ, уверенные, что встретим их в Осло по возвращении. Но судьба рассудила иначе. Одного нашли мертвым вблизи острова Диксон. Второй пропал без вести. Бедные ребята! Оба были смелые и верные товарищи, и мы всегда будем скорбеть об их утрате [33].
Мы взяли курс на восток, прошли через пролив, отделяющий Новосибирские острова от материка [34], и вышли к востоку от них в открытое море. На следующий день, 20 сентября, мы снова наткнулись на сплоченный лед, и так как всякое продвижение вперед казалось невозможным, мы снова пришвартовались у кромки льда и принялись за наблюдения над направлением и характером течения. Наблюдения установили наличие сильного течения к югу. Это, конечно, означало, что вскоре мы начнем дрейфовать обратно к материку. Мы решили воспользоваться первой возможностью, чтобы продвинуться вперед и искать убежища у мыса Шелагского [35]. Но счастье опять обернулось против нас, мы прошли не дальше острова Айона [36], где застряли во льдах 23 сентября. Мы врезались в лед на 50 метров и начали готовиться к зимовке.
Вскоре мы открыли, что на острове есть туземцы, и приобрели у чукчей, как называются эти первобытные жители Сибири, большое количество оленьего мяса на зиму. Этот народ, по-видимому, находится в родстве с эскимосами побережий Северной Америки и Гренландии, но язык у них совсем другой. Между обоими этими родственными племенами не существует никакой связи, кроме как в районе Берингова пролива. Там несколько эскимосов из Аляски перешли через пролив и поселились на северном побережье Сибири. Они настолько сроднились со своими братьями, что многие из них говорят на обоих языках. Думаю также, что многие заключают между собою браки.
Доктор Свердруп, научный сотрудник нашей экспедиции, решил воспользоваться нашим зимним пребыванием и отправиться на юг по Сибири с целью собрать научные материалы о чукчах и их стране. Для этого он примкнул к туземному племени, с которым отправился на юг, и вернулся на «Мод» лишь в середине мая. Он написал увлекательную книгу об интересных научных наблюдениях, собранных в этом путешествии.
Когда лед в июле взломался, я решил продолжить путь до Номе [37]. Такое решение было вызвано рядом весьма основательных причин. Прежде всего я хотел пополнить наши запасы и произвести кое-какой ремонт. Во-вторых, приобретенный нами опыт указывал, что, только достигнув Берингова пролива, мы будем в состоянии проникнуть в область дрейфующих льдов. Наконец, сердце у меня все еще было не в порядке, несмотря на то, что со времени истории с керосиновой лампой прошло уже больше года, и поэтому я хотел воспользоваться случаем и посоветоваться со специалистом. Плавание от Айона до Номе совершилось без всяких препятствий, и мы прибыли туда в августе.
В Номе еще четверо людей из судового экипажа решили покинуть экспедицию. После этого на «Мод» остались только я в качестве начальника экспедиции, научный сотрудник доктор Свердруп, Вистинг и Олонкин. Быть может, мы подвергались большому риску, пускаясь в плавание на таком большом судне, как «Мод», всего с четырьмя людьми экипажа для управления судном в случае непогоды, но все мы были люди с большим опытом, никто из нас не боялся за себя, и действительно за все время не случилось ничего такого, что потребовало бы помощи большего числа людей.
Единственная постигшая нас неудача была поломка винта, случившаяся после того, как мы обогнули мыс Сердце-Камень. Эта авария принудила нас зимовать в соседстве с мысом. Нагромождение прибрежных льдов выдавило нас на берег, а при весеннем таянии и разрушении льда мы опять оказались на воде без каких-либо повреждений превосходно построенной «Мод».
Всю зиму по соседству с нами стояли три палатки [38], обитаемые чукчами. Разумеется, мы быстро с ними подружились, вследствие чего я отважился собрать сведения о самом интересном из этих трех чукотских семейств. Семья состояла из старика, старухи и шестилетнего мальчика. Однажды я спросил женщину: «Это твой сын?» — заранее уверенный в ответе, что ребенок — ее внучек, оставшийся сиротою. К моему удивлению, она ответила только «да». Очевидно, заметив мое удивление, она добавила: «Его сделал мой муж». И рассказала мне целую историю. Она сказала, что они с мужем поженились очень молодыми, как обычно делается у этого племени (эскимосы и чукчи с детства обручаются родителями и очень рано начинают жить как муж с женою), но у них так долго не было детей, что они в конце концов утратили всякую надежду на прибавление семейства. Для обоих это было большим горем, и однажды жена сказала мужу: «Нам нельзя состариться без ребенка в доме. У такого-то (она назвала по имени кого-то из соплеменников) очень славная жена. Поди к нему и скажи, что нам очень хочется иметь ребенка, и попроси его позволить своей жене родить нам одного».
Муж сделал как ему говорила жена, а любезный сосед дал свое согласие. Результатом был шестилетний малыш, предмет моих вопросов, который по плоти был сыном своего отца, а в силу любви равно и сыном его жены, которая так желала, чтобы мальчик появился на свет.
Свободные любовные отношения вообще весьма обычны между этими обитателями севера. Это, быть может, следует скорее приписать условиям, в которых приходится бороться за жизнь этим немногочисленным племенам, нежели слабо развитому нравственному чувству.
В течение зимы эти туземцы сердечно привязались к нам, так же как и мы к ним. С наступлением весенней оттепели первой нашей заботой было, конечно, отвести скорее «Мод» в Сиатл для ремонта. Поразмыслив о трудностях управления судном при плавании во льдах, я решил, что неплохо было бы увеличить состав нашего экипажа. Поэтому я спросил у пятерых из чукчей, не желали ли бы они сопровождать нас в плавании. И ответ глубоко тронул меня: «Куда ты поедешь, туда мы поедем с тобой; все, что ты от нас потребуешь, мы исполним; только если ты прикажешь нам, чтобы мы себя убили, то мы попросим тебя повторить твой приказ». Я с радостью поймал их на слове, и они больше года были исполнительными работниками и нашими верными помощниками.
Никакая работа не казалась им слишком трудной или утомительной. Во всяком положении они сохраняли спокойствие и бодрость. Но по приезде нашем в Сиатл двое из них чуть не помешались от городского шума, и они не успокоились, пока я не позволил им вернуться домой на пароходе, который шел на север и должен был высадить их на сибирский берег, откуда они легко могли добраться до родных мест. После того как я выдал им заработную плату, старший попросил у меня несколько стеклянных бусин. Я удивился. «На что им эти бусы, — думал я, — когда у их жен таких бус и без того девать некуда?»
Один из чукчей объяснил мне, в чем дело. «По пути на родину нам придется в Сибири переходить через глубокие реки, и никогда нельзя поручиться, что речные боги не разгневаются и не потопят нас, когда мы пойдем по слабому льду, который трудно заранее распознать. Поэтому нам очень хотелось бы иметь бусы для подарка речным божествам, чтобы они дали нам пройти целыми и невредимыми».
Но вернемся к мысу Сердце-Камень, откуда мы потом отправились в Номе. Когда я выбирал пятерых чукчей, которые должны были сопровождать нас, то торговец селения стал предостерегать меня против одного из них по имени Какот. Он считал Какота каким-то чудаком, который, как он выразился, «никуда не годится». Я же был другого мнения, хотя Какот действительно казался мне каким-то грустным.
Однажды Какот явился ко мне и попросил дать ему на короткое время отпуск. Когда я спросил его о причинах, он объяснил, что хочет отправиться на север к родственному племени, обитавшему в нескольких днях пути, чтобы повидать свою маленькую дочку, прежде чем отправится в такое далекое плавание. Жена у него умерла, а дочка жила у какого-то родственника, который обещал воспитать ее как свою. Какот получил известие, что это племя сейчас голодает, и он боялся за своего ребенка.
Я охотно поверил его словам, так как в том году зверья у берегов водилось очень мало и только наше присутствие у мыса Сердце-Камень спасло туземцев от голода, потому что мы делились с ними нашим продовольствием и пополняли их скудные запасы.
Поэтому я немедленно дал Какоту согласие на его поездку, и он исчез. Когда он не вернулся в конце недели в назначенный им самим срок, я немного удивился, но все же не потерял к нему доверия. Три дня спустя я был вознагражден за свое терпение, так как, выйдя в сумерки на палубу, я увидел перед собою Какота.
— Где же ребенок? — спросил я его.
Он указал мне на палубу, где лежал сверток оленьих шкур.
— Принеси сюда, — сказал я.
Какот взял сверток и вручил его мне. Я отнес его в кают-компанию под свет лампы и позвал моих спутников. Развернув шкуры, мы увидели печальное зрелище: маленькую пятилетнюю эскимосскую девочку, совершенно голую и превратившуюся от голода в скелет. Она была вся в язвах, а волосы сбились в войлок и кишели паразитами.
Первым нашим делом было выкупать ее и остричь ей волосы. Здесь следует упомянуть, что ни один туземец никогда не купается от колыбели до могилы. Поэтому дочка Какота оказалась в числе чрезвычайно редких туземцев, которым довелось выкупаться. Затем мы смазали ее болячки смесью дегтя со спиртом, смастерили ей приличный наряд и принялись ее откармливать. Через несколько недель это был уже другой ребенок. Болячки зажили, тело приняло нормальный вид, и она превратилась в прелестное создание. Я уговорил Какота взять ее с собою в Сиатл.
По дороге мы остановились в Беринговом проливе у Восточного мыса [39] и там посетили одного австралийского промышленника по имени Карпендаль. То был типичный голубоглазый австралиец, женившийся на туземке и имевший от нее много детей. Между ними была девятилетняя девочка. Я сказал ему, что охотно взял бы эту девочку в качестве подруги для дочки Какота и поместил бы обеих в норвежскую школу. Это дало бы им возможность путешествовать по белому свету и получить образование в школе, а также имело бы величайший научный интерес, так как позволило бы изучить их природные свойства и умственные способности. Карпендаль согласился, и когда в 1922 году я вернулся в Норвегию, то привез с собой двух девочек: одну пяти, другую девяти лет. Я поместил их в школу, где они учились два года. Когда я приехал за ними, чтобы доставить их обратно к родным, учителя подтвердили мне, что девочки были самыми способными ученицами в классе.
По внешности обе девочки представляли собою полный контраст. Дочка Какота при черных волосах и глазах имела совершенно белую кожу. Дочка Карпендаля имела, наоборот, очень темную смуглую кожу, несмотря на то что была полукровка. Разумеется, обе девочки повсюду обращали на себя внимание, не только в Осло, но и при первом их соприкосновении с цивилизацией, а также во время путешествия по Соединенным Штатам и через Атлантический океан.
ГЛАВА 6.
ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ
Пока «Мод» в Сиатле ремонтировалась и принимала на борт новые запасы продовольствия, я вернулся на родину, чтобы раздобыть денег. Это было в январе 1922 года. С глубокой благодарностью я услышал, что стортинг [40] ассигновал 500.000 крон на продолжение экспедиции «Мод». Дар этот был для меня тем приятнее, что был пожалован без всяких хлопот или ходатайств с моей стороны. Тем сильнее было во мне и чувство благодарности. К сожалению, падение курса денег после войны сказалось и на норвежской кроне, и когда я получил эту сумму, ее покупательная способность уменьшилась наполовину — обстоятельство, которого не могли предвидеть жертвователи. Я был огорчен, но не терял мужества и решил все же продолжать свою работу в надежде, что счастье по-прежнему будет ко мне благосклонно и мне как-нибудь удастся раздобыть необходимые средства на финансирование экспедиции.
Между тем я всецело был во власти новой идеи относительно разрешения арктической проблемы с помощью метода, который, я знал наверно, должен был произвести полный переворот в области полярных исследований. Читатель, быть может, не забыл, что уже 12 лет тому назад я приглашал летчика для участия в моей экспедиции. Читатель вспомнит также, что пять лет спустя я приобрел аэроплан Фармана для применения его в Арктике, но принес его в дар норвежскому правительству, когда разразилась мировая война. Теперь же, в 1922 году, я более чем когда-либо был убежден, что настало время применить этот новый метод в полярных льдах.
В одной из предыдущих глав я указывал на переворот, произведенный в области полярного исследования методом Нансена, а также объяснил, что применение легких саней, запряженных собаками, открыло последующим исследователям тайну успеха быстрых продвижений к полюсу. Моя идея ввести воздухоплавательную технику в полярное исследование означала, по моему мнению, не меньший переворот в этой области. В одной из следующих глав я остановлюсь подробнее на этом предмете. В настоящий же момент я только коснусь вкратце этого вопроса.
Когда я в 1922 году собирался вернуться обратно в Сиатл, где ожидала меня «Мод», я решил взять с собою самолет для применения его во льдах Арктики. Во время моего пребывания в Осло я услыхал о новом типе аппарата Юнкерса [41], только что побившего мировой рекорд на длительность полета, продержавшись в воздухе без посадки в течение 27 часов. В этом достижении я увидел возможность осуществить свою честолюбивую мечту, прочно укоренившуюся во мне, а именно — совершить перелет с материка на материк через Северный Ледовитый океан. Я решил попытаться перелететь с мыса Барроу на северном побережье Аляски прямо на Свальбард. Северный полюс меня больше не интересовал, так как блестящий подвиг Пири в 1909 году уничтожил значение этой цели для всех последующих исследователей.
Перелет же через Северный Ледовитый океан являлся, напротив, совершенно новым предприятием. Он представлял также и величайший научный интерес. Самой пространной, до сих пор не исследованной областью земного шара (земли или воды) был район Северного Ледовитого океана, простиравшийся между северным побережьем Аляски через Северный полюс и до Северной Европы. Научное значение его исследования следующее: полюсы «делают климат» умеренных поясов. Воздушные течения, обтекающие земные полюсы, влияют на ежедневную температуру Нью-Йорка или Парижа гораздо сильнее, нежели что-либо другое, за исключением солнца. Вследствие этого знание географических и метеорологических условий в районе полюсов имеет огромное значение для науки. Поэтому мой интерес к трансполярному перелету являлся не только одной жаждой приключений, но имел также научно-географические основы.
Я осуществил свои мечты об аппарате Юнкерса, купив таковой в Нью-Йорке, и взял его с собою в Сиатл, куда вернулся весной 1922 года. По пути в Сиатл я остановился в Нью-Йорке и обсудил там план моего полярного полета с директорами аэропланного завода «Кэртис» в Гарден-Сити, на Лонг-Айленде. Они одобрили применение аппарата в силу его качеств: огромного радиуса действия и безопасности конструкции в пожарном отношении. Оба эти качества самолета Юнкерса являются главным образом следствием применения материала, из которого целиком построен самолет — нового металла дюралюминия, совмещающего легкость алюминия с прочностью стали. Кейс, председатель компании «Кэртис», поддержал мое увлечение планом исследования Арктики с воздуха Он великодушно предложил мне аэроплан фирмы «Кэртис» типа «Ориоль» в качестве вспомогательного аппарата для небольших рекогносцировок. Я с благодарностью принял его предложение.
Вскоре после моего приезда в Сиатл все приготовления к экспедиции были закончены. Мы были снабжены продовольствием на семь лет. В числе прочего у нас имелся полный набор самых новых приборов для научных наблюдений. Мы покинули Сиатл 1 июня 1922 года. Состояние льдов в это лето было столь же скверное, как и в предыдущее. Поэтому, прибыв в Диринг на Аляске и услыхав, что в проливе Коцебу стоит торговая шхуна, направлявшаяся к мысу Барроу, я решил отыскать ее капитана, чтобы вступить с ним в переговоры относительно того, не согласится ли он взять на борт своего судна большой аэроплан Юнкерса, чтобы дать «Мод» возможность идти прямо к району плавучих льдов и начать дрейф как можно скорее. Соглашение состоялось, вследствие чего летчик лейтенант Омдаль и я перебрались с «юнкерсом» на шхуну, которая пошла вдоль берегов Аляски к северо-западу, в то время как «Мод» взяла курс прямо на север, навстречу льдам, но из-за скверного состояния льдов не дошла до мыса Барроу, и нам пришлось сойти на берег в бухте Уэнрайт.
Я воспользовался кратким пребыванием в Лондоне в последних числах февраля, чтобы обратиться к известному специалисту по сердечным болезням и узнать, какой вред причинила мне история с течью керосиновой лампы и надолго ли. Приговор был краткий и определенный: «Никаких экспедиций, — и доктор добавил: — Если вы хотите прожить дольше тех немногих лет, что вам остались, избегайте всяких значительных физических усилий».
Несмотря на это, девять месяцев спустя, 19 ноября 1922 года, я, в сопровождении почтальона-туземца, проделал по снегу 1000 километров от мыса Барроу до Коцебу и покрыл это расстояние в 10 дней, то есть в среднем около 180 километров от Коцебу до Диринга, а затем в течение четырех последующих дней я покрыл и 400 километров от Диринга до Номе. Иначе говоря, после того как специалист по сердечным болезням вычеркнул меня в феврале из «списка живых», я в ноябре того же года совершил самые трудные санные путешествия моей жизни, покрыв фактически 1600 километров по снегу и льду, делая ежедневно в среднем около 100 километров и посвящая ночью всего несколько часов отдыху и сну.
Это было пять лет тому назад, и хотя с тех пор я много раз подвергал жестокому испытанию мои физические силы, мне тем не менее до сих пор не приходилось страдать от неприятных последствий. Я это рассказываю не для того, чтобы дискредитировать превосходного врача или похвастаться собою, но чтобы указать читателю, какие чудесные возрождающие силы содержит тело человека, который, как, например я, с юности живет в разумных гигиенических условиях и вследствие этого сохраняет себя таким, каким создала его природа.
Зиму 1922/23 года я провел в Номе, откуда уехал в апреле, и 12 мая 1923 года вернулся в Уэнрайт. Лейтенант Омдаль воспользовался долгим ожиданием, чтобы привести в порядок аэроплан Юнкерса, который был уже совсем готов к полету. Аппарат вместо колес был поставлен на лыжи, чтобы сделать возможной посадку его на лед. Вскоре после моего приезда Омдаль предпринял первый пробный полет. При посадке левая лыжа отлетела, словно бумажная. Эта лыжа, как оказалось при обследовании, была сконструирована таким образом, что все давление на шасси приходилось на одну металлическую часть, которая была не толще обыкновенного листа оберточной бумаги. Мы не имели возможности починить лыжу, но если бы даже и починили, все равно было ясно, что необходима более совершенная конструкция, чтобы вообще рассчитывать на благополучный спуск. У нас оставался единственный выход — попробовать пустить в ход пару имевшихся у нас поплавков, предназначенных, однако, для спуска на воду. Но они тотчас же доказали свою полную непригодность. Поэтому я решил остаться в Уэнрайте, а Омдаля послать в Сиатл за новым шасси.
С этого момента я был вовлечен в водоворот событий, приведших меня к самому горестному, самому унизительному и в общем самому трагическому эпизоду моей жизни. Норвежский консул в Сиатле рекомендовал мне, когда я туда приехал, некоего датчанина Хаммера. Этот датчанин, судовой маклер в Сиатле, человек очень энергичный, имел большие связи в городе и пользовался хорошей репутацией. Один из моих друзей уже впоследствии, когда стали известны факты, которые сейчас будут описаны, называл Хаммера «преступным оптимистом». Эта характеристика является предпосылкой настоящего рассказа, так как теперь, когда я могу окинуть взглядом все случившееся, она в точности соответствует моему собственному суждению о Хаммере, а также поможет читателю правильно понять все происшедшие события.
Когда я в 1921 году познакомился с Хаммером, у меня не было никаких оснований предполагать в нем что-либо другое, кроме искреннего интереса ко мне и к полярным исследованиям. В течение этой зимы он оказал нам большие услуги при покупке продовольствия и при починке винта «Мод», когда мы заново снаряжались для полярного дрейфа.
Но вернусь к моему рассказу. Когда я решил послать Омдаля за новым шасси, а самому остаться его ждать, я получил от Хаммера телеграмму следующего содержания: «Приезжайте точка. Есть для вас три новых самолета». Чрезвычайно обрадованный этой неожиданной вестью, я поспешил отправиться на зов и скоро был уже в Сиатле, где повидал Хаммера и обсудил с ним его предложение.
На мою беду мне пришлось скоро узнать, что имеется еще одна наука, которой наряду с прочими необходимо обладать исследователю, но которую, к несчастью, ему в силу образа его жизни почти невозможно изучить, а именно: опыт и уменье разбираться в коммерческих делах. Напасти, вскоре обрушившиеся на меня, возникли исключительно из-за моей неопытности в делах. Мне еще никогда не представлялось случая ближе познакомиться с методами ведения дел, и я всегда предоставлял улаживание деталей финансового характера моих экспедиций другим лицам. До сих пор это не причиняло мне никаких неприятностей. Я делал так, как мне говорили, и все сходило отлично. Но с Хаммером дело обернулось иначе.
Хаммер при свидании рассказал мне, что ездил в Берлин посоветоваться с врачами и сделать себе операцию; во всяком случае, он сослался на это, как на причину своей поездки. В действительности же он отправился в Германию, чтобы посетить заводы Юнкерса, и, пользуясь тем, что природа наградила его языком без костей, он уговорил фирму предоставить ему самолет самого последнего усовершенствованного типа.
Я очень ценил предприимчивость Хаммера и щедрость фирмы «Юнкерс», но из опыта, приобретенного мною на мысе Барроу, я вынес убеждение, что самолет Юнкерса не приспособлен для такого полета, где все шансы на успех были на стороне гидроплана. Другими словами, я увидел, что спуск на очень неровный полярный лед не может осуществляться на практике при помощи лыж и тому подобных приспособлений. Нам нужны были самолеты специальной постройки, способные к старту на воде, снегу и льду.
Хаммер предложил мне раздобыть такие гидропланы. Тут поднялся вопрос: откуда взять средства? Хаммер уверял меня, что сумеет их найти, и развернул передо мною весьма гениальный план.
Он предлагал пустить в продажу напечатанные на самой тонкой бумаге открытки, которые я должен был взять с собою при трансполярном перелете, с тем чтобы покупатели этих открыток, впервые посланных воздушной почтой через полюс, могли удивить и порадовать ими своих друзей. Эти открытки действительно были впоследствии заказаны и выполнены и продавались по доллару за штуку. У Хаммера набралось в конце концов около десяти тысяч долларов.
Между тем я поехал в Европу и по настоятельной просьбе Хаммера — я только впоследствии понял, какую сделал глупость, — дал ему доверенность на все коммерческие сделки. Прежде всего я отправился в Осло и с большими трудностями уговорил норвежское правительство выпустить особые марки для этих открыток. Продажа марок должна была дать значительную выручку, так как филателисты до сих пор считали Норвегию образцовой страной в смысле корректности эмиссии марок, и действительно, Норвегия еще ни разу не прибегала к выпуску спекулятивных марок. Поэтому полярная марка приобретала особую ценность и интерес в глазах коллекционеров.
Пока я в Осло занимался этими делами, Хаммер приехал в Европу, и мы вместе отправились в Копенгаген и завязали сношения с аэропланной фирмой «Дорнье» [42]. Гидроплан этого завода был признан мною самым лучшим для предполагаемого полета. Хаммер тотчас же заказал не один, а целых три таких гидроплана и сошелся на цене в 130.000 крон за каждый. Со свойственной ему ловкостью он убедил фирму так же, как и меня, что денег на расплату хватит вполне, и фирма по его заказу приступила к проектированию и постройке трех гидропланов, не имея других гарантий, кроме небольшой суммы на текущем счету. В действительности же Хаммер не внес ничего, и его «преступный оптимизм» один был виновен в его уверенности добыть средства для внесения платежей в срок.
Хаммер с убедительным красноречием уверял и меня, что деньги явятся вовремя. Поэтому, исполненный надежд, я всецело посвятил себя продаже марок, чтобы со своей стороны содействовать добыче возможно бульших средств. Фирма «Дорнье» приступила к постройке гидропланов на своих заводах в Марина-ди-Пиза, в Италии, так как в то время Германии в силу мирного договора не было разрешено строить самолеты таких размеров на своей территории.
У меня не было ни малейших подозрений в отношении Хаммера, пока я не приехал весною 1924 года в Марина-ди-Пиза, чтобы осмотреть гидропланы и присутствовать на пробных полетах.
Только здесь я впервые услыхал тревожные слухи, которые Хаммер распускал среди итальянцев. Очевидно, он занимался безответственной болтовней и много хвастался. Это возбудило во мне подозрение, но все же пока у меня еще не было оснований, чтобы уличить его.
Немного позже приехали некоторые из моих норвежских товарищей, чьим словам я мог слепо доверять, и рассказали мне кое-что из тех историй, которые распространял Хаммер. Например, он хвастался, что уже предпринял на Шпицбергене двадцать один полет, а также что он сам будет управлять одним из гидропланов в трансполярном перелете. Ничего не могло быть лживее подобных утверждений. В самолетах и обращении с ними он понимал не больше ребенка, а в управлении ими и того меньше. Было бы смехотворной нелепостью взять такого неопытного во всех отношениях человека в экспедицию, которая в лучшем случае была чрезвычайно рискованна и требовала знания Арктики, какими он никогда не обладал.
Подобных историй накопилось так много, что в конце концов мне пришлось телеграфировать Хаммеру приказ приостановить всю экспедицию. Я был взбешен и, так сказать, «дал ему пинка», чтобы прекратить всякую его связь с экспедицией и моими частными делами. Поэтому я опубликовал о моем разрыве с Хаммером. Ему сразу стало ясно, что теперь обнаружатся и другие его проделки, в которые он замешал мое имя и от которых ему не поздоровится. Очевидно, эти поступки не выдержали контроля его собственной совести, так как он не стал дожидаться того времени, когда придется отвечать за них. Вместо того чтобы лететь на Северный полюс, он «улетучился» в Японию.
Разумеется, что как только я убедился в недобросовестности Хаммера и опубликовал о нашем разрыве, все, имевшие с ним дела, сообщили мне, какие обязательства он взял на себя от моего имени. То, что при этом обнаружилось, задало бы работы человеку и более искушенному в делах, нежели я. Для меня же, всегда бывшего недальновидным в коммерческих делах, положение оказалось прямо таки убийственным. Я испытывал унижение, которое трудно выразить словами, так как Хаммер от моего имени подписал обязательства столь значительные, что мне никогда не удалось бы их покрыть, и таким образом выставил меня в глазах света каким-то мошенником-аферистом.
Но горькая чаша моих страданий еще не была испита до дна. Брат мой Леон Амундсен всегда вел на родине все мои дела с тех самых пор, как я посвятил себя карьере исследователя. Я всегда отсылал ему все заработанные деньги и также все счета; он производил банковые операции и уплачивал все долги. Он вел также все мои деловые книги, и я никогда не просматривал их, так как доверял ему вполне. И вот в несчастье этот брат обернулся против меня. Я говорю об этом со стыдом и никогда не стал бы говорить об этом в печати, если бы его предательство не привело к процессу, сделавшему его поступки общеизвестными в Норвегии.
Из книг моего брата выяснилось, что я должен ему около 100.000 крон. Не сомневаюсь, что брат в нормальных условиях, имея ко мне доверие, отсрочил бы мне этот долг, пока доходы от моих докладов и книг не дали бы мне возможности покрыть его. Но внезапное обнаружение других долгов, которые Хаммер наделал от моего имени тут и там и повсюду, возбудило в моем брате опасение, что его претензии потонут в общем банкротстве. Вместо того чтобы всеми силами помочь мне выдержать натиск кредиторов и этим дать мне возможность удовлетворить их, он пустился на отчаянный ход в надежде покрыть свою претензию раньше остальных кредиторов.
Единственным моим активом был принадлежавший мне дом в Буннефиорде, и вот мой брат заявил, что он примет меры к продаже дома для покрытия своих претензий. Это предательство причинило мне бесконечную боль, но я был также и возмущен его жадностью. Я немедленно обратился к юристу, который заверил меня, что план моего брата продать дом будет преследоваться судом в качестве преступной попытки обмануть остальных кредиторов. Это значительно облегчило мое положение. Тогда я потребовал осмотра книг, но брат отказал мне.
Так как на меня наседали со своими требованиями остальные кредиторы, мне было безусловно необходимо установить в точности размеры моих долгов, чтобы выработать план их выплаты. Для этой цели мне было, конечно, весьма важно получить книги от моего брата. У меня оставалось только два выхода: или получить постановление суда об истребовании книг от моего брата на предмет просмотра их, или объявить себя несостоятельным и просить о назначении конкурса [43]. В последнем случае суд вытребовал бы книги для собственного осведомления, и брату пришлось бы их предъявить. Перспектива официального конкурса наполняла меня невыразимым стыдом, но так как я не видел другого выхода, то пришлось решиться на это.
Итак, книги моего брата были просмотрены согласно постановлению суда и все прочие долги приняты ко взысканию с конкурсной массы.
Брат подал на меня в суд, но, разумеется, проиграл дело. Тогда он пытался испробовать самое низкое средство — клевету. К счастью, его собственному адвокату удалось вовремя помешать ему. Я часто впоследствии раздумывал о причинах, изменивших до такой степени характер этого человека. Ребенком он был самый милый и послушный из нас, братьев. Он был «ягненочком» нашей семьи. Что же здесь играло роль? Наследственность? Не может быть. Мать и отец были лучшими и честнейшими на свете людьми.
После всего этого я очутился без единого гроша, и только благодаря милости суда у меня сохранилась крыша над головой. Но это было моей последней заботой. Мои соотечественники, которым я не раз доставлял новую славу моими открытиями, всегда радовались возможности меня чествовать. Теперь же, когда я, по собственному неведению, очутился в унизительном положении, все норвежцы, как один человек, накинулись на меня с непостижимой яростью. Люди, поклонявшиеся и льстившие мне, распространяли теперь обо мне самые скандальные слухи. Норвежская пресса обрушилась на меня. Открытий Северо-западного прохода и Южного полюса они у меня не могли отнять, и с моей стороны было бы ложной скромностью назвать их иначе, нежели славными подвигами. Но теперь, когда я был беспомощен и в тяжелом положении, те же уста, которые называли меня гордостью Норвегии, не постеснялись повторять шитую белыми нитками ложь и злорадно старались загрязнить мою честь и посрамить мое имя. Некоторые даже утверждали, что объявленный мною конкурс был результатом уговора с братом, чтобы обмануть моих кредиторов. Еще более злобные умы изобрели историю, будто две эскимосские девочки, привезенные мною в Норвегию, являются моими незаконными детьми, отцами которых я обманным образом выставил Какота и австралийского торговца, — такая нелепая клевета, от которой бы всякий рассмеялся, если бы мои злоключения не сделали даже самых уравновешенных людей восприимчивыми к любому измышлению фантазии. Ведь каждый мог высчитать, что в годы до и после рождения этих девочек я находился далеко от их родины.
Одним словом, невозможно выразить на человеческом языке всю горесть моего тогдашнего положения — всего каких-нибудь три года тому назад. После тридцати лет целеустремленных трудов, после жизни, прожитой в самых строгих понятиях о чести, я подвергся — только из-за того, что доверился аферисту, — самому унизительному для человека позору, когда его имя треплют в грязи самого гнусного скандала и самых грязных подозрений. Без сомнения, я совершил тяжкий проступок, так слепо доверив свои дела чужим людям, хотя до сих пор не понимаю, каким образом я мог бы устроиться иначе. За этот проступок я заслужил наказание в виде назначенного конкурсного управления моими делами, но уж наверное не заслужил издевательств и неблагодарности от моих соотечественников. Я питаю глубокое презрение к людям, которые воспользовались моим несчастьем, чтобы посредством клеветы добивать человека, чье величайшее преступление в их глазах состояло в том, что он достиг большего, чем они сами, и которые своими сплетнями злорадно надеялись свалить человека с достигнутого им пьедестала.
Я благодарю судьбу, давшую мне возможность совершить с тех пор новые открытия, подтвердившие серьезность моего характера и целей моей жизни, а также за то, что мне удалось вернуть уважение тех, кто по-настоящему сочувствовал моим планам и не поддался влиянию всех клеветнических слухов, а, наоборот, великодушно помог мне осуществить мои последние предприятия.
Осенью 1924 года я отправился в Америку, чтобы снова заработать денег посредством докладов и газетных статей. В ряде статей, появившихся в различных городах, я высказывал мнение, что воздушные корабли (дирижабли) являются будущим средством для научного исследования полярных областей. Рекогносцировки на аппаратах тяжелее воздуха я считал осуществимыми и полезными, но лишь для общего решения географических проблем. Для более же глубокого изучения непременно потребуются дирижабли из-за их большей надежности. Отсюда я делал вывод, что аппараты тяжелее воздуха только тогда будут пригодны для наших целей, когда геликоптер усовершенствуется настолько, что даст им возможность немедленного старта и спуска по отвесной линии.
Перспективы моей следующей экспедиции были поневоле ограничены до разведывательного трансполярного перелета с материка на материк через Северный полюс по той простой причине, что самолеты гораздо дешевле дирижаблей.
Вследствие запутанности моих финансов и клеветы, запятнавшей мое доброе имя, мне и так было чрезвычайно трудно найти средства и поддержку на организацию перелета.
Никогда не переживал я такого подавленного состояния, как по возвращении в Нью-Йорк из поездки с докладами. Путешествие в финансовом отношении оказалось неудачным. Газетные статьи тоже дали мало доходов. Сидя в своем номере в гостинице Вальдорф-Астория, я думал о том, что, по видимому, все пути для меня навсегда закрыты и моей карьере исследователя наступил бесславный конец. Отвага, сила воли, непоколебимая вера — эти качества привели меня ко многим достижениям, невзирая на окружавшие меня опасности. Теперь же эти самые качества, казалось, были совершенно не нужны. Я более чем когда-либо за все 53 года моей жизни был близок к мрачному отчаянию.
Когда я, раздумывая таким образом, сидел у себя в номере, вдруг зазвонил телефон. Я взял трубку и услышал мужской голос, спрашивавший, когда меня можно повидать. «Я встречал вас несколько лет тому назад во Франции во время войны», — добавил он. Сотни праздных любопытных втирались ко мне именно такими способами, отнимая у меня время своими бесцельными разговорами. Теперь же более чем когда-либо у меня были основания для сухого короткого ответа, так как я приобрел печальный опыт общения с посетителями, которые таким образом вручали мне судебные повестки или желали вступить со мной в переговоры по поводу долгов Хаммера. Я вовсе не был в настроении принимать случайного знакомого, который мог сослаться только на «встречу во Франции».
Но следующие раздавшиеся из трубки слова заставили меня встрепенуться. Голос продолжал: «Я в качестве любителя страстно интересуюсь полярными исследованиями и, пожалуй, мог бы предоставить средства для новой экспедиции». Нечего и говорить, что я предложил ему прийти ко мне тотчас же. Пять минут спустя я уже сидел, углубленный в разговор с Линкольном Элсвортом, чье имя теперь настолько известно всему миру, что мне незачем подробно рассказывать, кто он такой [44].
ГЛАВА 7.
ПОЛЕТ С ЛИНКОЛЬНОМ ЭЛСВОРТОМ
Элсворт рассказал мне, что обладает состоянием и большой склонностью к приключениям. Если бы я согласился разделить с ним руководство экспедицией и он будет иметь счастье перелететь через Северный Ледовитый океан, то он может предоставить мне средства на покупку двух гидропланов и на частичное покрытие прочих расходов.
Я был в восторге. Горести прошедшего года развеялись, и подготовительные работы заставили меня забыть даже все ужасы, пережитые мною в качестве дельца.
Элсворт предоставил в мое распоряжение 85.000 долларов наличными деньгами.
Я пригласил для каждого гидроплана пилота и механика. Гидропланы были доставлены в Кингс Бей [45] (Свальбард) весною 1925 года. 4 мая все было готово к старту, и к этому дню все собрались на Свальбарде. Кроме Элсворта и меня, здесь были Рисер-Ларсен [46] и Дитриксон — пилоты и Омдаль и Фейхт — механики.
Когда мы собрались для первого «военного совета», Рисер-Ларсен сообщил нам весьма ошеломляющую новость. Он узнал, что итальянское правительство намерено продать дирижабль «№ 1» и что цена его, наверно, не превысит 400.000 крон. Мы были столь же удивлены, как и восхищены. Ни Элсворт, ни я никогда не думали, что можно так дешево приобрести дирижабль. Мы никогда не остановились бы на гидропланах, если бы знали о существовании такой возможности. Нашей целью был перелет через Северный Ледовитый океан, с материка на материк через Северный полюс. С гидропланами этот перелет являлся рискованным предприятием, но мы были счастливы подвергнуться этому риску в надежде на удачный исход, тогда как с дирижаблем успех предприятия являлся вполне возможным.
Элсворт сейчас же обещал предоставить 100.000 долларов на покупку «№ 1», если Рисер-Ларсен сумеет подтвердить достоверность продажи. Мы решили, однако, не откладывать предполагаемого полета на гидропланах, но единодушно согласились на следующее лето во что бы то ни стало повторить полет уже на дирижабле.
У меня имелись особые причины быть восхищенным известием о «№ 1», так как около двух лет назад я побывал в качестве гостя на борту этого дирижабля и совершил на нем короткий перелет. И впоследствии я не терял его из виду и отметил его неоднократные удачные полеты, доказавшие мне, что радиус его действия достаточно велик для перелета через Северный Ледовитый океан. Конечно, потребуются кое-какие небольшие переделки. В частности, необходима была конструкция твердого носа, дабы получить возможность пришвартовывать дирижабль к мачте, вместо того чтобы помещать его в закрытый ангар Я ликовал от счастья при мысли, что наконец-то моя мечта о почете через Северный Ледовитый океан стоит на пороге осуществления.
Наши два гидроплана Дорнье имели номера «№ 24» и «№ 25» Элсворт, Дитриксон и Омдаль поместились на «№ 24» в качестве навигатора, пилота и механика, в то время как я, Рисер-Ларсен и Фейхт исполняли соответствующие обязанности на «№ 25».
Мы покинули Свальбард 21 мая 1925 года и взяли курс на Северный полюс. Так как мы теперь были уверены, что на следующий год осуществим перелет на дирижабле с материка на материк, то решили рассматривать настоящую попытку как развернутую рекогносцировку. Мы намеревались тщательно изучить состояние льда как можно дальше к полюсу, в особенности в отношении возможности посадки на него. Быть может, нам удастся открыть существование какой-нибудь новой земли, так как эта часть Северного Ледовитого океана была еще совсем не исследована.
Каждый гидроплан был снабжен горючим для полета на 2600 километров .
Достигнув 88° северной широты — приблизительно в 1000 километрах от Свальбарда, — мы в первый раз за все время полета заметили под собою открытую воду. Желая удостовериться, что это не был обман зрения, мы описали несколько кругов на небольшой высоте. При этом задний мотор «№ 24» стад давать перебои, вследствие чего нам пришлось пойти на посадку. Место для спуска словно было приготовлено для нас самой судьбой. Во всяком другом пункте нашего полета на протяжении 1000 километров нам пришлось бы спуститься на неровный торосистый лед, что означало почти неизбежную поломку наших аппаратов.
Небольшая полынья, куда мы спустились, была как раз таких размеров, что мы могли рассчитывать на благополучный спуск. Наш гидроплан «№ 25» ударился о льдину в конце полыньи, но, к счастью, успел к тому времени настолько потерять скорость, что при этом не пострадал.
Мы лихорадочно принялись за работу, пытаясь спасти «№ 25» Вскоре мы заметили нечто, что заставило нас прибавить усердие — вода в полынье стала замерзать. Через шесть часов после нашего спуска она замерзла окончательно. Несмотря на это, нам общими усилиями удалось высвободить аппарат из ледяных тисков.
Мы находились в чрезвычайно критическом положении: в 1000 километрах от населенных мест мы опустились среди льдов на аппаратах, приспособленных исключительно для посадки на воду, причем мотор одного из них был выведен из строя, а запасов продовольствия при полных пайках хватило бы приблизительно на три недели.
Единственная надежда на спасение заключалась в том, чтобы перевести всю команду на «№ 25» и попытаться во что бы то ни стало подняться на этом самолете. Последнее было не так-то легко, даже и в самых лучших условиях старта, принимая во внимание, что «№ 25» должен был теперь поднять вдвое большее число людей против того, на которое он был рассчитан. Но этих-то лучших условий как раз и не было. Вместо того чтобы подниматься с воды, как полагается гидропланам, нам приходилось подниматься со льда, и притом не гладкого, как на катке, а такого, каким бывает торосистый лед, состоящий из льдин всевозможных размеров, нагроможденных друг на друга в неописуемом беспорядке.
Поэтому у нас не оставалось другого выхода, как только выровнять ледяную поверхность на таком пространстве, какое необходимо, чтобы самолету хватило места для разбега перед стартом. Целых двадцать четыре дня мы работали над этим как бешеные. Это было состязание в беге с самою смертью, так как голод стоял на пороге и сопротивляться долго мы не могли. Мы жили на 255 граммах пищи в день. Каждое утро мы получали кусочек шоколада, распущенного в горячей воде, и три овсяные галеты. В обед мы ели по чашке похлебки из пеммикана. Вечером опять то же подобие шоколада и опять три галеты. Конечно, мы испытывали муки сильнейшего голода, но удивительно, что мы сохраняли бодрость и здоровье, несмотря на скудное питание и утомительную работу.
На двадцать четвертые сутки у нас была готова более или менее ровная стартовая дорожка длиною в 500 метров . «№ 25» нужно было по-настоящему 1500 метров открытой воды, чтобы взлететь. Но нам не удалось выровнять больше 500 метров . Дорожка в конце спускалась ухабом к небольшой полынье, лежавшей фута на три ниже и имевшей в ширину 15 футов . По ту сторону полыньи была плоская льдина диаметром 150 метров , а непосредственно за ней возвышался ледяной торос около 20 футов высоты. Последнего мы, конечно, не могли устранить. По моим расчетам, мы в эти 24 дня удалили около 500 тонн льда.
Передышки, которые мы позволяли себе среди этой тяжелой работы, использовались частью на сон, частью на производство наблюдений астрономических, метеорологических и океанографических. Измерения глубины определенно показывали, что в нашем соседстве нигде нет земли. Мы производили измерения глубины при помощи нового и чрезвычайно остроумного прибора немецкого изобретения, весившего всего 3 фунта . Этот прибор был построен на принципе эха. Во льду просверливались две дыры. В одну из них опускалась проволока, соединенная с чрезвычайно чувствительным микрофоном.
Один из нас слушал у этого аппарата, в то время как второй взрывал через второе отверстие опущенный в воду патрон. Синхронные секундомеры в точности отмечали время взрыва и эхо. Сотрясение от взрыва распространяется через воду до морского дна и возвращается отраженным снова на поверхность, где принимается микрофоном, соединенным с опущенной в воду проволокой. Мы произвели два измерения глубины при помощи этого прибора. Мы нашли глубину около 12.000 футов . Разумеется, в соседстве таких глубин не может быть никакой земли.
15 июня было закончено все, что только мы могли сделать для старта «№ 25». Мы перенесли с «№ 24» все казавшееся нам необходимым для обратного полета и что мы без риска могли взять на уже и так перегруженный «№ 25». Мы все шестеро набились в кабину, был пущен мотор, и Рисер-Ларсен поместился у руля.
Следующие секунды были самыми захватывающими во всей моей жизни. Рисер-Ларсен сразу же дал полный газ. С увеличением скорости неровности льда сказывались все сильнее, и весь гидроплан страшно накренялся из стороны в сторону, и я не раз боялся, что он перекувырнется и сломает крыло. Мы быстро приближались к концу стартовой дорожки, но удары и толчки показывали, что мы все еще не оторвались от льда. С возраставшею скоростью, но по-прежнему не отделяясь от льда, мы приближались к небольшому скату, ведущему в полынью. Мы поравнялись с ним, перенеслись через полынью, упали на плоскую льдину на другой стороне и вдруг поднялись на воздух. Чувство неизмеримого облегчения охватило меня, но только на миг. Прямо перед нами всего в нескольких футах расстояния возвышалась двадцатифутовая ледяная глыба! Мы неслись прямо на нее. Следующие пять секунд должны были решить, минуем ли мы ее и полетим свободно по воздуху, обретя возможность спасения, или же разобьемся о нее вдребезги. Если бы, разбившись, мы не были убиты наповал, то все же очутились бы лицом к лицу с неизбежной смертью, одинокие и заброшенные в ледяной пустыне Арктики. Мысли и чувства сменяются быстро в такие моменты. Секунды тянулись как страшные часы. Но мы пролетели мимо, однако на расстоянии не более какого-нибудь дюйма. Наконец-то мы пустились в обратный путь после двадцати четырех дней отчаянной работы и тревоги!
Час за часом летели мы по направлению к югу. Держались ли мы правильного курса? Хватит ли нам бензина? Последний опускался все ниже в контрольной трубке. Наконец, когда его осталось всего на полчаса, мы все как один испустили крик радости: там, внизу, к югу, простирались знакомые вершины Свальбарда. Под нами появилась темная полоса открытой воды, куда мы могли спуститься. Но наши испытания еще не окончились. Чтобы достигнуть этой воды, мы должны были описать широкую дугу над плавучим льдом. Это требовало искусного маневрирования. Между тем в течение последнего получаса я наблюдал Рисер-Ларсена и заметил, что ему приходилось употреблять большие усилия при пользовании рулями высоты. В конце концов мотор застопорил, и нам пришлось сразу же идти на посадку, но, к счастью, мы уже долетели до открытой воды. Немного раньше мы разбились бы на месте. И в этот последний момент мы были так же близки к смерти, как и в минувшие страшные недели.
Нам удалось найти самое удобное место для посадки на Свальбарде, несмотря на сомнительные условия нашего полета, туман, недостаток горючего и испорченный руль. Так окончился наш первый полет над Северным Ледовитым океаном до 88° северной широты.
ГЛАВА 8.
ТРАНСПОЛЯРНЫЙ ПЕРЕЛЕТ НА «НОРВЕГИИ»
О том, что в действительности происходило за кулисами во время перелета «Норвегии» над Северным полюсом в лето 1926 года, никогда не рассказывалось.
Я не стал бы рассказывать об этом и теперь, если бы не распространившиеся ложные изображения хода событий. Чувство простой справедливости по отношению к моим товарищам и к себе самому принуждает меня опубликовать совершившиеся факты.
Разумеется, такие предприятия всегда сопровождаются делами, о которых лучше умолчать. Там, где группа людей соединилась для выполнения трудной задачи, неминуемо возникают недоразумения и антипатии на почве столкновения темпераментов. Полярные экспедиции не составляют исключения. Я еще никогда не слыхал, чтобы какая-нибудь из них обошлась без приключений подобного рода — не только мои собственные, но и все, какие я знаю. Утешительной и благородной чертой человеческого характера является то, что человек охотно забывает о таких вещах, когда все труды заканчиваются удачным результатом, а остальное предается забвению в совместном упоении успехом.
То же случилось и со мною. После каждой моей экспедиции я писал о ней книгу, но до сих пор еще никогда не упоминал там об этих досадных историях.
Однако теперь я должен нарушить это обыкновение. Не потому, что оскорбление на этот раз было слишком сильно, с этим я еще мог бы примириться. Но если бы я предоставил общественному мнению искать правды о полете «Норвегии» из тех информаций, которыми затопила весь мир итальянская пропаганда, я допустил бы грубую несправедливость не только по отношению к самому себе, но также против Линкольна Элсворта и против моих норвежских товарищей, которые в такой бесконечно высокой степени содействовали успеху этой экспедиции.
Поэтому я решился рассказать здесь всю историю полета «Норвегии» от начала и до конца, со всеми ее подробностями, включая и неприятные. Только посредством такого подробного и обстоятельного рассказа я могу дать общественному мнению возможность отличить правду в клубке всех противоречивых слухов.
Прежде всего я в кратких словах коснусь истории возникновения этой экспедиции. Читатель, надеюсь, не забыл из предыдущих глав этой книги, что полет из Северной Европы в Северную Аляску сделался мечтой моей жизни с самого 1909 года, когда стало известно, что адмирал Пири достиг Северного полюса, оставив позднейшим последователям изучение неизведанных до сих пор областей Северного Ледовитого океана. Читатель вспомнит и мои бесчисленные попытки к осуществлению такого полета и все мои подготовительные работы в годы 1909—1914, 1922—1923 и 1924. Он вспомнит, что в 1925 году Рисер-Ларсен привез на Свальбард Элсворту и мне известие, что итальянский дирижабль «№ 1», по-видимому, продается за доступную нам цену и что Элсворт предложил при этом субсидию в 100.000 долларов.
В каком нелепом противоречии относительно этого трансполярного перелета — моей мечты в течение долгих лет — находится утверждение итальянцев, что полковник Нобиле [47] первый задумал и выполнил эту экспедицию. Даже утверждение, что он вообще занимал в ней какое-либо иное положение, кроме должности капитана дирижабля, является неверным. Тем не менее эти несообразные утверждения вкрались в сознание общества вследствие хитрой пропаганды всяческого рода. Насколько ложны эти фантастические измышления, обнаружится из нижеследующего рассказа. Я буду излагать факты в хронологическом порядке.
Гидроплан «№ 25» возвратился 15 июня 1925 года на Свальбард после приключений, описанных в предыдущей главе. Три недели спустя, 4 июля, я прибыл в Осло с моими пятью товарищами. Так как только что завершенная нами экспедиция не привела к желанной цели — перелету с материка на материк, — мы тотчас же принялись за составление более смелых планов на следующий год. Другими словами, мы решили немедленно расследовать сообщение Рисер-Ларсена о продаже дирижабля «№ 1».
Мы телеграфировали полковнику Нобиле, прося его приехать в Осло для переговоров. Кстати, следует заметить, что Нобиле был офицером итальянского воздушного флота, являясь одновременно пилотом и конструктором.
Поэтому, задумав купить «№ 1» у итальянского правительства, мы решили, что лучше всего обратиться за советом к Нобиле, так как он лучше всех мог разъяснить нам вопросы о радиусе действия, о подъемной способности дирижабля и других деталях, весьма важных для нас. Не подлежало также сомнению, что Нобиле являлся бы для нас самым идеальным капитаном в случае, если бы продажа состоялась. Он управлял дирижаблем во многих полетах и, следовательно, должен был отлично знать его во всех его деталях и особенностях.
Получив нашу телеграмму, полковник Нобиле приехал в Осло.
Наша первая встреча произошла у меня на квартире. При ней присутствовал и Рисер-Ларсен. Нобиле дал нам понять, что он облечен полномочиями от итальянского правительства, так как сразу сделал нам предложение, удивившее нас в высшей степени, но весьма знаменательное с точки зрения позднейших событий. Он заявил нам, что итальянское правительство согласно подарить нам дирижабль «№ 1», если мы согласны вести экспедицию под итальянским флагом.
Мы немедленно отклонили это предложение. У меня не было ни малейшего желания осуществлять мечту семнадцати долгих лет моей жизни под иным флагом, чем флаг моей родины. Я отдал свою жизнь на изучение полярных областей. Я пронес норвежский флаг через Северо-западный проход и воздвиг его на Южном полюсе. Ничто не могло меня заставить совершить новый перелет через Северный Ледовитый океан под каким-либо другим флагом.
После того как предложение Нобиле принять в подарок дирижабль «№ 1» было отклонено, я спросил его о цене, за которую можно приобрести дирижабль без всяких условий. Он ответил, что постройка «№ 1» стоила итальянскому правительству 20.000 фунтов стерлингов. Однако он уже два года находился в эксплуатации и хотя был еще в хорошем состоянии, но тем не менее прошел через испытания многочисленных полетов. Поэтому в виду того, что дирижабль скоро уже не будет пригоден для военных целей, он, Нобиле, уполномочен предложить нам его за 15.000 фунтов , причем дирижабль будет передан нам в безупречном состоянии.
Мы, конечно, были очень довольны таким предложением. Элсворт гарантировал субсидию в 100.000 долларов, а здесь представлялся случай купить на 25.000 долларов дешевле дирижабль, составлявший предмет моих долголетних мечтаний. Договорившись обо всех подробностях, мы приняли предложение Нобиле.
Одна из этих подробностей имела огромное значение: «№ 1» являлся дирижаблем полужесткого типа [48], то есть газовместилище его хотя и имело сигарообразную форму, однако не было жестким. В этом заключалось серьезное затруднение. Так как на предусмотренных нами местах посадки не имелось соответствующих ангаров, то приходилось считаться с необходимостью причаливать дирижабль к мачте. Однако последнее было невыполнимо из-за мягкой носовой части.
Мы обсудили это затруднение, и Нобиле согласился, что обязательство доставить дирижабль «в безупречном состоянии» должно включать снабжение дирижабля жесткой носовой частью, дающей возможность причаливать его к мачте.
После того как все было согласовано к обоюдному удовольствию, Нобиле вернулся в Рим, чтобы выработать окончательный договор. Рисер-Ларсен и я должны были последовать за ним для подписания соглашения.
Итак, мы в следующем месяце (август 1925 года) отправились в Рим и подписали там купчую.
Во время пребывания в Риме мы договорились о дальнейших подробностях. Месяц тому назад на совещании в Осло я спросил Нобиле, не согласился ли бы он сопровождать нас в качестве капитана дирижабля, и он ответил утвердительно. Здесь же, в Риме, он потребовал, чтобы вся команда состояла из одних итальянцев. Это требование я категорически отклонил. На это у меня имелось много оснований. Прежде всего экспедиция должна была быть норвежско-американским предприятием, как я это и предполагал еще в прошлом году. Финансовая поддержка Элсворта позволила осуществить полет 1925 года, она же позволяла осуществить и полет 1926 года. Элсворт и я были товарищами, разделявшими и опасности и работу. Я был счастлив разделить национальную честь с моим верным американским другом. Но я вовсе не собирался разделять ее с итальянцами. Им мы не были обязаны ничем, кроме случайной возможности купить у них старый военный дирижабль за установленную плату. Мне было очень приятно взять к себе на службу итальянского офицера, спроектировавшего и построившего корабль. Но экспедиция была только Элсворта и моя, и она осуществлялась при помощи воздушного корабля, купленного и оплаченного нами.
Второе соображение было таково: Рисер-Ларсен и Омдаль делили с нами все опасности при полете на гидропланах, и я хотел, чтобы они разделили с нами и честь предстоявшего перелета. И не только честь, но и очень важные работы. Я считал Рисер-Ларсена одним из лучших летчиков в мире. Его опытность и советы были для нас бесценны. Омдаль в высшей степени даровитый механик и также мог оказаться нам чрезвычайно полезным в момент необходимости.
Я также твердо решил дать возможность участвовать в полете и Оскару Вистингу, так как он находился в числе тех четырех смельчаков, которые сопровождали меня на Южный полюс. Я хотел, чтобы он разделил со мною славу предстоящего полета над Северным полюсом.
Все эти соображения были в точности изложены Нобиле, и он согласился с ними. Но просил разрешения взять с собою пятерых итальянских механиков, заявив, что люди, которых он имел в виду, уже принадлежат к команде дирижабля «№ 1» и обладают поэтому опытом в обслуживании мотора, клапанов и обращения с балластом. Присутствие в числе команды этих людей, привыкших маневрировать дирижаблем, которым он мог отдавать приказания на родном языке, существенно облегчило бы ему его обязанности капитана. Эти причины были весьма разумны, и поэтому я тотчас же дал свое согласие. Было решено окончательно, что из итальянцев в нашей экспедиции примут участие только Нобиле и его пять механиков.
Один случай, имевший место во время нашего пребывания в Риме, внушил мне первые признаки сомнения относительно Нобиле. Рисер-Ларсену и мне захотелось съездить на курорт Остию, недалеко от Рима. Нобиле вызвался свезти нас туда в своем автомобиле. Мы с благодарностью приняли его предложение.
Это была одна из самых худших поездок, какие мне когда-либо приходилось совершать в моей жизни. Нобиле сам правил машиной. Я сидел рядом с ним, а богатырская фигура Рисер-Ларсена занимала почти все заднее сиденье. Нобиле оказался очень странным шофером. Пока мы ехали по прямому ровному шоссе, он держался нормальной скорости. Но чуть только попадался поворот, в каковом случае всякий разумный человек непременно уменьшил бы скорость, Нобиле делал как раз обратное. Он нажимал до отказа газовую педаль, и мы с головокружительной быстротой поворачивали. На полпути, когда мои руки судорожно цеплялись за сиденье, ожидая ежеминутной катастрофы, Нобиле, словно придя в себя после припадка рассеянности, замечал опасность и делал отчаянные усилия, чтобы ее предупредить. Он хватался изо всех сил за тормоза, вследствие чего мы рисковали перекувырнуться. Чтобы избегнуть последнего, он обычно начинал описывать зигзаги по шоссе.
После шести-семи таких экспериментов я обернулся к Рисер-Ларсену и сказал ему по-норвежски, что человек этот, по-видимому, не совсем нормален И, тем не менее, У. Нобиле, будучи моложе Р. Амундсена на 13 лет, пережил его на пятьдесят. (Коммент. выполнившего форматирование.)}, и спросил Рисер-Ларсена, не может ли он его образумить и объяснить, как делают повороты. Рисер-Ларсен, один из самых отважных и в то же время благоразумных людей, каких я когда-либо знал, проворчал, что мы все, несомненно, сломаем себе головы. Я понял, что такая езда, наверно, раздражала, его гораздо больше, чем меня, так как при своем огромном опыте в управлении опасными машинами он не только лучше меня сознавал ее риск, но, привыкнув сам сидеть у рулевого колеса, тем сильнее чувствовал свою беспомощность.
После многократных увещаний мы, наконец, уговорили Нобиле умерить езду, но тем не менее все его поведение во время этой поездки указывало на крайнюю степень нервозности, эксцентричности и отсутствие уравновешенности. Поэтому, когда мы по возвращении остались в гостинице одни с Рисер-Ларсеном, я выразил серьезные опасения по поводу выбора Нобиле в капитаны дирижабля. «Если, — воскликнул я, — таков образец его поведения на суше, то довериться ему в воздухе будет чистым безумием!» Ответ Рисер-Ларсена чрезвычайно удивил меня.
«Нет, — сказал он, — это совершенно неправильное заключение. Многие из самых надежных и хладнокровных летчиков, каких я знаю, проявляют на суше ту же нервозность, что и этот господин. В обычной жизни они кажутся непомерно раздражительными и сумасбродными. Но стоит им только очутиться в воздухе, — быть может, сознание опасности действует на них успокоительно, — как вся нервозность исчезает, и в критический момент они проявляют осмотрительность не хуже всякого другого» [49].