Путешествия в Центральной Азии Пржевальский Николай
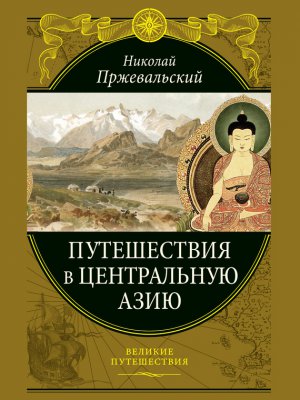
Дни тянулись за днями однообразно; проходили в сутки не более 25 верст, так как путешествие, по обыкновению, замедлялось съемкой, охотой, сбором растений, ящериц, насекомых и так далее. У какого-нибудь колодца или ключа останавливались на ночлег, ставили палатку, разводили огонь, варили ужин.
«Едва ли какой-нибудь гастроном ест с таким аппетитом разные тонкости европейской кухни, с каким мы теперь принимаемся за питье кирпичного чая и еду дзамбы с маслом, а за неимением оного – с бараньим салом. Правда, последнее, будучи растоплено, издает противный запах сальных свечей, но, путешествуя в азиатских пустынях, необходимо оставить дома всякую брезгливость, иначе лучше не путешествовать. Цивилизованный комфорт даже при больших материальных средствах здесь невозможен; никакие деньги не превратят соленую воду в пресную, не уберегут от морозов, жары и пыльных бурь, а иногда и от паразитов».
В Хамийском оазисе остановились на несколько дней: это важный торговый и стратегический пункт, и Пржевальскому хотелось ознакомиться с ним поближе. Губернатор города Хами пригласил путешественников на обед, состоявший из 60 блюд, «все во вкусе китайцев. Баранина и свинина, а также чеснок и кунжутное масло играли важную роль. Кроме того, подавались и различные тонкости китайской кухни, как-то: морская капуста, трепанг, гнезда ласточки-саланганы, плавники акулы, креветы и тому подобное. Обед начался сластями, кончился вареным рисом. Каждого кушанья необходимо было хотя бы отведать, да и этого было достаточно, чтобы произвести такой винегрет, от которого даже наши ко всему привычные желудки были расстроены весь следующий день».
Из Хами экспедиция направилась в город Са-Чжеу через пустыню, в сравнении с которой даже предыдущая степь могла назваться садом.
Это был один из самых трудных переходов за все путешествие. В пустыне не было ничего живого: ни растений, ни зверей, ни птиц, ни даже ящериц и насекомых. «По дороге беспрестанно валяются кости лошадей, мулов и верблюдов. Над раскаленной днем почвой висит мутная, словно дымом наполненная, атмосфера; ветер не колышет воздух, не дает прохлады. Только горячие вихри часто пробегают и далеко уносят крутящиеся столбы соленой пыли. Впереди и по сторонам путника играют обманчивые миражи. Жара днем невыносимая. Солнце жжет от восхода до заката». Почва нагревалась до 50 °Р: плохие колодцы с теплой солоноватой водой едва утоляли жажду людей и животных.
Две недели тащились по этому пеклу; наконец пришли в оазис Са-Чжеу, где отдохнули.
Вытребовав с большим трудом проводника у местных китайских властей, Пржевальский двинулся дальше через неведомые хребты Нань-шаня. Китайский проводник завел его в такую глухую, изрытую оврагами местность, что экспедиция еле выбралась оттуда. Поставленный в безвыходное положение, Пржевальский решил отыскивать дорогу разъездами: от места стоянки посылались по два, по три человека в разные стороны, верст за сто и более, и разыскивали путь; затем уже трогался весь караван. Наконец один из разъездов случайно наткнулся на двух монголов. Их без церемонии забрали, привели к бивуаку и частью подарками, частью угрозами заставили вести экспедицию. Перевалив через Нань-шань, открыв два громадные хребта («Гумбольдта» и «Риттера»), Пржевальский вступил в Цайдам.
Выведенный из терпения отсутствием проводников, он решил прибегнуть к крутым мерам. Одного из местных монгольских князей разругал и выгнал вон из палатки, после чего получил проводника, оказавшегося, впрочем, совершенным идиотом. Другому объявил, что, если не получит проводника, то поведет в Тибет самого князя. Угроза подействовала и, получив требуемое, Пржевальский двинулся в Тибет.
Здесь путешественников снова встретили разреженный воздух, резкие перепады температуры, бури то со снегом и градом, то с тучами песка и пыли; наконец, нападения разбойничьих племен. И снова поразило их невероятное обилие диких животных. «Невдалеке от нашего стойбища паслись табуны куланов, лежали и в одиночку расхаживали дикие яки, в грациозной позе стояли самцы оронго; быстро, словно резиновые мячики, скакали антилопы-ады. Не было конца удивлению и восторгу моих спутников, впервые увидевших такое количество диких животных».
В местностях, удобных для пастбища, например, в долинах рек, количество зверей достигало баснословных размеров. «Табуны куланов отходили немного в сторону и, повернувшись всей кучей, пропускали нас мимо себя, а иногда даже некоторое время следовали за верблюдами. Антилопы, оронго и ады спокойно паслись и резвились по сторонам или перебегали дорогу перед нашими верховыми лошадьми, лежавшие же после покормки дикие яки даже не трудились вставать, если караван проходил мимо них на расстоянии четверти версты. Казалось, мы попали в первобытный рай, где человек и животные еще не знали зла и греха».
Несколько дней двигались в этом раю; наконец проводник объявил, что не знает дороги. По обыкновению были пущены в ход «сильные физические побуждения», но от этого знаний у проводника не прибавилось, и караван должен был двигаться почти наудачу. Между тем наступила зима, ударили морозы, пастбища покрылись снегом; давал себя чувствовать недостаток топлива и корма, к этому присоединилась глазная болезнь – результат ослепительной белизны снега. Верблюды дохли от утомления и бескормицы; каравану грозила опасность остаться без вьючных животных и заблудиться среди снеговых пустынь. Проводник уговаривал вернуться, пророча гибель путешественникам.
Тибетское плоскогорье изрезано хребтами, впервые открытыми и исследованными Пржевальским. Добравшись до одного из таких хребтов, экспедиция попала в почти безвыходное положение. Снег закрыл все тропинки и приметы, по которым мог бы ориентироваться проводник, и последний окончательно сбился с толку. Караван долго колесил по горам, спускаясь в ущелья, поднимаясь на высоты, и наконец уперся в стену.
Убедившись, что из проводника ничего не выжмешь ни угрозами, ни нагайкой, Пржевальский прогнал его и решился искать дорогу разъездами. Счастье снова помогло смельчакам: караван благополучно выбрался из гор, перевалил еще три хребта и вышел в долину реки Мур-Усу.
Невзгоды путешествия порядком утомили всех: «слабосилие, головокружение, одышка, иногда сердцебиение чувствовались почти каждым; многие заболевали простудою и головною болью».
В горах Тан-Ла экспедиция подверглась нападению еграев, разбойничьего племени, занимающегося грабежом караванов. Человек 60–70 конных еграев атаковали путешественников в одном ущелье, но были отбиты и отступили с уроном.
Среди всех этих лишений и опасностей караван неудержимо стремился вперед. Оставалось уже не более 250 верст до Лхасы, когда за перевалом Тан-Ла пришлось остановиться. Тибетское правительство не хотело пускать Пржевальского в Лхасу; местное население было сильно возбуждено против путешественников, около тысячи солдат и милиционеров загораживали им путь. После продолжительных переговоров Пржевальский должен был отступить.
Впрочем, научные результаты путешествия от этого не пострадали. Посещение Лхасы, запретного для европейцев города, придало бы экспедиции больше блеска, больше шика, но то, что составляло ее суть и смысл – великие географические открытия, драгоценные естественноисторические коллекции и наблюдения – все это и теперь оставалось грандиозным памятником ее трудов.
Обратное путешествие было сопряжено с большими затруднениями. И люди, и животные ослабли, запасы продовольствия истощились, а впереди еще предвиделось нападение еграев. Последнего, однако, не случилось.
И здесь, как в монгольских пустынях, мужество путешественников окружило их легендарным ореолом. Рассказывали, что они трехглазые, что ружья их стреляют на целый день езды и прочее.
К концу января 1880 года экспедиция вернулась в Цайдам, частью прежним путем, частью новыми местами.
Между тем в русском посольстве в Пекине стали распространяться тревожные слухи насчет Пржевальского. С тех пор как он выступил в Тибет, следы его потерялись. Известно было, что он прогнал проводника и пустился один в неведомые пустыни. В петербургских газетах писали, что Пржевальский взят в плен китайцами, ограблен, убит… Только в феврале 1880 года пришло известие, что он жив и здоров, а вскоре получено было и его письмо с предположениями о дальнейшем путешествии к истокам Желтой реки.
Из Цайдама экспедиция прошла к Куку-нору, отсюда к верховьям Хуан-хэ, исследование которых – пополненное в четвертом путешествии – составляет одну из крупных заслуг Пржевальского перед географией. Проведя три месяца в этой области, вернулись к Куку-нору, дополнили съемку этого озера и наконец решили двинуться домой через Ала-шань на Ургу.
«Сегодня распрощались мы с Куку-нором, вероятно, уже навсегда… Перед отходом я несколько минут глядел на красивое озеро, стараясь живее запечатлеть в памяти его панораму. Да, наверное в будущем не один раз вспомню я о счастливых годах своей страннической жизни. Много в ней перенесено было невзгод, но много испытано и наслаждений, много пережито таких минут, которые не забудутся до гроба».
19 октября 1881 года экспедиция прибыла в Ургу.
Возвращение Пржевальского в Петербург было триумфальным шествием. Начиная с города Верного, посыпались поздравительные телеграммы, обеды, торжественные встречи: «чествуют везде так, что я не мог и ожидать».
Всем членам экспедиции были пожалованы награды: Пржевальскому пожизненная пенсия в 600 рублей в дополнение к прежним 600 и орден; остальным – тоже денежные награды и знаки отличия.
Петербургская дума избрала его почетным гражданином и ассигновала 1500 рублей на постановку его портрета в думской зале, но он просил употребить эти деньги с благотворительной целью. Московский университет избрал его почетным доктором, различные русские и иностранные ученые общества – почетным членом.
Визиты, приглашения, обеды надоедали ему донельзя. «Это хуже самого трудного путешествия, – говорил он. – Обеды и визиты до того меня доняли, что и жизнь становится не мила».
Его заваливали всевозможными просьбами: выхлопотать местечко, пенсию, чин, пособие и прочее.
«Вам, родимый мой, – писала одна из просительниц, – все власти нашего города ныне бьют челом; кум мне сказывал, что вас повесили в думе, что вы в почете в нашем городе, что вам все сделают. Так ради Бога отыщите мою собачку, кличка ее Мурло, маленькая, хорошенькая, с бельмом на глазу; крыс и мышат ловит. И буду я, вдова безутешная, весь длинный век за вас Бога молить. Живу я на Петербургской, Зелениной, № 52 дома, у сторожа гвардейского, что под турку ранен, Архипом прозывается».
Покончив с делами в Петербурге, Пржевальский уехал в Отрадное. Но тут ему многое не нравилось. «Там кабак, тут кабак, в ближайшем соседстве дом терпимости, а в более отдаленном – назойливо навязывают дочерей-невест. Ну их совсем, этих соседей. Мои друзья вот», – прибавлял он, указывая на ружье, на болото, покрытое мохом, и на лес.
Ему хотелось найти настоящий медвежий угол, хоть некоторое подобие азиатских дебрей. Наконец поиски увенчались успехом, и он купил имение Слобода в Поречском уезде Смоленской губернии, в замечательно глухой местности, изобилующей сосновыми борами, песками, болотами и озерами. «Лес, как сибирская тайга, – восхищался он, – а рядом леса пошли на сотни верст». Для рыболова и охотника раздолье: два озера, две реки, обилие уток, глухарей, тетеревов, рябчиков; медведи, иногда лоси; случайно забегают в эту местность даже кабаны.
Хозяйством Пржевальский не занимался; его интересовали только охота и сад, в котором развел он, между прочим, некоторые из растений, вывезенных из Азии. Рабочие лошади, к огорчению управляющего, в самую горячую пору отрывались от дела для поездок на охоту и рыбную ловлю; овес сеялся специально для медведей; вообще, о доходах Пржевальский не заботился.
В Слободе было кончено описание третьего путешествия. Как и предыдущие, книга была переведена на западноевропейские языки. В Парижской академии был сделан о ней доклад – отличие редкое, так как обыкновенно доклады о новых книгах там не допускаются.
Глава V. Четвертое путешествие. Итоги
Женитьба Эклона. – Выступление экспедиции. – Расправа с Дзун-Засаном. – Тибет. – Истоки Желтой реки. – Нападение тангутов. – Цайдам. – Восточный Туркестан. – Возвращение. – Встреча в Петербурге. – Результаты экспедиции Пржевальского. – Его географические открытия: Куэнь-Лунь, Северный Тибет, Лоб-нор. – Истоки Желтой реки, Цайдам, Великая Гоби и прочее. – Значение его экспедиций для зоологии, ботаники, климатологии.
В минуту уныния Пржевальский отрекался от путешествий и мечтал о спокойной жизни в деревне. Но он сам не знал своей натуры. Не успел порядком отдохнуть, как снова его потянуло в далекие пустыни Азии, и, еще не окончив описания третьего путешествия, начал хлопотать о следующем.
Один из прежних спутников его, Эклон, на которого он и нынче рассчитывал, женился и остался дома. Пржевальский был жестоко огорчен и раздражен и расстался со своим бывшим товарищем если не враждебно, то очень сухо. К этому времени его любовь к путешествиям превратилась в фанатическую страсть, он, кажется, даже и представить не мог, что, испытав сладость жизни в пустынях, можно пожелать чего-нибудь лучшего. Вместе с тем росло и его женоненавистничество: в семье он видел главную помеху для путешественника.
20 октября 1883 года экспедиция, в состав которой входил 21 человек, выступила из Кяхты – старым путем: на Ургу, отсюда на Дынь-Юань-Ин. Несмотря на зимнее время, солнце сильно пригревало. Одежда на стороне, обращенной к солнцу, нагревалась до 27° и более, тогда как на противоположной термометр показывал мороз.
Из города Синина был прислан путешественникам китайский конвой, который сильно надоедал им, заводя ссоры и драки с местными жителями. Пржевальский отделался от него, заявив, что будет стрелять в китайских солдат, если они не уйдут.
Вступление в Тибет ознаменовалось расправой с владетельным князем Дзун-Засаком, который не хотел ни продавать путешественникам верблюдов и баранов, ни доставить проводника. «Тогда без всяких дальнейших рассуждений я посадил Дзун-Засана под арест у нас в лагерной палатке, возле которой был поставлен вооруженный часовой. Помощник князя, едва ли не еще больший негодяй, был привязан на цепь под открытым небом, а один из приближенных, осмелившийся ударить нашего переводчика Абдула, был тотчас же высечен. Такие меры возымели желаемое действие», – проводник, верблюды и бараны были доставлены.
Перевалив гигантский хребет Бурхан-Будда, вступили на плоскогорье Тибета и вскоре достигли котловины Одон-Тала, в которой лежат истоки Желтой реки. «Давнишние наши стремления увенчались успехом: мы видели теперь воочию таинственную колыбель великой китайской реки и пили воду из ее истоков. Радости нашей не было конца»…
Здесь пробыли довольно долго: исследовали упомянутые истоки, окружающие хребты и вершины, водораздел Желтой и Голубой рек и частью верховье последней.
За время пребывания в этих местностях экспедиция два раза подверглась нападению разбойничьих племен тангутов и голыков. В первый раз два конных отряда атаковали бивуак, но были отбиты с уроном. Эта неудача не заставила их отказаться от своего намерения; тогда Пржевальский решился сам атаковать их лагерь. Человек триста высыпало навстречу четырнадцати путешественникам (остальные семь находились в складочном пункте на северной окраине Тибета), но, едва подпустив их на выстрел, повскакивали на коней и пустились наутек.
Другой раз человек 300 конных тангутов атаковали стоянку Пржевальского на берегу открытого им озера Русского.
«Гулко застучали по влажной глинистой почве копыта коней, частоколом замелькали длинные пики всадников, по встречному ветру развевались их суконные плащи и длинные черные волосы… Словно туча неслась на нас эта орда, дикая, кровожадная… С каждым мгновением резче и резче выделялись силуэты коней и всадников… А на другой стороне, впереди нашего бивуака, молча с прицеленными винтовками стояла наша маленькая кучка – четырнадцать человек, для которых не было иного исхода, как смерть или победа…».
Нападающие были встречены залпами, но продолжали скакать, и только когда их начальник, под которым была убита лошадь, побежал назад, – вся шайка, не доскакав до бивуака менее 200 шагов, повернула в сторону и спряталась за ближайший увал. Тут они спешились и открыли пальбу по путешественникам, стоявшим на ровном месте. Тогда, оставив на бивуаке шестерых, Пржевальский отправился выбивать тангутов из их убежища. Последние встретили их пальбой, которая, впрочем, скоро затихла, и, когда нападающие взобрались на увал, оказалось, что тангуты бросили свою позицию и скрылись за следующим увалом. Но и отсюда они были выбиты; а в то же время другой отряд, бросившийся на бивуак, был отражен оставшимся в нем поручиком Роборовским с пятью казаками.
На этом битва и кончилась; тангуты, потеряв более 30 человек убитыми и ранеными, уже не решались более нападать на путешественников.
Закончив исследование этой части Тибета, Пржевальский вернулся к складу, а оттуда двинулся в дальнейший путь, через Цайдам к Лоб-нору и далее через пустыню Восточного Туркестана к нашей границе с Китаем. Вся эта часть путешествия изобиловала географическими открытиями: были нанесены на карту горные хребты, вечно заснеженные вершины, озера, оазисы Цайдама и Восточного Туркестана. Путешествие затруднялось каверзами местных китайских властей, которые запрещали населению сноситься с экспедицией, портили дороги на ее пути, угоняли верблюдов и лошадей и т. п. Причиной этих каверз была ненависть к китайцам туземного населения, которое даже обращалось к Пржевальскому с предложением восстать против своих властителей и перейти в подданство России.
Тем не менее экспедиция двигалась вполне успешно и 29 октября 1886 года достигла нашей границы, откуда отправилась в город Караколь (ныне Пржевальск).
Путешествие продолжалось более двух лет. Исследованы были истоки Желтой реки, завершено и дополнено исследование Цайдама, Лобнорского бассейна и колоссальной системы Куэнь-Луня.
За эту экспедицию Пржевальский получил чин генерал-майора, пенсия его была увеличена до 1800 рублей.
Так отнеслось правительство; ученый мир – русский и иностранный – также не замедлил выразить свое одобрение славному путешественнику. Открытый им хребет Загадочный был назван хребтом Пржевальского, Шведское Географическое Общество назначило ему свою высшую награду – медаль «Вега», Общество землеведения в Лейпциге, Академия в Галле избрали его почетным членом и так далее.
О публике и говорить нечего. «Пребываю еще в Петербурге, – писал он вскоре по возвращении, – и мучаюсь несказанно; не говоря уже про различные чтения, официальные торжества, мне просто невозможно пройти ста шагов по улице, – сейчас узнают, и пошла писать история, с разными расспросами, приветствиями и тому подобное».
Четвертое путешествие было последним путешествием Пржевальского. Подведем же итоги всех его экспедиций. Что сделано Пржевальским для науки?
Как мы уже говорили, поприщем его исследований было Центральноазиатское плоскогорье, которое он последовательно изучил в его наименее известных частях. В этой области провел он 9 лет, 2 месяца и 27 дней, пройдя в своих экспедициях более 30 тысяч верст. Крупнейшими из его географических открытий были: исследование горной системы Куэнь-Луня, хребтов Северного Тибета, бассейнов Лоб-нора и Куку-нора и истоков Желтой реки.
Вдоль северной окраины Тибета тянется колоссальная система горных хребтов Куэнь-Луня, «становой хребет» Азии по выражению Рихтгофена. До исследований Пржевальского она была известна только по имени и изображалась в виде почти прямой черты; благодаря его экспедициям «прямолинейный Куэнь-Лунь точно ожил, выяснились его важнейшие изгибы, он расчленился на отдельные хребты, связанные горными узлами и разъединенные глубокими долинами».
Открытие хребта Алтын-таг сразу выяснило общее очертание Тибетской ограды, имеющей вид отлогой дуги, изогнутой к северу. Затем были исследованы восточная часть системы (Нань-шань), в которой Пржевальским открыты хребты Северно– и Южно-Тэтунгский, Южно-Кукунорский, Гумбольдта и Риттера; центральный Куэнь-Лунь, колоссальное сплетение хребтов, до Пржевальского абсолютно неизвестных (Бурхан-Будда, Го-Шили, Толай, Шуга и Хоросай, хребты Марко Поло, Торай, Гарынга, хребты Колумба и Цайдамский, хребты Пржевальского, Московский и Тогуз-Дабан), и западный Куэнь-Лунь, состоящий из хребтов Русского, Кэрийского и гор Текелик-Таг. В этих хребтах нередки отдельные вечно заснеженные вершины, одетые грандиозными ледниками, как например, гора Царя-Освободителя, горы: Кремль, Джинри, гора Шапка Мономаха и др.
Таким образом, заполнилось огромное пространство от Памира до истоков Желтой реки; загадочная область, с давних пор интересовавшая географов и подававшая повод к разнообразным, более или менее произвольным гипотезам относительно вида поверхности внутренней Азии.
Исследование северной части Тибета – также одно из крупнейших географических открытий нашего времени. Пржевальский дал общее описание этого плоскогорья – единственного в мире по высоте и громадности, – открыл и исследовал ряд хребтов, разбросанных по нем (хребет Куку-Шили и его продолжение Баян Хара, хребет Думбуре, Конгин, Тан-Ла и отдельные снеговые вершины Джома, Дарзы, Меду-кун), и открытием вечно снеговой группы Самтын-Кансыр сомкнул свои исследования с английскими, указав на связь Северно-Тибетских гор с Трансгималайскими.
Озеро Лоб-нор было им исследовано в двух путешествиях. Пржевальский определил его истинное положение, форму, величину; нанес на карту его притоки, из коих один, Черчен-Дарья, до него был вовсе неизвестен, а другой, Тарим, образующий своими разветвлениями и рукавами довольно сложную сеть, изображался неверно.
Обширное озеро Куку-нор, известное дотоле лишь по преданиям, принадлежит теперь к числу наиболее известных азиатских озер. Как и Лоб-нор, оно представляет остаток когда-то огромного бассейна, существовавшего еще в недавнюю геологическую эпоху.
Первым из европейских путешественников Пржевальский пробрался к верховьям Желтой реки, исследовал котловину Одон-Тала, в которой она берет начало, и показал, что она слагается из двух рек, которые, соединившись, вливаются в озеро Экспедиции и следующее за ним озеро Русское.
Далее им были исследованы наименее доступные участки великой Гоби: пустыня Восточного Туркестана с ее оазисами, пустыни Ордоса и Ала-шаня, южная окраина Гоби от города Калгана до Дынь-Юань-Ина, и центральная часть ее от Ала-шаня до Кяхты. Во всех перечисленных пустынях до него не проходил ни один европеец; кроме того, он пересек Гоби и по другим направлениям, в местностях, уже затронутых отчасти прежними исследователями. В общем, его путешествия дали нам замечательно полную картину великой азиатской пустыни: ее орографии, оазисов, колодцев, озер и ключей; своеобразной флоры и фауны и оригинального климата.
Ему же всецело принадлежит исследование обширного плоскогорья Цайдама, замкнутого со всех сторон хребтами Куэнь-Луня. Это – не вполне пересохшее дно огромного бассейна, следы которого сохранились в виде соленых озер и болот. Пржевальский исследовал и нанес на карту эти озера, главную артерию Цайдама – реку Баянгол, его оазисы, урочища и прочее.
Наконец из менее крупных открытий его упомянем об исследовании озера Далай-нор в юго-восточной Монголии, реки Урунгу и озера Улюнгур в Джунгарии, верховьев Ян-цзы-цзяна, хребтов Ин-шаня и Ала-шаня, течения Желтой реки ниже верховьев и прочее.
Вот краткий и по необходимости сухой перечень его географических открытий. Читатель может обозреть их одним взглядом на приложенной к нашему очерку карте. Там, где он видит теперь горные хребты, озера, реки и прочее, были до исследований Пржевальского или пустые места, или фантастические узоры, набрасывавшиеся на карту по неверным и противоречивым источникам.
Эти открытия поставили имя Пржевальского в один ряд с именами величайших путешественников-географов нашего века. Но они составляют только частицу его заслуг.
В большинстве случаев путешественник-географ является только пионером, открывающим для науки неведомые области. Он пролагает путь для исследователей-натуралистов, но для него самого наука не существует. Таковы, например, Стэнли, Ливингстон и другие. Для Стэнли исследования флоры и фауны кажутся детской забавой. «Постоянные серьезные заботы мешали нам заниматься пустяками», – наивно заявляет он по поводу собирания коллекций. Но даже и те, кто понимает значение естественноисторических исследований, редко могут соединить роль пионера с ролью натуралиста. Тащить за собой огромный караван с грузом, достигающим, как у Пржевальского, нескольких сот пудов, по неведомой области, среди всевозможных опасностей, путешествуя иной раз наудачу, без проводников, с риском застрять в какой-нибудь непроходимой глуши – слишком трудно. Только впоследствии, когда местность в географическом отношении исследована, указаны и нанесены на карту наиболее удобные и безопасные пути, выработана организация экспедиции – только тогда, по проторенной дорожке, могут пуститься зоологи, ботаники и прочие, и изучать прежнюю terra incognita во всевозможных отношениях.
В Пржевальском соединялись оба типа: пионер и ученый. Любовь к дикой, привольной жизни, жажда сильных ощущений, опасностей, новизны создали из него путешественника-пионера и авантюриста; страстная любовь к природе и в особенности к тому, что живет, дышит, движется, – к растениям, зверям и птицам – сделали его ученым-путешественником, которого немцы сравнивают с Гумбольдтом.
Зоологические исследования его имеют одинаково важное значение для географии животных, систематики и биологии. Они выяснили состав среднеазиатской фауны, дали возможность разбить ее на частные зоологические области, определить их границы и отношение к фауне уже исследованных областей.
Для систематики имеют огромное значение множество новых видов и любопытных местных форм, привезенных им из Азии. Упомянем о диком верблюде и яке, о лошади Пржевальского, промежуточной форме между лошадью и ослом, вызвавшей в свое время фурор среди дарвинистов, о тибетском медведе (Ursus lagomiarius), о новых видах антилоп, диких баранов, леммингов, сурков и прочих, о множестве новых птиц, рыб, ящериц, насекомых и прочего.
Не ограничиваясь собиранием коллекций, он наблюдал жизнь животных. Для наиболее замечательных видов были у него заведены особые книги, куда заносились биологические данные. Таким образом, он составил целые монографии о верблюде, яке, тибетском медведе и других, доставил драгоценные сведения о жизни и деятельности мелких роющих грызунов (сурки, пищухи и другие), играющих огромную роль в геологическом и почвенном отношении, исследовал пути пролета птиц в Центральной Азии и так далее.
Заслуги его перед ботаникой столь же значительны. Им собрано около 1 700 видов растений в 15–16 тысяч экземпляров. Исследования его открыли нам флору Тибета, Монголии, а в связи с материалами Певцова, Потанина и других дали замечательно полную картину растительности всего Центральноазиатского плоскогорья. Как и в отношении животных, мы знаем теперь общий характер флоры этой обширной страны, можем разбить ее на частные фитогеографические области, определить их связь с климатом и горными хребтами, их главные растительные типы, их отношение к соседним местностям.
Четыре экспедиции Пржевальского произвели коренной переворот в наших познаниях о природе Центральной Азии. До него это была terra incognita в полном смысле слова; теперь ее животное и растительное население исследованы лучше, подробнее, детальнее, чем во многих легкодоступных и давно изучаемых местностях.
Почти то же сделано им для изучения климата Центральной Азии. «Пока продолжались его путешествия, – говорит профессор Воейков, – просвещеннейшие и богатейшие страны Западной Европы соперничали в изучении Африки. Конечно, и изучению климата этой части света было уделено место, но наши знания о климате Африки продвинулись трудами этих многочисленных путешественников менее чем наши знания о климате Центральной Азии сведениями, собранными одними 4-мя экспедициями Пржевальского».
Сравнительно малую роль играли в его исследованиях этнография, и в особенности геология, – обстоятельство, подавшее повод даже к некоторым нападкам на него. Если бы Пржевальский ограничился ролью географа и пионера, мы назвали бы его одним из величайших путешественников нашего века; он сделал больше – он раскрыл перед нами климат, флору и фауну громадных неведомых областей, – и мы считаем долгом придраться, почему не исследовано еще то-то и то-то?..
Впрочем, эти придирки и укоризны совершенно исчезали среди восторженных отзывов. И наши, и западноевропейские ученые восхищались полнотой его исследований, широтой интересов. «Ливингстон и Стэнли, – говорит Д. Гукер, – были отважными пионерами, но только сумели проложить на карте пройденные ими пути, для изучения же природы ничего не сделали. После заслуженного Барта нужно даже было послать другого путешественника, чтобы проложить на карте маршруты его. Только Пржевальский соединял в своем лице отважнейшего путешественника с географом и натуралистом».
Глава VI. Характер и взгляды Пржевальского
Любовь к странничеству. – Отзывы о пустыне. – Ненависть к цивилизации и городской жизни. – Мизантропические взгляды. – Взгляды на женщин. – Характер. – Отношения к спутникам и близким людям. – Щедрость. – Недостатки характера.
Самая выдающаяся черта в характере Пржевальского – любовь к страннической жизни. Он был закоренелым бродягой, для которого оседлая жизнь – каторга. Никакие опасности, труды, лишения не могли убить в нем охоты к путешествиям: напротив, она росла и развивалась, превращаясь в почти болезненную страсть. Он с ужасом думал о старости, которая заставит его сидеть дома, и не раз выражал желание умереть в пустыне, в походе. «Прекрасная мати пустыня» манила его с неотразимой силой, и в отзывах его об Азии звучит то же чувство, которое отразилось в песне раскольника-бегуна или удалого молодца, уходящего от людей в чистое поле и темный лес…
«Грустное, тоскливое чувство овладевает мною всякий раз, как пройдут первые порывы радости по возвращении на родину. И чем далее бежит время среди обыденной жизни, тем более и более растет эта тоска, словно в далеких пустынях Азии покинуто что-нибудь незабвенное, дорогое, чего не найти в Европе. Да, в тех пустынях действительно имеется исключительное благо – свобода, правда, дикая, но зато ничем не стесняемая, почти абсолютная. Путешественник становится там цивилизованным дикарем и пользуется лучшими сторонами крайних стадий человеческого развития: простотой и широким привольем жизни дикой, наукой и знанием жизни цивилизованной. Притом самое дело путешествия для человека, искренне ему преданного, представляет величайшую заманчивость – ежедневной сменой впечатлений, обилием новизны, сознанием пользы для науки. Трудности же физические, раз они миновали, легко забываются, и только еще сильнее оттеняют в воспоминании радостные минуты удач и счастья.
Вот почему истинному путешественнику невозможно забыть о своих странствованиях даже при самых лучших условиях дальнейшего существования. День и ночь неминуемо будут ему грезиться картины счастливого прошлого и манить вновь променять удобства и покой цивилизованной обстановки на трудовую, по временам неприветливую, но зато свободную и славную странническую жизнь».
Немного найдется людей, так всецело, совершенно, без остатка поглощенных своим делом, как Пржевальский. Путешествие было его стихией. Здоровье его, ослабевавшее при оседлой жизни, поправлялось и крепло в пустыне; любовь к независимости и свободе находили полное удовлетворение в экспедиционной жизни; страстный охотник и натуралист, он не мог и желать большего раздолья, более богатого поприща для наблюдений; наконец стремление к полезной широкой деятельности удовлетворялось сознанием великих и плодотворных результатов, приносимых его экспедициями. О нем нельзя даже сказать, что он любил путешествие: разве рыба любит воду? она просто не может жить без нее…
Это стремление к страннической жизни в значительной степени объясняет воззрения Пржевальского.
Казалось бы, человек, так много поработавший для цивилизации, должен был ценить ее блага. Но Пржевальский относился к ним очень скептически.
«В блага цивилизации не особенно верю. Эти блага ведь сводятся к тому, что горькие пилюли нашего существования преподносятся в капсюлях и под различными соусами, не говоря уже про уничтожение всех иллюзий, которыми только и красна жизнь».
«В Азии я с берданкой в руке гораздо более гарантирован от всяких гадостей, оскорблений и обмана, чем в городах Европейской России. По крайней мере в Азии знаешь, кто враг, а в городах всякие гадости делаются из-за угла. Вы идете, например, по улице, и всякий может оскорбить вас, если при этом нет свидетелей. Воровства в пустынях гораздо менее чем в городах Европы».
И чем более росла его привязанность к пустыне, тем сильнее разгоралась ненависть к цивилизации. Под конец он не мог говорить без отвращения об «извращенной» жизни цивилизованного общества.
«Не один раз, сидя в застегнутом мундире в салоне какого-нибудь вельможи, я вспоминал с сожалением о своей свободной жизни в пустыне с товарищами-офицерами и казаками. Там кирпичный чай и баранина пились и елись с большим аппетитом, нежели здешние заморские вина и французские блюда; там была свобода, здесь позолоченная неволя; здесь все по форме, все по мерке; нет ни простоты, ни свободы, ни воздуха. Каменные тюрьмы, называемые домами; изуродованная жизнь – жизнью цивилизованной, мерзость нравственная – тактом житейским называемая; продажность, бессердечие, беспечность, разврат – словом, все гадкие инстинкты человека, правда, изукрашенные тем или другим способом, фигурируют и служат главным двигателем во всех слоях общества от низшего до высшего. Могу сказать только одно, что в обществе, подобном нашему, очень худо жить человеку с душою и сердцем. Нет, видно, никогда не привыкнуть вольной птице к тесной клетке; никогда и мне не сродниться с искусственными условиями цивилизованной, вернее, изуродованной, жизни».
А между тем Пржевальскому нельзя было пожаловаться на несправедливость цивилизованного общества. Заслуги его были оценены быстро и по достоинству. С первой же экспедиции он был признан главой русских путешественников. Правительство, ученые, общественность с замечательным единодушием старались выразить ему свое восхищение. Отношение западных ученых было не менее лестно – книги его переводились на иностранные языки и вызывали восторженные отзывы; немцы сравнивали его с Гумбольдтом; англичане устами Гукера отвели ему место выше Стэнли и Ливингстона; ученые учреждения осыпали его наградами. Таким образом, он на собственном примере мог бы убедиться, что «человеку с душою и сердцем» в нашем обществе можно жить и работать.
Но скучно орлу и в золотой клетке. В рамках цивилизованного общества он чувствовал себя как рыба на берегу; мудрено ли, что оно казалось ему отвратительным? И в этом отношении он напоминает «странника» с его проклятиями «суетному житию» и «прелестному злому миру».
Питая отвращение к оседлой жизни вообще, Пржевальский в особенности ненавидел ее высшее проявление – город. Еще в детские годы, живя в Смоленске, он всячески старался удрать за город и побродить по лесам и полям. Впоследствии, в промежутках между путешествиями, ему приходилось подолгу живать в Петербурге. Тут он чувствовал себя несчастным человеком во всех отношениях. Его железный организм, шутя переносивший самые каторжные условия страннической жизни, ослабевал в городской духоте и тесноте: тут привязывались к нему головные боли, кашель, приливы крови, обмороки. Суматоха и вечное мельканье, необходимость стесняться и подтягиваться раздражали и угнетали его. «Общая характеристика петербургской жизни, – говорил он, – на грош дела, на рубль суматохи».
«Ну уж спасибо за такую жизнь; не променяю я ни на что в мире свою золотую волю. Черт их дери – все эти богатства, они принесут мне не счастье, а тяжелую неволю. Не утерплю сидеть в Питере. Вольную птицу в клетке не удержишь».
«Ты не можешь вообразить, до чего отвратительно мне жить теперь в этой проклятой тюрьме (Петербурге), и, как назло, погода стоит отличная. Как вы, черти, я думаю, вкусно теперь стреляете вальдшнепов: никто не мешает» (Пыльцову 20 мая 1875 года).
Принужденный волей-неволей проживать по нескольку лет в России, он, как мы уже видели, старался устроить себе жилье, хоть сколько-нибудь напоминающее азиатские дебри. Слобода нравилась ему в особенности тем, что находится в 80 верстах от железной дороги, окружена борами и болотами, а в распутицу по целым месяцам отрезана от мира, так что приходилось сидеть без газет, без писем, даже без провизии. «Если к Слободе проведут железную дорогу, – говорил он, – непременно продам ее и не куплю другого имения в Европейской России, а поселюсь в Азии».
Но и в этом медвежьем углу он не мог усидеть долго, тем более, что окружающая жизнь так же мало нравилась ему, как и петербургская. Вообще, нападая на цивилизацию, он отнюдь не питал пристрастия к дикарям или простонародью. Вот, например, его общий отзыв об Азии: «Для успеха далекого и рискованного путешествия в Азию необходимы три проводника: деньги, винтовка и нагайка. Деньги, потому что местный люд настолько корыстолюбив, что не задумается продать отца родного; винтовка – как лучшая гарантия личной безопасности, тем более при крайней трусости туземцев, многие сотни которых разбегутся от десятка хорошо вооруженных европейцев; наконец нагайка также необходима, потому что местное население, веками воспитанное в диком рабстве, признает и ценит лишь грубую, осязательную силу».
Наилучшие отзывы с его стороны заслужили монголы, имеющие, впрочем, свои недостатки: «ограниченные умственные способности, ленивый и апатичный склад характера, трусость и ханжество». «Притом и у них, как при сложном строе цивилизованного быта, в практической жизни обыкновенно выигрывает нравственно худший человек. Там, как и у нас, прогрессируют порок и проходимство в ущерб добрых сердечных нравственных качеств».
В сущности он понимал превосходство европейца над дикарем и сам не раз восхвалял «могучую нравственную силу европейца сравнительно с растленной природою азиата». Но это в Азии, а попадая в Европу и задыхаясь в условиях цивилизованной жизни, он начинает клясть позолоченную неволю и превозносить несуществующие добродетели первобытного человека.
Отзывы его о крестьянах не менее резки: «В нашей здешней жизни (в Слободе) мало утешительного. Простой народ развращен вконец; пьянство и мошенничество – нормальное состояние нравственности; честность и трезвость – редкие исключения».
«Крестьяне, как и везде, пьяницы и лентяи: с каждым днем все хуже и хуже. К чему только это приведет?»
Вообще, если принимать за чистую монету его отзывы о людях, то можно бы счесть его за отчаянного мизантропа. Всех-то он разносил! Общество офицеров и юнкеров, окружавшее его в молодости, – картежники и пьяницы, Амур – «помойная яма», китайцы в Пекине – мошенники, а европейцы – «отъявленные негодяи», вся Азия – «гниль», наше время – «огульно развратное», цивилизованное общество – мерзость, да и мужик – «развращен вконец», словом: «весь город мошенник, один прокурор порядочный человек, да и тот, если сказать правду, свинья!..»
Пуще всего не любил он женщин, называл их фантазерками и судашницами, которые только и занимаются сплетнями; и положительно бегал от них. Живя в Николаевске-на-Амуре, он получил приглашение давать уроки приемной дочери одного из своих сослуживцев, но отказался и удовольствовался тем, что подарил ей свой курс географии с грубой надписью: «долби, пока не выдолбишь». «Моя профессия не позволяет мне жениться. Я уйду в экспедицию, а жена будет плакать; брать же с собою бабье я не могу. Когда кончу последнюю экспедицию, буду жить в деревне, охотиться, ловить рыбу и разрабатывать мои коллекции. Со мною будут жить мои старые солдаты, которые мне преданы не менее, чем была бы предана законная жена».
Разумеется, нельзя придавать серьезного значения этим пессимистическим взглядам. Они являлись результатом его сангвинического, пылкого характера: замечая дурные стороны той или иной среды, он, не долго думая, разносил ее вдребезги. Размышлять же и разбираться в сложных явлениях жизни, взвешивать pro и contra, отвевать зерно от мякины – не считал нужным, частью вследствие самоуверенности, свойственной сильным людям, частью по непривычке к чисто логическому, отвлеченному мышлению, а главное потому, что и не нужно было ему разбираться в той жизни, от которой он бежал. Бродяге всегда противен оседлый быт. Пустыня, безграничный простор, охота, жизнь, полная приключений и опасностей – вот стихия, в которой Пржевальскому дышалось легко и привольно; попадая в другую обстановку, он задыхался и не спрашивал себя, она ли, эта обстановка, так дурна, как ему кажется, или он сам не подходит к ней.
В сущности же, невоздержный язык и резкие отзывы о людях не мешали ему быть истинно добрым, приветливым, гуманным и постоянным в привязанностях человеком. Мы уже видели, как он относился к юнкерам в Варшавском училище. Отношения его к своим спутникам не менее замечательны. Никогда он не давал им поблажки, дисциплина в его отрядах царствовала неумолимая, – и однако умел же он возбуждать в них беззаветную преданность и усердие «не токмо за страх, но и за совесть». Правда, это напоминает несколько слова солдатской песни о «командире-хвате»: «Он нас не печалит, он нас не гнетет; он за дело хвалит и за дело бьет», – но в то же время свидетельствует о гуманном и справедливом характере. Сношения его со спутниками не прекращались с окончанием экспедиции. Он и потом вел с ними переписку, заботился о них, помогал им деньгами и советами, старался вывести в люди, входил в мельчайшие подробности их жизни.
Ягунова (спутника по Уссурийскому путешествию) он учил географии и истории, поместил в Варшавское юнкерское училище, хлопотал об его успехах; Эклона готовил к экзамену на свой счет и так далее. Письма его к спутникам дышат отеческой нежностью. Вот, например, письмо к Эклону: «Карточек ты делай целую дюжину, если хороши будут. Пожертвуй 5 рублей; после 2 февраля я тебе пришлю денег, а если тебе они нужны, то могу сделать это и раньше. Вообще, ты можешь свободно тратить рублей 20 в месяц и не отказывать себе и в усладах. Погода в Питере подлая, хотя и теплая; в Бресте же действительно скоро наступит весна; в хорошие дни ходи гулять, смотри как природа просыпается после зимы. Вчера получил от Бильдерлинга, хозяина маленькой винтовки, письмо: он дарит мне это ружье, а я передаю его тебе по обещанию. Если ты хочешь шить тонкое платье, то закажи его и напиши мне, в таком случае я вышлю тебе деньги около 10 февраля или на масленице. На масленице непременно кушай блины или польские пончики».






