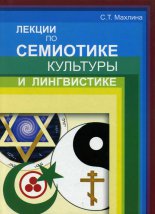Достоевский без глянца Фокин Павел

Приглядываюсь… Достоевский.
Не могу передать вам, как я перепугался в ту минуту Мне показалось, что это привидение, выходец с того света. Я так и оцепенел на месте.
— Что ты так смотришь? Не узнаешь?
Руку протягивает…
— Достоевский! Разве ты жив? — мог только я проговорить: смех и слезы — все смешалось в горле, и я повис у него на шее.
Потом все объяснилось. Рядом с койкой Достоевского в госпитале лежал горячешный больной, который и умер на другой день после поступления Достоевского в госпиталь. Фельдшер по ошибке записал, что умер Достоевский. Все разъяснилось тогда, когда Достоевский выздоровел и выписался из госпиталя. После этого случая и дали у нас в «ватаге» кличку «покойник». По фамилии больше никогда и не называли.
— Живо помню еще один случай, — продолжал Рожновский. — У плац-майора была гувернантка, молоденькая девушка. Шла упорная молва, что он состоит с нею в любовной связи и что она, как говорится, держит его в руках. Звали ее арестанты Неткой и боялись как огня: настоящая змея была, под стать плац-майору. Про нее рассказывали, что когда, бывало, секут в кордегардии, то она подходит к замку и слушает крик. Впрочем, я этому не верю. У Нетки были ручные голуби, которых она привезла из России и очень за ними ухаживала. Голуби эти часто залетали к нам во двор, и многие из наших зарились на них, но надсмотрщики еще зорче следили, чтобы их не ловили. Один молодой голубь сильно привязался к Достоевскому. Тот кормил его хлебом, и он каждый день прилетал к нему за своей порцией. Сначала сторожа восставали против этого, но потом, видя, что Достоевский вреда голубю не делает, начали смотреть сквозь пальцы. Пришлось нам однажды идти обжигать алебастр, а путь лежал мимо плац-майорского дома. Работа эта тяжелая, и потому нас отпустили в замок раньше обыкновенного. Поравнялись мы с плац-майорским домом, вдруг смотрим, Нетка голубей кормит. Достоевскому пришла в голову взбалмошная мысль свистнуть на голубей. Вся стая поднялась в воздух, а голубь Достоевского, видно, узнал его, подлетел к нему близко и вьется над головой. Нетка выскочила на дорогу и прямо бросилась к Достоевскому.
— Это ты приманиваешь моих голубей, разбойник: постой, я тебе задам!
Не помню, право, что ответил ей на это Достоевский, кажется, сказал, что она хуже бессовестного животного, знаю только, что сказал сильную и внушительную фразу. Нетка так и замерла на месте.
Далеко мы отошли от плац-майорского дома, а она все стоит; потом смотрю, закрыла лицо руками и тихо пошла в дом.
Мы все ожидали, что эта вспышка дорого обойдется Достоевскому, между тем ничего, прошло благополучно. Потом недели через две узнаем, что Нетка уехала в Россию вместе со своими голубями, но, что всего удивительнее, голубь Достоевского остался и по-прежнему прилетал к нему каждый день. Нарочно ли оставила его Нетка, или он сам от нее улетел — мы не могли узнать. После отъезда Нетки в замке сделалось еще хуже: плац-майор до того рассвирепел, что его не раз удерживали высшие начальствующие лица. Не проходило дня, чтобы в кордегардию не отправлялось несколько человек».
Николай Николаевич Фон-Фохт:
О своем пребывании в Сибири и в каторге Достоевский нам ничего никогда не рассказывал. Он вообще не любил об этом говорить. Все это знали, конечно, и никто не решался никогда возбуждать разговора на эту тему. Только однажды мне удалось, сидя у Федора Михайловича за утренним чаем, услышать от него несколько слов по поводу небольшого Евангелия, которое у него лежало на маленьком письменном столе. Мое внимание возбудило то обстоятельство, что в этом Евангелии края старинного кожаного переплета были подрезаны. На мой вопрос о значении этих подрезов Достоевский мне объяснил, что когда он должен был отправиться в ссылку в Сибирь, то родные благословили и напутствовали его этою книгою, в переплете которой были скрыты деньги. Арестантам не дозволялось иметь собственных денег, а потому такая догадливость его родных до некоторой степени облегчила ему на первое время перенесение суровой и тяжелой обстановки в сибирском остроге.
— Да, — сказал с грустью Федор Михайлович, — деньги — это чеканенная свобода…
С этим Евангелием Достоевский потом никогда в жизни не расставался, и оно у него всегда лежало на письменном столе.
В Семипалатинске
Александр Егорович Врангель:
Весною 1854 года, по освобождении из каторги, Достоевский, как известно, был переведен солдатом без выслуги в Семипалатинск, куда и был доставлен по этапу вместе с другими. Первое время, очень недолго, он жил вместе с солдатами в казарме, но вскоре, по просьбе генерала Иванова и других, ему разрешили жить особо, близ казарм, за ответственностью его ротного командира Степанова. Он, кроме того, состоял под наблюдением своего фельдфебеля, который за малую «мзду» не особенно часто беспокоил его.
Первое время было для него трудное — полное одиночество… Но, мало-помалу, он познакомился с некоторыми офицерами и чиновниками, хотя был далек от тесного сближения с ними. Конечно, после каторги новое его положение, тяжелое с материальной стороны, все же, благодаря относительной свободе, казалось ему раем: так он сам мне говорил…
Семипалатинск лежит на правом высоком берегу Иртыша, широкой рыбной реки, тогда еще не видавшей не только пароходов, но и барок-то на ней Не бывало..
В мое время Семипалатинск… был полугород, полудеревня. Все постройки были деревянные, бревенчатые, очень немногие обшиты досками. Жителей было пять-шесть тысяч человек вместе с гарнизоном и азиатами, кокандскими, бухарскими, ташкентскими и казанскими купцами. Полуоседлые киргизы жили на левом берегу, большею частью в юртах, хотя у некоторых богачей были и домишки, но только для зимовки. Их насчитывали там до трех тысяч.
В городе была одна православная церковь, единственное каменное здание, семь мечетей, большой меновой двор, куда сходились караваны верблюдов и вьючных лошадей, казармы, казенный госпиталь и присутственные места. Училищ, кроме одной уездной школы, не было. Аптека — даже и та была казенная. Магазинов, кроме одного галантерейного, где можно было найти все, — от простого гвоздя до парижских духов и склада сукон и материй, — никаких: все выписывалось с Ирбитской и Нижегородской ярмарок; о книжном магазине и говорить нечего, — некому было читать. Я думаю, во всем городе газеты получали человек десять — пятнадцать, да и не мудрено, — люди в то время в Сибири интересовались только картами, попойками, сплетнями и своими торговыми делами…
Семипалатинск делится на три части, разделенные песчаными пустырями. На север лежала казацкая слободка, самая уютная, красивая, чистая и благообразная часть Семипалатинска. Там был сквер, сады, довольно приглядные здания полкового командира, штаба полка, военного училища и больницы. Казарм для казаков не было — все казаки жили в своих домах и своим хозяйством.
Южная часть города, татарская слобода, была самая большая; те же деревянные дома, но с окнами на двор — ради жен и гарема. Высокие заборы скрывали от любопытных глаз внутреннюю жизнь обывателя-магометанина; кругом домов ни одного дерева — чистая песчаная пустыня. Вообще во всем Семипалатинске не было ни одной мощеной улицы, но мало и грязи, так как сыпучий песок быстро всасывал воду. Зато ходить было трудно, увязая по щиколку в песке, а летом, с палящей жарой в 30° в тени, просто жгло ногу в раскаленном песке.
Среди этих двух слобод, сливаясь с ними в одно, лежал собственно русский город с частью, именовавшеюся еще крепостью, хотя о ней в то время уже и помину не было. Валы были давно снесены, рвы засыпаны песком, и только на память оставлены большие каменные ворота. Здесь жило все военное: помещался линейный батальон, конная казачья артиллерия, все начальство, главная гауптвахта и тюрьма — мое ведомство. Ни деревца, ни кустика, один сыпучий песок, поросший колючками.
Федор Михайлович Достоевский. Из письма брату к Михаилу 27 марта 1854 г.:
Покамест я занимаюсь службой, хожу на ученье и припоминаю старое. Здоровье мое довольно хорошо, и в эти два месяца много поправилось; вот что значит выйти из тесноты, духоты и тяжкой неволи. Климат здесь довольно здоров. Здесь уже начало киргизской степи. Город довольно большой и людный. Азиатов множество. Степь открытая. Лето длинное и горячее, зима короче, чем в Тобольске и в Омске, но суровая. Растительности решительно никакой, ни деревца — чистая степь. В нескольких верстах от города бор, на многие десятки, а может быть, и сотни верст. Здесь все ель, сосна да ветла, других деревьев нету. Дичи тьма. Порядочно торгуют, но европейские предметы так дороги, что приступу нет. Когда-нибудь я напишу тебе о Семипалатинске подробнее. Это стоит того.
Борис Георгиевич Герасимов (1872–1934), краевед:
Живя в казарме, Достоевский являлся невольным свидетелем того, какими суровыми мерами внедрялась дисциплина в солдатскую жизнь. Это положение Достоевского отягчалось тем обстоятельством, что батальон № 7 являлся неспокойным. В нем было много сосланных помещиками дворовых людей и так называемых наемщиков, нанявшихся за других отбывать солдатскую службу, — бесшабашный элемент, не особенно склонный к исполнению правил воинского устава. Все это поднимало настроение казармы. Налицо всегда были элементы брожения, недовольства, которое подавлялось беспощадно. Рост репрессии зависел от степени озлобленности солдат.
Возраст солдат был самый разнообразный: были старики, была и молодежь, немало из кантонистов. Один из последних, пермяк Кац, сданный в солдаты семнадцатилетним мальчиком, оказался соседом Достоевского по нарам. Ф.М. жалел Каца и всячески оберегал его от оскорблений казармы. Кац по окончании военной службы остался на постоянное жительство в Семипалатинске, занимался портняжничеством, имел дом и скончался лет 12 назад. Кац говорил нам, что его очень влекло к Достоевскому «Всей душой я чувствовал, что вечно угрюмый и хмурый рядовой Достоевский бесконечно добрый человек, которого нельзя было не любить». Будучи портным, Кац заработал немного денег и завел самовар, за которым они и сидели с Достоевским в свободное время. Ф.М. отдыхал за самоваром. Чай являлся заметным дополнением к скромному солдатскому столу. Самовар наставлял и за молоком к чаю нередко ходил сам Ф.М. Проснется, бывало, Кац рано утром с твердым желанием поставить самовар и приготовить молоко — смотрит, самовар уже на столе, здесь же стоит кринка с молоком, амуниция вычищена.
Со слов Н. Ф. Каца, сослуживца Достоевского по Семипалатинску:
Ф.М., по его словам, был человек душевный, отзывчивый на все доброе, человек, к которому тянуло каждого солдата какая-то непреодолимая сила, несмотря на его мрачный характер. Службой Ф.М. «не неволили»; служба вообще тогда была легкая в батальоне; муштровки особенной не было, а на караульную службу в гарнизоне Ф.М. посылался редко. Благодаря этому Ф.М. был представлен большею частью себе: он почти всегда читал и писал, в особенности по ночам…
Как теперь, вижу перед собой Федора Михайловича, — передаю подлинные слова Каца, — среднего роста, с плоской грудью; лицо с бритыми, впалыми щеками казалось болезненным и очень старило его. Глаза серые. Взгляд серьезный, угрюмый. В казарме никто из нас, солдат, никогда не видел на его лице полной улыбки. Случалось, что какой-нибудь ротный весельчак для потехи товарищей выкинет забавную штуку, от которой положительно все покатываются от смеха, а у Федора Михайловича только слегка, едва заметно, искривятся углы губ. Голос у него был мягкий, тихий, приятный. Говорил не торопясь, отчетливо. О своем прошлом никому в казарме не рассказывал. Вообще он был мало разговорчив. Из книг у него было только одно Евангелие, которое он берег и, видимо, им очень дорожил…
Ни о деле, за которое попал в Сибирь, ни о своей жизни вообще Достоевский никому в казарме не рассказывал; к сослуживцам относился мягко и был всегда готов, чем возможно, помочь. Приблизительно через год Достоевского произвели в унтер-офицеры и отношение к нему военного начальства значительно изменилось: ему было разрешено жить на частной квартире, и он был почти освобожден от всякой службы. Когда он нужен был зачем-либо в казармы, за ним посылался вестовой. Посыльным Достоевский всегда давал деньги, так что солдаты очень любили за ним ходить.
Глубоко запечатлелась в памяти Н. Ф. Каца одна экзекуция, а именно — наказание шпицрутенами, когда Достоевский находился в строю и, конечно, принужден был нанести и свой очередной удар по обнаженной спине несчастного осужденного… Сзади строя в это время зловеще шагала фигура грозного фронтовика-офицера Веденяева, больше известного семипалатинцам-старожилам под прозвищем Буран. Веденяев наблюдал за экзекуцией и зорко следил, «не облегчает ли кто удара»»… Если же кто, по мнению его, как большого специалиста этого дела, нанес удар «с облегчением», т. е. слабо, тому на спине тотчас же ставил мелом крест… Это значило, что жалостливого и подневольного палача-солдата ожидает основательная порка розгами под благосклонным руководством Веденяева. Розги в то время были употребительным наказанием, весьма любимым такими ревностными служаками, как незабвенный Буран, имевший свою историю и оставивший неувядаемую славу в этом направлении…
Федор Михайлович Достоевский. Из письма к брату Михаилу 30 июля 1854 г.:
Приехал я сюда в марте месяце. Фрунтовой службы почти не знал ничего и между тем в июле месяце стоял на смотру наряду с другими и знал свое дело не хуже других. Как я уставал и чего это мне стоило — другой вопрос; но мною довольны, и слава богу! Конечно все это для тебя не очень интересно, но по крайней мере ты знаешь, чем я был исключительно занят. Что ни пиши, однако же, на письме — однако же никогда ничего не расскажешь. Как ни чуждо все это тебе, но, я думаю, ты поймешь, что солдатство не шутка, что солдатская жизнь со всеми обязанностями солдата не совсем-то легка для человека с таким здоровьем и с такой отвычкой или, лучше сказать, с таким полным ничегонезнанием в подобных занятиях. Чтоб приобрести этот навык, надо много трудов. Я не ропщу; это мой крест, и я его заслужил.
Со слов Андрея Ивановича Бахирева, ротного командира Достоевского в годы службы в Семипалатинске:
[Достоевский] отличался молодцеватым видом и ловкостью приемов, при вызове караулов в ружье. По службе был постоянно исправен и никаким замечаниям не подвергался.
В карауле аккуратность его доходила до того, что он не позволял себе отстегивать чешуйчатую застежку у кивера и крючки от воротника мундира или шинели даже и тогда, когда это разрешалось уставом (например, в ночное время при отдыхе нижних чинов караула перед заступлением на часы).
Его и в рядовом звании освободили от нарядов на хозяйственные работы, а в караул приказано было назначать только по недостатку людей в роте. Но так как в то время шла большая заготовка дров для потребности батальона и для продажи, а также строевого леса для инженерного ведомства, для чего, конечно, требовалось много рабочих рук из нижних чинов, то для обыкновенных служебных Нарядов долгое время недоставало людей, следовательно и Ф. М-чу приходилось частенько бывать в карауле.
Часовым Достоевскому пришлось стоять почти на всех постах того времени.
А. С. Сидоров, отставной штаб-трубач батальона, сослуживец Достоевского:
Ах, какой смиренный был он человек, старался всегда себя ставить ниже всех; идешь, бывало, а он тебе тянется, честь отдает, и уважение должное оказывает, а заговоришь с ним — отвечал учтиво, почтительно. Хороший был человек… Великого ума был человек… Но тогда не знали мы этого, не понимали…
Александр Егорович Врангель:
С каждым днем мы ближе и ближе сходились с Федором Михайловичем. Он стал все чаще и чаще заходить ко мне во всякое время дня, насколько позволяла его солдатская и моя чиновничья служба, зачастую обедал у меня, но особенно любил заходить вечерком пить чай — бесконечные стаканы — и курить мой «Бостанжогло» (тогдашняя табачная фирма) из длинного чубука. Сам же он обыкновенно, как и большинство в России, курил «Жукова». Но часто и это ему было не по карману, и он тогда примешивал самую простую махорку, от которой после каждого визита моего к нему у меня адски болела голова…
По мере сближения с Достоевским все теснее, отношения наши стали самые простые и безыскусственные, — двери мои для него всегда были открыты, днем и ночью. Часто, возвращаясь домой со службы, я заставал у себя Достоевского, пришедшего уже ранее меня или с учения, или из полковой канцелярии, в которой он исполнял разные канцелярские работы. Расстегнув шинель, с чубуком во рту, он шагал по комнате, часто разговаривая сам с собою, так как в голове у него вечно рождалось нечто новое…
Случалось, что и я сам изредка проводил вечер у Достоевского, но и я и он предпочитали мой дом, так как больно уж неуютно и неприглядно было у него. Его упрощенное хозяйство, стирку, шитье и убранство комнаты вела старшая дочь хозяйки — вдовы-солдатки, девушка лет двадцати. У нее была сестра лет шестнадцати, очень красивая. Старшая ухаживала за Федором Михайловичем и, кажется, с любовью, шила ему и мыла белье, готовила пищу и была неотлучно при нем; я так привык к ней, что ничуть не удивлялся, когда она с сестрой садилась тут же с нами летом пить чай en grand neglige, то есть в одной рубашке, подпоясанная только красным кушаком, на голую ногу и с платочком на шее. Бедность у них была большая…
Летом Семипалатинск невыносим: страшно душно, песок накаляется под палящими лучами солнца донельзя. Малейший ветер подымает облака пыли, и тончайший песок засыпает глаза и проникает повсюду. Жара в тени в июне доходила до 32° Реомюра. Я решил переехать за город в апреле, как только степь и деревья зазеленеют. Во всем Семипалатинске была одна дача с огромным садом, за Казацкою слободкою близ лагеря. Это было на руку и Федору Михайловичу, и я предложил ему переехать ко мне из своей берлоги. Дача эта принадлежала богатому купцу-казаку и именовалась «Казаков сад»…
Я еще зимою выписал всевозможных семян цветов, овощей и луковиц из Риги. В городе на дворе уже заблаговременно мы устроили парники и подготовили рассаду. Достоевского это чрезвычайно радовало и занимало, и не раз вспоминал он свое детство и родную усадьбу.
В начале апреля мы с Федором Михайловичем переехали в паше Эльдорадо — в «Казаков сад». Деревянный дом, в котором мы поселились, был очень Ветх, крыша текла, полы провалились; но он был Довольно обширный, и места у нас было вдоволь.
Конечно, мебели никакой — пусто как в сарае. Большое зало выходило на террасу, перед домом устроили мы цветники. Одна большая аллея прорезала весь сад с старыми деревьями. Цветущих кустов никаких: сирени, жасмина, роз — в Семипалатинске тогда и не видывали. Был у нас и огород, который дал нам тоже массу овощей, доселе тоже неведомых в стране.
Среди сада находились ключи чистейшей студеной воды и было вырыто три водоема, в которых я держал стерлядь и маленького осетра, чтобы иметь под рукою рыбу для стола. Раков в то время во всей Сибири не водилось. При доме были конюшни, сараи и обширный двор. Все это обнесено высоким дощатым забором, а весь сад и огород высоким частоколом.
Усадьба наша расположена была на высоком правом берегу Иртыша, к реке шел отлогий зеленый луг. Мы тут устроили шалаш для купанья; вокруг него группировались разнообразные кусты, густые заросли ивы и масса тростника. То там, то сям среди зелени виднелись образовавшиеся от весеннего разлива пруды и небольшие озерки, кишевшие рыбой и водяной дичью. Купаться мы начали в мае.
Цветниками нашими мы с Федором Михайловичем занимались ретиво и вскоре привели их в блестящий вид.
Ярко запечатлелся у меня образ Федора Михайловича, усердно помогавшего мне поливать молодую рассаду, в поте лица, сняв свою солдатскую шинель, в одном ситцевом жилете розового цвета, полинявшего от стирки; на шее болталась неизменная, домашнего изделия, кем-то ему преподнесенная длинная цепочка из мелкого голубого бисера, на цепочке висели большие лукообразные серебряные часы. Он обыкновенно был весь поглощен этим занятием, видимо, находил в этом времяпрепровождении большое удовольствие.
Дни стояли уж очень жаркие. Нередко в заботах наших о цветниках принимали живое участие обе дочери хозяйки Достоевского (его городского обиталища). Они занимались обыкновенно поливкой цветов. Потрудившись часок-другой, мы шли купаться и затем располагались на террасе пить чай или обедать. Читали газеты, покуривая трубки, вспоминали с Федором Михайловичем о Петербурге, о близких и дорогих нам лицах, бранили Европу. Ведь шла еще война под Севастополем, и мы скорбели и тревожились…
Катаясь верхом, — я уговорил наконец и Достоевского сесть на одну из моих лошадей, самую смирную; по-видимому, это довелось ему в первый раз, и как он ни был смешон и неуклюж в роли кавалериста в своей серой солдатской шинели, но скоро вошел во вкус, и мы с ним делали верхом длинные прогулки в самый бор, в окрестные зимовья и в степь с разбросанными по ней юртами киргизов и их ставками. А как чудно хороша была степь! В эту пору вся она была в цвету, благоухала, — яркая зелень, испещренная цветами, как дивный ковер расстилалась на необозримое пространство. Что за прелесть степь раннею весною, пока жгучие лучи солнца не коснулись ее, не иссушили ее!..
Время в «Казаковом саду» шло довольно быстро и приятно. К нам то и дело наезжали знакомые и завидовали нашему благоустройству; особенно часто повадились заглядывать две дамочки. Стояли чудные майские дни, зацвели мои цветники — чудесные георгины, гвоздики, левкои и проч. благодаря тучной нетронутой почве вышли на славу нам и нашим девам, усердно поливавшим наш цветник. Никогда в Семипалатинске, кроме подсолнечников, правда в пол-аршина ширины, никаких цветов и не видывали, и вдруг такое заморское чудо, такая диковинная затея «нелюдимого», как меня называли, барона. К нам стало валить столько народа смотреть наши цветы, что покоя не было, особенно назойливы были дамы — приедут, опустошат все клумбы, рассядутся, и ничем их не выживешь. Долго снисходительно смотрел я, наконец терпение лопнуло, и мы не знали, как избавиться от непрошеных посетительниц.
В нашем палаццо в зале провалился пол и росли какие-то огромные грибы. В этом роде были и остальные комнаты. Одну занял я, в другой расположился Ф.М. — нас разделяли еще две пустые комнаты. Мебели почти никакой, кроме самого необходимого, кой-что соорудили сами из досок и бочонков. Крыс, мышей и ужей мы нашли при нашем переезде в изобилии. Особенно много уже было под нашей террасою на солнцепеке. Начал я замечать, что кто-то выпивал молоко, ставившееся в тарелке на полу террасы для щенят; стал наблюдать и раз увидал, как два ужа подползли к тарелке, быстро поглотали молоко и юркнули в щель. Это меня позабавило и навело на мысль приучить ужей, прикармливая их молоком, к нашему присутствию. И вот стали мы ежедневно под скамью ставить молоко; ужи подползали, питались и понемногу, не спугиваемые нами, привыкли к нашему присутствию, перестали бояться людей. Однажды, только что мы выставили под скамьи террасы заготовленное для ужей молоко и ужи, не заставив себя ждать, облепили чашку, как подошли, веселые и оживленные, наши посетительницы. Напутанные их шумным появлением, ужи шарахнулись и расползлись в разные стороны, путаясь в платьях и под ногами вопивших диким голосом и мечущихся семипалатинских дам, быстро покинувших нашу дачу. Мы долго потом вспоминая это происшествие, хохотали до упаду. Наша дача была объявлена заколдованной, дамы оставили нас в покое, и наши цветы были спасены, но — увы! — не надолго. Когда я в середине августа как-то уехал в отпуск на несколько недель к X., все цветы были выкопаны, пересажаны в горшки, и я увидал их красовавшимися на окнах чиновного монда Семипалатинска. Достоевский, грустно и беспомощно поводя руками, пояснил мне, что против этого решительно поделать ничего не мог, так как вследствие моего отсутствия все его начальство первое набросилось на мои астры, левкои и георгины…
Любимое времяпрепровождение было, когда мы в теплые вечера растягивались на траве и, лежа на спине, глядели на мириады звезд, мерцавших из синей глубины неба. Эти минуты успокаивали его. Созерцание величия Творца, всеведомой, всемогущей Божеской силы наводило на нас какое-то умиление, сознание нашего ничтожества, как-то смиряло наш дух. О религии с Достоевским мы мало беседовали. Он был скорее набожен, но в церковь ходил редко и попов, особенно сибирских, не любил. Говорил о Христе с восторгом… Чудные минуты пережил я с ним. Как много дало мне сближение с такой чудной, богато одаренной натурой. Между нами за все время нашего совместного житья не пробежала ни одна тучка, не было ни одного недоразумения. Он был десятью годами старше и много опытнее меня. Не раз, когда я, по молодости моих лет и житейской неопытности, приходил в отчаяние от окружающей меня гнусной среды, в которой я принужден был работать, когда подчас, казалось, силы оставят меня в борьбе со злом, Федор Михайлович всячески поддерживал во мне энергию, подбодрял меня своими советами и участием. За многое я ему благодарен. На многое он открыл мне глаза, и особенно я чту его память за чувство гуманности, которое он вселил в меня…
Е. А. Мамонтова (урожд. Мельчакова):
Мне было лет 12, когда дядя, у которого я тогда жила, пригласил в качестве учителя для меня Достоевского. Федор Михайлович в общей сложности занимался со мною несколько более года. Для учения — не скрываю — я была малоспособная. Особенно мне не давалась головоломная арифметика. Теперь я положительно удивляюсь терпению своего учителя. Оно у него, вероятно, было неистощимое. Достоевский ходил к нам на занятия в разное время — очевидно, когда он был свободен. Урок продолжался час, иногда два, но не больше. Во время уроков Федор Михайлович почему-то часто сидел в шинели. Расстегнет воротник, и только. Эта шинель отчетливо зарисовалась в памяти, точно вот она сейчас передо мной… Спина из мелких бориков… Не знаю, форма ли тогда такая была или это его личный вкус, но только покрой с спиной из бориков был довольно красивый… Теперь таких шинелей у военных я не вижу. Во время уроков Федор Михайлович часто и продолжительно кашлял. Дядя говаривал, что у него грудь не в порядке. При занятиях со мной был мягкий, ласковый, но в требованиях своих настойчив. Пришлось раз подвергнуться и наказанию своего учителя. Это было так — Федор Михайлович задал мне арифметическую задачу и просил решить ее к следующему уроку. Я задачу не решила. Достоевский заставил решать ее при себе. Задача, на беду мою, упорно не давалась Достоевский ждал. Наконец я, глупая девчонка, потеряла самообладание, озлилась и сказала своему милому и доброму учителю дерзость: «Решить я могу: задача очень трудная… Сидите и решайте сами, а я больше не буду…» Федор Михайлович сказал об этом моим родным, сидевшим в другой комнате, а меня поставил за это в угол, около печки и дверей. Долгонько я простояла в углу. Достоевский остался у нас обедать. После обеда прошло немало времени. Только в сумерки, к вечернему чаю позволили мне оставить неприятное место. Мне шепнули, чтобы я просила извинения, но я заупрямилась. Достоевский ушел. На другой день утром злополучная задача была все-таки решена мною. Федор Михайлович, просмотревши решение, подарил мне, строптивой ученице, коробку (корзиночка с высокой ручкой) конфет.
Достоевский в Семипалатинске бывал во многих домах, в том числе и у судьи Пешехонова, жившего открыто и широко. На вечерах у него бывала всегда масса гостей, для которых угощение было на славу. Танцы и карты процветали. В этом доме танцевал и Достоевский, особенно он был в ударе перед отъездом из Семипалатинска, и кажется мне, что он был тогда во фраке, а не в офицерском мундире…
Зинаида Артемьевна Сытина:
У Федора Михайловича было немало знакомых из разных слоев общества, и ко всем он был одинаково внимателен и ласков. Самый бедный человек, не имеющий никакого общественного положения, приходил к Достоевскому как к другу, высказывал ему свою нужду, свою печаль и уходил от него обласканный. Вообще, для нас, сибиряков, Достоевский личность в высшей степени честная, светлая; таким я его помню, так я о нем слышала от моих отца и матери, и, наверно, таким же его помнят все, знавшие его в Сибири. В 1872 году, в первых числах сентября, я проезжала чрез город Семипалатинск, посетила своих старых знакомых, и в том числе капитана М.В.К., товарища моего покойного отца и сослуживца Достоевского. Мы пошли осматривать Семипалатинск. Проходя по одной улице, К. остановил меня и сказал: «Вот в этом домике жил Достоевский». Это было сказано с такой любовью, с таким благоговением, что трудно передать впечатление, какое произвели на меня эти простые слова.
Возвращение в литературу
Александр Петрович Милюков:
Однажды Михаил Михайлович (Достоевский. — Сост.) пришел ко мне утром с радостной вестью, что брату его разрешено жить в Петербурге и он должен приехать в тот же день. Мы поспешили в вокзал Николаевской железной дороги, и там наконец я обнял нашего изгнанника после десятилетней почти разлуки. Вечер провели мы вместе. Федор Михайлович, как мне показалось, не изменился физически: он даже как будто смотрел бодрее прежнего и не утратил нисколько своей обычной энергии. Не помню, кто из общих знакомых был на этом вечере, но у меня осталось в памяти, что при этом первом свидании мы обменивались только новостями и впечатлениями, вспоминали старые годы и наших общих друзей. После того видались мы почти каждую неделю…
Мало-помалу Федор Михайлович начал рассказывать подробности о своей жизни в Сибири и нравах тех отверженцев, с которыми пришлось ему прожить четыре года в каторжном остроге. Большая часть этих рассказов вошла потом в его «Записки из Мертвого дома». Сочинение это выходило при обстоятельствах довольно благоприятных: в цензуре веял уже в то время дух терпимости, и в литературе появились произведения, какие недавно еще были немыслимы в печати. Хотя новость книги, посвященной исключительно быту каторжных, мрачная канва всех этих рассказов о страшных злодеях и, наконец, то, что сам автор был только что возвращенный политический преступник, смущали несколько цензуру; но это, однако ж, не заставило Достоевского уклониться в чем-нибудь от правды. И «Записки из Мертвого дома» производили потрясающее впечатление: в авторе их видели как бы нового Данта, который спускался в ад тем более ужасный, что он существовал не в воображении поэта, а в действительности…
По возвращении из ссылки в Петербург Федор Михайлович горячо интересовался всеми сколько-нибудь замечательными явлениями в нашей литературе. С особенным участием всматривался он в молодых начинающих писателей и, видимо, радовался, когда подмечал в ком-нибудь из них дарование и любовь к искусству. Когда я заведовал редакцией журнала «Светоч», у меня каждую неделю собирались по вечерам сотрудники, большею частию молодежь. Между прочим, постоянным моим посетителем был известный романист Всеволод Владимирович Крестовский, тогда только что оставивший университет и начинавший свою деятельность лирическими стихотворениями, замечательными по свежести мысли и изяществу формы. Однажды он в присутствии Достоевского прочел небольшую пьесу «Солимская Гетера», сходную по сюжету с известной картиною Семирадского «Грешница». Федор Михайлович, выслушав это стихотворение, отнесся к автору с самым теплым сочувствием и после того не раз просил Крестовского повторять его. Еще с большим участием любил он слушать его поэтические эскизы, связанные в одну небольшую лирическую поэму, под общим названием «Весенние ночи»…
Я мог бы рассказать еще несколько случаев, как с одной стороны его радовал всякий новый талант, а с другой — возмущало проявление в молодых людях испорченности вкуса или равнодушия к литературе. Он скорее извинял легкомысленное увлечение какой-нибудь ложной идеей, чем индифферентизм в искусстве или неуважение к таланту. В суждениях Достоевского о капитальных произведениях литературы выражалась та же тонкая наблюдательность, какую мы находим и в типах, созданных им в собственных романах. Это отчасти видно и в его речи на московских празднествах, при открытии памятника Пушкину; но еще ярче обнаруживалась эта своеобразность, когда дело шло об иностранных авторитетах, утвержденных на мнениях присяжных критиков: тут он был оригинально смел и если не во всем справедлив, то всегда самобытен и чужд обыденной рутины. В его критических и публицистических отзывах, несмотря на их парадоксальность, часто выражался психологический анализ и виднелись такие же неуловимо тонкие черты, как и в оригинальных лицах лучших его произведений.
Николай Николаевич Страхов:
Весь 1860 год мы только почти у А. П. Милюкова виделись с Федором Михайловичем. Я с уважением и любопытством слушал его разговоры и едва ли сам что говорил; но в «Светоче» шел ряд небольших моих статей натурфилософского содержания, и они обратили на себя внимание Федора Михайловича. Достоевские уже собирали тогда сотрудников: в следующем году они решились начать издание толстого ежемесячного журнала «Время» и заранее усердно приглашали меня работать в нем.
Хотя я уже имел маленький успех в литературе и обратил на себя некоторое внимание М. Н. Каткова и Ап. А. Григорьева, все-таки я должен сказать, что больше всего обязан в этом отношении Федору Михайловичу, который с тех пор отличал меня, постоянно ободрял и поддерживал и усерднее, чем кто-нибудь, до конца стоял за достоинства моих писаний. Читатели могут, конечно, смотреть на это как на ошибку с его стороны, но я должен был упомянуть об этом факте, хотя бы как образчике его литературных пристрастий, и охотно сознаюсь, что, несмотря на подшептывания самолюбия, часто сам видел преувеличение в важности, которую придавал Федор Михайлович моей деятельности… Федор Михайлович, конечно, желал бы быть и объявить себя прямым редактором журнала; но он тогда состоял под надзором полиции, почему и потом не мог быть утвержден редактором «Эпохи». Только в 1873 году это препятствие было устранено, и он был официально объявлен редактором «Гражданина». Так как оба брата жили душа в душу, то сначала вышло прекрасное разделение труда; все материальные хлопоты принял на себя Михайло Михайлович, а умственное руководство принадлежало Федору Михайловичу…
Журнал «Время» имел решительный и быстрый успех. Цифры подписчиков, которые так важны были для всех нас, мне твердо памятны. В первом, 1861 году было 2300 подписчиков, и Михайло Михайлович говорил, что он в денежных счетах успел свести концы с концами. На второй год было 4302 подписчика… На третий год издания, в апреле месяце, было уже до четырех тысяч, и Михайло Михайлович говорил, что остальные триста должны непременно набраться к концу года. Таким образом, дело сразу стало прочно, стало со второго же года давать большой доход, так как 2500 подписчиков вполне покрывали издержки издания; авторский гонорар был тогда менее нынешнего, он редко падал ниже пятидесяти рублей за печатный лист, но редко и подымался выше, и почти никогда не переходил ста рублей.
Причинами такого быстрого и огромного успеха «Времени» нужно считать прежде всего имя Ф. М. Достоевского, которое было очень громко; история его ссылки в каторгу была всем известна; она поддерживала и увеличивала его литературную известность — и наоборот. «Мое имя стоит миллиона!» — сказал он мне как-то в Швейцарии с некоторою гордостию.
Другая причина была — прекрасный (при всех своих недостатках) роман «Униженные и оскорбленные», достойно награждавший читателей, привлеченных именем Федора Михайловича. По свидетельству Добролюбова, в 1861 году этот роман был самым крупным явлением в литературе. «Роман г. Достоевского, — писал критик, — очень недурен, до того недурен, что едва ли не его только и читали с удовольствием, чуть ли не о нем только и говорили с полною похвалою…» И дальше: «Словом сказать, роман г. Достоевского до сих пор (это значит до сентября 1861 г.) представляет лучшее литературное явление нынешнего года».
Третьей причиною нужно считать общее настроение публики, никогда Так жадно не бросавшейся на литературные новинки, как в то время. За первым увлечением иногда следовало быстрое разочарование; но на этот раз дело пошло прекрасно. Журнал оказался очень интересным; в нем слышалось воодушевление и, кроме того, заявилось направление вполне либеральное, но своеобразное, не похожее на направление «Современника», многим уже начинавшее набивать оскомину. Но вместе с тем «Время», по-видимому, в существенных пунктах не расходилось с «Современником». Не только в 9-й книжке «Современника» роман Федора Михайловича разбирался с большими похвалами, из которых мы привели несколько строк, но при самом начале «Времени» «Современник» дружелюбно его приветствовал. Первая книжка «Современника» вышла в конце января, недели через три после первого нумера «Времени», и в этой книжке был помещен «Гимн «Времени»» (вероятно, Добролюбова или Курочкина), в котором новый журнал предостерегался от врагов и опасностей. В то время слово «Современника» много значило; он достиг в это время самой вершины своего процветания и решительно господствовал над петербургскою публикою; его привет был действительнее всяких объявлений. В октябрьской книжке «Времени» 1861 года явилось даже стихотворение Некрасова «Крестьянские дети» вместе с комедиею Островского «Женитьба Бальзаминова»; в апрельской книжке «Времени» 1862 года явились сцены Щедрина. Таким образом, самые крупные сотрудники «Современника» по части изящной словесности, и даже Некрасов и Щедрин, отдававшие все свои силы этому журналу, ясно выказали свое особенное расположение ко «Времени». Тут можно видеть, конечно, и отражение успеха «Времени», и даже некоторое уважение к его направлению, уважение, которое, как мне думается, Некрасов сохранял до конца.
Так или иначе, но только «Время» быстро поднялось в глазах читателей, и в то время как старые журналы, «Отечественные записки», «Библиотека для чтения» и т. п., падали, «Время» процветало и стало почти соперничать с «Современником», по крайней мере имело право, по своему успеху, мечтать о таком соперничестве. Этот успех ни в каком случае не был обманчивым явлением, то есть не был одним минутным увлечением, столь обыкновенным в нашей публике…
Во все существование «Времени» сотрудники его составляли две группы. Одна держалась вокруг Ап. Григорьева, умевшего удерживать около себя молодых людей привлекательными чертами своего ума и сердца, особенно же искренним участием к их литературным занятиям; он умел будить их способности и приводить их в величайшее напряжение. Другую группу составляли Федор Михайлович и я; мы особенно подружились и виделись каждый день и даже не раз в день. Летом 1861 г. я переехал с Васильевского Острова на Большую Мещанскую (ныне Казанскую) в дом против Столярного переулка. Редакция была у Михайла Михайловича, жившего в Малой Мещанской, в угольном доме, выходившем на Екатерининский канал; а Федор Михайлович поселился в Средней Мещанской. Ап. Григорьев с своею молодою компаниею ютился в меблированных комнатах на Вознесенском проспекте, очень долго в доме Соболевского. Я написал это, чтобы сказать, что нам было близко друг к другу, но мне живо вспомнился тогдашний низменный характер этих улиц, грязноватых и густо населенных петербургским людом третьей руки. Во многих романах, особенно в «Преступлении и наказании», Федор Михайлович удивительно схватил физиономию этих улиц и их жителей.
Среди этих мест, наводящих тоску и отвращение, все мы прожили очень счастливые годы. Когда дело идет хороню, ничего не может быть занимательнее и возбудительнее журнальной работы. В ней соединяется вся привлекательность общественной публичной жизни со всею прелестию уединенных размышлений и усилий. Страницы, старательно обдуманные и изготовленные в тишине, вдруг выступают на свет на глаза множества читателей и делаются предметом суждений, из которых многие тотчас же до вас доходят. Особенно тогда было в привычке, что каждый журнал говорил о всех других журналах, так что впечатление всякой статьи обнаруживалось очень быстро. Достоевский, Ап. Григорьев и я могли быть уверены, что в новой книжке журнала непременно встретим свое имя. Соперничество разных изданий, напряженное внимание к их направлениям, полемика — все это обращало журнальное дело в такую интересную игру, что, раз ее испытавши, нельзя было потом не чувствовать большого желания опять в нее пуститься.
1862. Первая поездка за границу
Николай Николаевич Страхов:
Летом 1862 года, 7-го или 8-го июня, Федор Михайлович пустился в свою первую поездку за границу. Припомню, что могу, из этой поездки; сам он описал ее впечатления в статье «Зимние заметки о летних впечатлениях». Он поехал в Париж, а потом в Лондон, где виделся с Герценом, как сам о том упоминает в «Дневнике» «Гражданина». К Герцену он тогда относился очень мягко, и его «Зимние заметки» отзываются несколько влиянием этого писателя; но потом, в последние годы, часто выражал на него негодование за неспособность понимать русский народ и неумение ценить черты его быта…
Федор Михайлович Достоевский. Из письма к Н. Н. Страхову 26 июня 1862 г., Париж:
Ах, Николай Николаевич, Париж прескучнейший город, и если б не было в нем очень много действительно слишком замечательных вещей, то, право, можно бы умереть со скуки. Французы, ей-богу, такой народ, от которого тошнит. Вы говорили о самодовольно-наглых и говенных лицах, свирепствующих на наших минералах. Но клянусь Вам, что тут стоит нашего. Наши — просто плотоядные подлецы и большею частию сознательные, а здесь он вполне уверен, что так и надо. Француз тих, честен, вежлив, но фальшив и деньги у него — все. Идеала никакого. Не только убеждений, но даже размышлений не спрашивайте. Уровень общего образования низок до крайности (я не говорю про присяжных ученых. Но ведь тех немного; да и, наконец, разве ученость есть образование, в том смысле, как мы привыкли понимать это слово?). Вы, может быть, посмеетесь, что я так сужу, всего еще только десять дней пробыв в Париже. Согласен; но 1) то, что я видел в эти десять дней, подтверждает покамест мою мысль, и во 2-х) есть некоторые факты, которых заметить и понять достаточно полчаса, но которые ясно обозначают целые стороны общественного состояния, а именно тем, что эти факты возможны, существуют.
Заедете ли Вы в Париж? Заметьте: на три дня в Париж ехать не стоит, а посвятить ему две недели, если Вы только турист, будет скучно. За делом сюда ехать можно. Много есть чего посмотреть, изучить. Мне приходится еще некоторое время пробыть в Париже и потому хочу, не теряя времени, обозреть и изучить его не ленясь, сколько возможно для простого туриста, каков я есмь…
Еще, голубчик Николай Николаевич: Вы не поверите, как здесь охватывает душу одиночество. Тоскливое, тяжелое ощущение! Положим, Вы одинокий человек, и Вам особенно жалеть будет некого. Но опять-таки: чувствуешь, что как-то отвязался от почвы и отстал от насущной, родной канители, от текущих собственных семейных вопросов. Правда, до сих пор все мне не благоприятствовало за границей: скверная погода и то, что я все еще толкусь на севере Европы и из чудес природы видел только Рейн с его берегами (Николай Николаич, Это действительно чудо).
Николай Николаевич Страхов:
На это письмо я обещал быть к сроку в Женеве. Я выехал в половине июля, остановился дня на два, на три в Берлине, потом столько же в Дрездене и прямо проехал в Женеву. Чтобы отыскать Федора Михайловича, я употребил известный способ: пошел гулять по набережной и заходить в самые видные кофейни. Кажется, в первой же из них я нашел его. Мы очень обрадовались друг другу, как люди давно скучавшие среди чужой толпы, и принялись так громко разговаривать и хохотать, что встревожили других посетителей, чинно и молчаливо сидевших за своими столиками и газетами. Мы поспешили уйти на улицу и стали, разумеется, неразлучны. Федор Михайлович не был большим мастером путешествовать; его не занимали особенно ни природа, ни исторические памятники, ни произведения искусства, за исключением разве самых великих; все его внимание было устремлено на людей, и он схватывал только их природу и характеры, да разве общее впечатление уличной жизни. Он горячо стал объяснять мне, что презирает обыкновенную, казенную манеру осматривать по путеводителю разные знаменитые места. И мы действительно ничего не осматривали, а только гуляли, где полюднее, и разговаривали. У меня не было определенной цели, и я тоже старался уловить только общую физиономию этой ни разу еще мною не виданной жизни и природы. Женеву Федор Михайлович находил вообще мрачною и скучною. По моему предложению, мы съездили в Люцерн; мне очень хотелось видеть озеро Четырех Кантонов, и мы делали увеселительную поездку на пароходе по этому озеру. Погода стояла прекрасная, и мы могли вполне налюбоваться этим несравненным видом. Потом мне хотелось быть непременно во Флоренции, о которой так восторженно писал и рассказывал Ап. Григорьев. Мы пустились в путь через Монсенис и Турин в Геную; там сели на пароход, на котором приехали в Ливорно, а оттуда по железной дороге во Флоренцию. В Турине мы ночевали, и он своими прямыми и плоскими улицами показался Федору Михайловичу напоминающим Петербург. Во Флоренции мы прожили с неделю в скромной гостинице Pension Suisse (Via Tomabuoni). Жить здесь нам было недурно, потому что гостиница не только была удобна, но и отличалась патриархальными нравами… И туг мы не делали ничего такого, что делают туристы. Кроме прогулок по улицам, здесь мы занимались еще чтением. Тогда только что вышел роман В. Гюго «Les Miserables»[12], и Федор Михайлович покупал его том за томом. Прочитавши сам, он передавал книгу мне, и тома три или четыре было прочитано в эту неделю. Однако мне хотелось не упустить случая познакомиться с великими произведениями искусства, попробовать при спокойном и внимательном рассматривании угадать и разделить восторг, созидавший эту красоту, и я несколько раз навестил galleria degli Uffizi. Однажды мы пошли туда вместе; но так как мы не составили никакого определенного плана и нимало не готовились к осмотру, то Федор Михайлович скоро стал скучать, и мы ушли, кажется не добравшись даже до Венеры Медицейской. Зато наши прогулки по городу были очень веселы, хотя Федор Михайлович и находил иногда, что Арно напоминает Фонтанку… Но всего приятнее были вечерние разговоры на сон грядущий за стаканом красного местного вина…
Из «Заметок» («Зимние заметки о летних впечатлениях». — Сост.) самого Достоевского читатели всего яснее увидят, на что было направлено его внимание за границею, как и везде. Его интересовали люди» исключительно люди, с их душевным складом, с образом их жизни, их чувств и мыслей.
Из дневника Аполлинарии Сусловой 1863 года:
1 августа, среда. Париж.
…Сейчас получила письмо от Федора Михайловича. Он приедет через несколько дней. Я хотела видеть его, чтоб сказать все, но теперь решила писать.
19 августа.
«Ты едешь немножко поздно… Еще очень недавно я мечтала ехать с тобой в Италию и даже начала учиться итальянскому языку — все изменилось в несколько дней. Ты как-то говорил, что я не скоро могу отдать свое сердце. — Я его отдала в неделю по первому призыву, без борьбы, без уверенности, почти без надежды, что меня любят. Я была права, сердясь на тебя, когда ты начинал мной восхищаться. Не подумай, что я порицаю себя, но хочу только сказать, что ты меня не знал, да и я сама себя не знала. Прощай, милый!
Мне хотелось тебя видеть, но к чему это поведет? Мне очень хотелось говорить с тобой о России».
В эту минуту мне очень и очень грустно. Какой он великодушный, благородный! какой ум! какое сердце!..
17, среда [13]
Сейчас получила письмо от Федора Михайловича по городской уже почте. Как он рад, что скоро меня увидит. Я ему послала очень коротенькое письмо, которое было заранее приготовлено. Жаль мне его очень.
Какие разнообразные мысли и чувства будут волновать его, когда пройдет первое впечатление горя! Боюсь только, как бы он, соскучившись меня дожидаться (письмо мое придет не скоро), не пришел ко мне сегодня, прежде получения моего письма. Я не выдержу равнодушно этого свидания. Хорошо, что я предупредила его, чтобы он прежде мне написал, иначе что б было…
Того же числа вечером.
Так и случилось. Едва успела я написать предыдущие строки, как Федор Михайлович явился. Я увидела его в окно, но дождалась, когда мне пришли сказать о его приезде, и то долго не решалась выйти. «Здравствуй», — сказала я ему дрожащим голосом. Он спрашивал, что со мной, и еще более усиливал мое волнение, вместе с которым развивалось его беспокойство.
— Я думала, что ты не приедешь, — сказала я, — потому что написала тебе письмо.
— Какое письмо?
— Чтобы ты не приезжал.
— Отчего?
— Оттого, что поздно.
Он опустил голову.
— Я должен все знать, пойдем куда-нибудь и скажи мне, или я умру.
Я предложила ехать с ним к нему. Всю дорогу мы молчали. Я не смотрела на него. Он только по временам кричал кучеру отчаянным и нетерпеливым голосом: «Vite, vite», причем тот иногда оборачивался и смотрел с недоумением. Я старалась не смотреть на Федора Михайловича. Он тоже не смотрел на меня, но всю дорогу держал мою руку и по временам сжимал ее и делал какие-то судорожные движения.
— Успокойся, ведь я с тобой, — сказала я.
Когда мы вошли в его комнату, он упал к моим ногам и, сжимая, обняв, с рыданием мои колени, громко зарыдал: «Я потерял тебя, я это знал!» Успокоившись, он начал спрашивать меня, что это за человек. «Может быть, он красавец, молод, говорун. Но никогда ты не найдешь другого сердца, как мое».
Я долго не хотела ему отвечать.
— Ты отдалась ему совершенно?
— Не спрашивай, это нехорошо, — сказала я.
— Поля, я не знаю, что хорошо и что дурно. Кто он: русский, француз, не мой доктор? Тот <нрзбр.>?
— Нет, нет.
Я ему сказала, что очень люблю этого человека.
— Ты счастлива?
— Нет.
— Как же это? Любишь и не счастлива, да возможно ли это?
— Он меня не любит.
— Не любит! — вскричат он, схватившись за голову, в отчаянии. — Но ты не любишь его как раба, скажи мне, это мне нужно знать! Не правда ли, ты пойдешь с ним на край света?
— Нет, я… я уеду в деревню, — сказала я, заливаясь слезами.
— О Поля, зачем же ты так несчастлива! Это должно было случиться, что ты полюбишь другого. Я это знал. Ведь ты по ошибке полюбила меня, потому что у тебя сердце широкое, ты ждала до двадцати трех лет, ты единственная женщина, которая не требует никаких обязанностей, но чего это стоит: мужчина и женщина не одно и то же. Он берет — она дает.
Когда я сказала ему, что это за человек, он сказал, что в эту минуту испытал гадкое чувство: что ему стало легче, что это не серьезный человек, не Лермонтов. Мы много еще говорили о посторонних предметах. Он мне сказал, что счастлив тем, что узнал на свете такое существо, как я. Он просил меня оставаться в дружбе с ним и особенно писать, когда я особенно счастлива или несчастлива. Потом предлагал ехать в Италию, оставаясь как мой брат. Когда я ему сказала, что он, верно, будет писать свой роман, он сказал: «За кого ты меня принимаешь! Ты думаешь, что все пройдет без всякого впечатления». Я ему обещала прийти на другой день. Мне стало легче, когда я с ним поговорила. Он понимает меня…
6 сентября. Баден-Баден.
Путешествие наше с Федором Михайловичем довольно забавно; визируя наши билеты, он побранился в папском посольстве; всю дорогу говорил стихами, наконец здесь, где мы с трудом нашли две комнаты с двумя постелями, он расписался в книге «Officier», чему мы очень смеялись. Все время он играет на рулетке и вообще очень беспечен. Дорогой он сказал мне, что имеет надежду, хотя прежде утверждал, что нет. На это я ему ничего не сказала, но знала, что этого не будет. Ему понравилось, что я так решительно оставила Париж, он этого не ожидал. Но на этом еще нельзя основывать надежды — напротив. Вчера вечером эти надежды особенно высказались. Часов в десять мы пили чай. Кончив его, я, так как в этот день устала, легла на постель и попросила Федора Михайловича сесть ко мне ближе. Мне было хорошо. Я взяла его руку и долго держала в своей. Он сказал, что ему так очень хорошо сидеть.
Я ему говорила, что была к нему несправедлива и груба в Париже, что я как будто думала только о себе, но я думала и о нем, а говорить не хотела, чтобы не обидеть. Вдруг он внезапно встал, хотел идти, но запнулся за башмаки, лежавшие подле кровати, и так же поспешно воротился и сел.
— Ты куда ж хотел идти? — спросила я.
— Я хотел закрыть окно.
— Так закрой, если хочешь.
— Нет, не нужно. Ты не знаешь, что сейчас со мной было! — сказал он с странным выражением.
— Что такое? — Я посмотрела на его лицо, оно было очень взволнованно.
— Я сейчас хотел поцеловать твою ногу.
— Ах, зачем это? — сказала я в сильном смущении, почти испуге и подобрав ноги.
— Так мне захотелось, и я решил, что поцелую.
Потом он меня спрашивал, хочу ли я спать, но я сказала, что нет, хочется посидеть с ним. Думая спать и раздеваться, я спросила его, придет ли горничная убирать чай. Он утверждал, что нет. Потом он так смотрел на меня, что мне стало неловко, я ему сказала это.
— И мне неловко, — сказал он с странной улыбкой. Я спрятала свое лицо в подушку. Потом я опять спросила, — придет ли горничная, и он опять утверждал, что нет.
— Ну так поди к себе, я хочу спать, — сказала я.
— Сейчас, — сказал он, но несколько времени оставался. Потом он целовал меня очень горячо и, наконец, стал зажигать для себя свечу. Моя свечка догорала.
— У тебя не будет огня, — сказал он.
— Нет, будет, есть целая свечка.
— Но это моя.
— У меня есть еще.
— Всегда найдутся ответы, — сказал он улыбаясь и вышел. Он не затворил своей двери и скоро вошел ко мне под предлогом затворить мое окно. Он подошел ко мне и посоветовал раздеваться.
— Я разденусь, — сказала я, делая вид, что только дожидаюсь его ухода.
Он еще раз вышел и еще раз пришел под каким-то предлогом, после чего уже ушел и затворил свою дверь. Сегодня он напомнил о вчерашнем дне и сказал, что был пьян. Потом он сказал, что мне, верно, неприятно, что он меня так мучит. Я отвечала, что мне это ничего, и не распространялась об этом предмете, так что он не мог иметь ни надежды, ни безнадежности. Он сказал, что у меня была очень коварная улыбка, что он, верно, казался мне глуп, что он сам сознает свою глупость, но она бессознательна…
14 сентября. Турин. 1863.
Вчера мы обедали с Федором Михайловичем в нашей гостинице за table d'hote. Обедающие были все французы, молодые люди; один из них очень нагло посматривал на меня, и даже Федор Михайлович заметил, что он как-то двусмысленно кивал на меня своему товарищу. Федора Михайловича взбесило и привело в затруднение потому, что ему довольно трудно в случае нужды меня защищать. Мы решились обедать в другой гостинице. После того как француз кивнул на меня своему соседу, Федор Михайлович подарил его таким взглядом, что тот опустил глаза и начал острить очень неудачно.
17 сентября. Турин. 1863.
На меня опять нежность к Федору Михайловичу[14]. Я как-то упрекала его, а потом почувствовала, что не права, мне хотелось загладить эту вину; я стала нежна с ним. Он отозвался с такою радостью, что это меня тронуло, и стала вдвое нежнее. Когда я сидела подле него и смотрела на него с лаской, он сказал: «Вот это знакомый взгляд, давно я его не видал». Я склонилась к нему на грудь и заплакала.
Когда мы обедали, он, смотря на девочку, которая брала уроки, сказал: «Ну вот, представь себе, такая девочка с стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: «Истребить весь город». Всегда так было на свете». <…>
Рим. 29 сентября.
Вчера Федор Михайлович опять ко мне приставал. Он говорил, что я слишком серьезно и строго смотрю на вещи, которые того не стоят. Я сказала, что тут есть одна причина, которой прежде мне не приходилось высказать. Потом он сказал, что меня заедает утилитарность. Я сказала, что утилитарности не могу иметь, хотя и есть некоторое поползновение. Он <не> согласился, сказав, что имеет доказательства. Ему, по-видимому, хотелось знать причину моего упорства. Он старался ее отгадать.
— Ты не знаешь, это не то, — отвечала я на разные его предположения.
У него была мысль, что это каприз, желание помучить.
— Ты знаешь, — говорил он, — что мужчину нельзя так долго мучить, он, наконец, бросит добиваться. Я не могла не улыбнуться и едва не спросила, для чего он это говорил.
— Всему этому есть одна главная причина, — начал положительно (после я узнала, что он не был уверен в том, что говорил), — причина, которая внушает мне омерзение, — это полуост<ров>[15].
Это неожиданное напоминание очень взволновало меня.
— Ты надеешься.
Я молчала.
— Теперь ты не возражаешь, — сказал он, — не говоришь, что это не то.
Я молчала.
— Я не имею ничего к этому человеку, потому что это слишком пустой человек.
— Я нисколько не надеюсь, мне нечего надеяться, — сказала я, подумав.
— Это ничего не значит, рассудком ты можешь отвергать все ожидания, это не мешает.
Он ждал возражения, но его не было, я чувствовала справедливость этих слов.
Он внезапно встал и пошел лечь на постель. Я стала ходить по комнате. Мысль моя вдруг обновилась, мне в самом деле блеснула какая-то надежда. Я стала, не стыдясь, надеяться.
Проснувшись, он сделался необыкновенно развязен, весел и навязчив. Точно он хотел этим победить внутреннюю обидную грусть и насолить мне.
Я с недоумением смотрела на его странные выходки. Он будто хотел обратить все в смех, чтоб уязвить меня, но я только смотрела на него удивленными глазами.
— Нехороший ты какой, — сказала я наконец просто.
— Чем? Что я сделал?
— Так, в Париже и Турине ты был лучше. Отчего ты такой веселый?
— Это веселость досадная, — сказал он и ушел, но скоро пришел опять.
— Нехорошо мне, — сказал он серьезно и печально. — Я осматриваю все как будто по обязанности, как будто учу урок; я думал, по крайней мере, тебя развлечь.
Я с жаром обвила его шею руками и сказала, что он для меня много сделал, что мне очень приятно.
— Нет, — сказал он печально, — ты едешь в Испанию.
Мне как-то страшно и больно — сладко от намеков о С<альвадоре>. Какая, однако, дичь во всем, что было между мной и Сальв<адором>. Какая бездна противоречий в отношениях его ко мне!
Федор Михайлович опять все обратил в шутку и, уходя от меня, сказал, что ему унизительно так меня оставлять (это было в 1 час ночи. Я раздетая лежала в постели). «Ибо россияне никогда не отступали»..
16 апреля 1864 года. У гроба жены
Федор Михайлович Достоевский. Из записной книжки:
Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?
Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, — невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек. Между тем после появления Христа, как идеала человека во плоти, стало ясно как день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития, в самом пункте достижения цели), чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я, — это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастие. Таким образом, закон я сливается с законом гуманизма, и в слитии, оба, и я и все (по-видимому, две крайние противоположности), взаимно уничтож<енн>ые друг для друга, в то же самое время достигают и высшей цели своего индивидуального развития каждый особо.
Это-то и есть рай Христов. Вся история, как человечества, так отчасти и каждого отдельно, есть только развитие, борьба, стремление и достижение этой цели.
Но если это цель окончательная человечества (достигнув которой ему не надо будет развиваться, то есть достигать, бороться, прозревать при всех падениях своих идеал и вечно стремиться к нему, — стало быть, не надо будет жить) — то, следственно, человек, достигая, оканчивает свое земное существование. Итак, человек есть на земле существо только развивающееся, следовательно, не оконченное, а переходное.
Но достигать такой великой цели, по моему рассуждению, совершенно бессмысленно, если при достижении цели все угасает и исчезает, то есть если не будет жизни у человека и по достижении цели. Следственно, есть будущая, райская жизнь.
Какая она, где она, на какой планете, в каком центре, в окончательном ли центре, то есть в лоне всеобщего синтеза, то есть Бога? — мы не знаем. Мы знаем только одну черту будущей природы будущего существа, которое вряд ли будет и называться человеком (след<овательно>, и понятия мы не имеем, какими будем мы существами). Эта черта предсказана и предугадана Христом — великим и конечным идеалом развития всего человечества, — представшим нам, по закону нашей истории, во плоти; эта черта:
«Не женятся и не посягают, а живут, как ангелы Божии». — Черта глубоко знаменательная.
1) Не женятся и не посягают, — ибо не для чего; развиваться, достигать цели, посредством смены поколений уже не надо и
2) Женитьба и посягновение на женщину есть как бы величайшее оттолкновение от гуманизма, совершенное обособление пары от всех (мало остается для всех). Семейство, то есть закон природы, но все-таки ненормальное, эгоистическое в полном смысле состояние от человека. Семейство — это величайшая святыня человека на земле, ибо посредством этого закона природы человек достигает развития (то есть сменой поколений) цели. Но в то же время человек по закону же природы, во имя окончательного идеала своей цели, должен беспрерывно отрицать его. (Двойственность.)
NB. Антихристы ошибаются, опровергая христианство следующим главным пунктом опровержения: 1) «Отчего же христианство не царит на земле, если оно истинно; отчего же человек до сих пор страдает, а не делается братом друг другу?»
Да очень понятно почему: потому что это идеал будущей, окончательной жизни человека, а на земле человек в состоянии переходном. Это будет, но будет после достижения цели, когда человек переродится по законам природы окончательно в другую натуру, которая не женится и не посягает, и, 2-е. Сам Христос проповедовал свое учение только как идеал, сам предрек, что до конца мира будет борьба и развитие (учение о мече), ибо это закон природы, потому что на земле жизнь развивающаяся, а там — бытие, полное синтетически, вечно наслаждающееся и наполненное, для которого, стало быть, «времени больше не будет».
NB2. Атеисты, отрицающие Бога и будущую жизнь, ужасно наклонны представлять все это в человеческом виде, тем и грешат. Натура Бога прямо противоположна натуре человека. Человек, по великому результату науки, идет от многоразличия к Синтезу, от фактов к обобщению их и познанию. А натура Бога другая. Это полный синтез всего бытия, саморассматривающий себя в многоразличии, в Анализе. Но если человек не человек — какова же будет его природа?
Понять нельзя на земле, но закон ее может предчувствоваться и всем человечеством в непосредственных эманациях (Прудон, происхождение бога), и каждым частным лицом.
Это слитие полного я, то есть знания и синтеза со всем. «Возлюби всё, как себя». Это на земле невозможно, ибо противуречит закону развития личности и достижения окончательной цели, которым связан человек. Следовательно, это закон не идеальный, как говорят антихристы, а нашего идеала.
NB. Итак, все зависит от того: принимается ли Христос за окончательный идеал на земле, то есть от веры христианской. Коли веришь во Христа, то веришь, что и жить будешь вовеки.
Есть ли в таком случае будущая жизнь для всякого я? Говорят, человек разрушается и умирает весь.