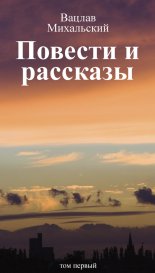Голодное пламя Сунд Эрик

Жанетт не ожидала, что ее вопрос мячиком прилетит к ней самой. Она посмотрела на Юхана, подумала про Оке, про своих начальников, своих коллег. Конечно, среди них были настоящие свиньи, но это ведь не касается всех. То, о чем говорила София, происходило из какого-то другого, чуждого ей мира. И такое люди чувствуют.
Тьма Софии – из чего она состоит?
– Это мужской мир, здесь все оценивается деньгами, – продолжила София, прежде чем Жанетт успела сформулировать ответ. – Заглянуть в кошелек, когда куда-нибудь едешь. Король, не иначе.
– Йенни Линд? Сельма Лагерлёф? – сделала попытку Жанетт.
– Дешевые бумажные деньги. Иностранные туристы думают, что Сельма Лагерлёф – мужчина. Спрашивают, во времена какого короля он жил. А может, он Бернадот?[8]
– Ты что, шутишь? – Жанетт рассмеялась – настолько это все было неправдоподобно.
– Не шучу. Просто я – бешеная стерва.
В глазах Софии трудно было что-то прочитать.
«Ненависть, ирония, безумие или знание? А есть ли разница?» – подумала Жанетт.
– Курить хочется. Пойдешь со мной? – прервала София ее мысли.
Во всяком случае, она над ней не подсмеивалась. Как Оке.
– Нет… Иди. Я посижу с Юханом.
София захватила пальто и вышла.
Прошлое
Дерево, рябину, посадили в день, когда она родилась.
Однажды она пыталась поджечь его, но дерево не захотело гореть.
В нагретом купе пахнет сидящими рядом людьми. Виктория открывает окно, пытаясь проветрить, но запах словно въелся в плюш.
Головная боль, мучившая ее с той минуты, как она очнулась, с веревкой на шее, на полу туалета в копенгагенской гостинице, начинает отпускать. Но во рту сохраняется болезненное ощущение, и ноет сломанный передний зуб. Она проводит языком по зубному ряду. Осколок царапается, надо поставить пломбу, как только вернусь домой.
Поезд трогается и медленно отъезжает от станции. Начинает моросить дождь.
Я могу делать что хочу, думает она. Оставить все позади и никогда не возвращаться к нему. Позволит ли он это? Она не знает. Она нужна ему, и он нужен ей.
Во всяком случае, прямо сейчас.
Неделю назад они с Ханной и Йессикой на пароме переправились с Корфу в Бриндизи, а потом поездом добирались до Рима и Парижа. Всю дорогу в окна стучал серенький дождь. Июль выглядел как ноябрь. Два бессмысленных дня в Париже. Ханна и Йессика, одноклассницы из Сигтуны, рвались домой; замерзшие и промокшие, они сели на поезд на Северном вокзале.
Виктория залезает наверх и натягивает куртку на голову. Остался последний отрезок пути, после того как они месяц пилили на поездах через всю Европу.
Всю поездку Ханна с Йессикой были как тряпичные куклы. Неулыбчивые мертвые вещи, сведенные вместе стежками, сделанными кем-то другим. Тряпочные чехлы, набитые ватой. Они ей надоели, и когда поезд остановился в Лилле, она решила сойти. Дальнобойщик-датчанин предложил подбросить ее, она доехала до самой Дании, а в Копенгагене обменяла последние дорожные чеки и сняла номер в гостинице.
Голос сказал ей, что делать. Но у нее не получилось.
Она осталась жива.
Поезд приближается к паромной переправе в Хельсингёре. Она размышляет: могла бы ее жизнь быть другой? Скорее всего, нет. Но сейчас она бессмысленна. Она связана с ненавистью, как гром с молнией. Как кулак с ударом.
Отец всадил нож в ее детство, и лезвие все еще подрагивает.
В Виктории не осталось ничего, что могло бы улыбаться.
Возвращение в Стокгольм заняло целую ночь, и всю дорогу Виктория проспала. Проводник разбудил ее прямо перед прибытием, и теперь у нее скверное настроение, к тому же кружится голова. Ей снился какой-то сон, но она его не помнит, осталось только неприятное ощущение в теле.
Раннее утро, и воздух прохладный. Она выходит из поезда, надевает рюкзак и входит в просторный сводчатый зал ожидания. Как и предполагала, никто ее не встречает. Она становится на эскалатор и спускается вниз, в метро.
Дорога на автобусе от Слюссена до Вермдё и Грисслинге занимает полчаса, и она тратит это время, чтобы насочинять невинных анекдотов о поездке. Она знает, что он захочет услышать все и не удовлетворится описанием без деталей.
Виктория сходит с автобуса и медленно идет по улице, где она дала названия столь многому.
Она видит Дерево-для-лазанья и Камень-Лестницу. Холмик, который она назвала Горой, и ручей, который когда-то стал Рекой.
Она-семнадцатилетняя делает свои подростковые шаги, но другой ее части всего два года.
На подъездной дорожке стоит белая «вольво». Виктория видит их в саду.
Он стоит к ней спиной, занимается чем-то, а мама, сидя на корточках, выпалывает сорняки на клумбах. Виктория снимает рюкзак и ставит его на террасу.
Только теперь он слышит ее и оборачивается.
Она улыбается ему, машет, но он без выражения смотрит на нее и снова отворачивается, возвращаясь к своей работе.
Мать поднимает взгляд от клумбы и осторожно кивает Виктории. Виктория кивает в ответ, подхватывает рюкзак и идет в дом.
В подвале она сбрасывает одежду и складывает ее в корзину для грязного белья. Раздевается, идет в душ.
Неожиданный сквозняк колышет душевую занавеску, и Виктория понимает: он здесь.
– Хорошо съездила? – спрашивает он.
Его тень падает на занавеску, и в животе у Виктории все сжимается. Она не хочет отвечать, но, несмотря на все унижения, каким он ее подвергал, она не должна встречать его тем молчанием, которое может спровоцировать его.
– Ага. Отлично. – Она старается, чтобы ее голос звучал радостно и легко, старается не думать о том, что он стоит меньше чем в полуметре от ее обнаженного тела.
– Денег хватило?
– Да. Я даже немного привезла назад. У меня же была с собой стипендия, так что…
– Хорошо, Виктория. Ты… – Он замолкает. Она слышит, как он всхлипывает.
Он плачет?
– Мне тебя не хватало. Без тебя тут была такая пустота. Да, нам обоим, конечно, тебя не хватало.
– Но теперь же я дома. – Она старается говорить весело, но узел в желудке затягивается – ведь она знает, чего он хочет.
– Хорошо, Виктория. Купайся, одевайся, а потом мы с мамой хотим с тобой поговорить. Мама поставила чайник. – Он сморкается в платок, шмыгает носом.
Да, он плачет.
– Я мигом.
Она дожидается, пока он уйдет, выключает воду, выходит и вытирается. Она знает – он может вернуться в любую секунду, поэтому одевается как можно быстрее. Даже не ищет чистые трусы – натягивает те, в которых ехала из Дании.
Они молча сидят за кухонным столом и ждут ее. Бормочет радио на окне. На столе – чайник и блюдо с миндальным кексом. Мама наливает чашку. Крепко пахнет мятой и медом.
– Добро пожаловать домой, Виктория. – Мама протягивает блюдо с кексом, не глядя дочери в глаза.
Виктория пытается поймать ее взгляд. Пытается снова и снова.
Она меня не узнает, думает она.
Настоящее здесь только блюдо с кексом.
– Тебе ведь хотелось настоящего… – Мать сбивается, ставит блюдо на стол, стряхивает невидимые крошки со стола. – После всего странного…
– Все будет хорошо. – Виктория скользит взглядом по кухне, потом переводит глаза на него. – Вы хотели мне что-то сказать.
Она макает посыпанную сахаром выпечку в чай; большой кусок отламывается и падает в чашку. Виктория со странным чувством следит, как он почти растворяется, как обрывки сдобы опускаются на дно чашки, словно целого никогда не существовало.
– Пока тебя не было, мы с мамой подумали и решили, что нам надо на время уехать отсюда.
Он наклоняется через стол, и мама кивает в знак согласия, словно чтобы придать веса его заявлению.
– Уехать? Куда?
– Я получил задание возглавить проект в Сьерра-Леоне. Для начала поживем там шесть месяцев, потом, если понравится, сможем остаться еще на полгода.
Он складывает перед собой свои маленькие руки, и она замечает, какие они старые, морщинистые.
Такие жесткие и настойчивые. Обжигающие.
Викторию передергивает при мысли, что он притронется к ней.
– Но я подала заявление в Упсалу, и… – Слезы на глазах, но она не хочет показаться слабой. Это даст ему предлог утешать ее. Неотрывно глядя в чашку, она берет ложечку и перемешивает остатки кекса в кашу. – Африка ведь далеко, и я…
Она, кажется, всегда будет целиком принадлежать ему. Ничего не чувствовать, не иметь куда бежать, если ей понадобится.
– Мы устроили так, что ты сможешь проучиться несколько курсов дистанционно. И тебе будут помогать несколько раз в неделю.
Он смотрит на нее своими водянистыми серо-голубыми глазами. Он уже все решил, и ей добавить нечего.
– Что за курс? – Она чувствует, как боль стреляет в зуб, и проводит рукой по подбородку.
Они даже не спросили, что у нее с зубом.
– Основы психологии. Мы думаем, тебе это подойдет.
Он сцепляет перед собой руки и ждет ее ответа.
Мать встает, относит свою чашку в мойку. Молча споласкивает, тщательно вытирает, ставит в шкафчик.
Виктория ничего не говорит. Она знает – протестовать бессмысленно.
Лучше подавить гнев и дать ему вырасти как следует. Когда-нибудь она откроет запруду и позволит пламени излиться на мир. И в тот день она не будет знать милосердия.
Она улыбается ему:
– Прекрасно. Это же всего на несколько месяцев. Здорово узнать что-то новое.
Он кивает и поднимается из-за стола, давая понять: разговор окончен.
– Теперь можно и разойтись, – говорит он. – Наверное, Виктории надо отдохнуть. А я продолжу тут, в саду. В шесть баня нагреется, и мы еще поговорим. Подходит? – Он требовательно смотрит сначала на Викторию, потом на мать.
Обе кивают.
Вечером ей трудно уснуть, и она ворочается в постели.
Ей больно, потому что он был грубым. Кожу жжет – он мыл ее почти кипятком, болит низ живота. Но она знает – за ночь пройдет. Поскольку он доволен и будет спать.
Виктория сопит в собачку из настоящего кроличьего меха.
В своем внутреннем дневнике она ведет бухгалтерский учет всех причиненных ей обид и с нетерпением ждет того дня, когда он и все прочие будут, корчась, умолять ее о пощаде.
Каролинская больница
Убить человека – это просто. Проблема скорее психологическая, и условий тут – огромный диапазон. Большинству людей требуется преодолеть множество барьеров. Эмпатия, совесть, долгие размышления обычно препятствуют тому, чтобы взрастить смертоносное насилие.
Но для иных это не сложнее, чем открыть пакет молока.
В коридорах много народу: время посещений. На улице хлещет дождь, штормовой ветер со стуком бьется в оконные стекла. То и дело черное небо освещается молниями, и сразу же грохочет гром.
Гроза бушует почти везде.
На стене возле лифта – план. Она не хочет ни к кому обращаться с вопросом, как пройти, поэтому подходит к плану и проверяет, не ошиблась ли.
Пол натерт до блеска, в коридоре пахнет моющим средством. В одной руке она судорожно сжимает букет желтых тюльпанов. Каждый раз, встречая кого-нибудь, она опускает взгляд, чтобы избежать зрительного контакта.
На ней простой плащ, такие же брюки и белые туфли на мягкой резиновой подошве. Никто не обращает на нее внимания, и если кто-нибудь вопреки ожиданиям вспомнит о ней, то не сможет назвать ни одной примечательной детали.
Она – первая встречная и привыкла, что на нее не обращают внимания. Сейчас ей все равно, но когда-то людское безразличие причиняло ей боль.
Давным-давно она была одинока. Но теперь – нет.
Во всяком случае, не так, как когда-то.
Перед отделением интенсивной терапии она остановилась, огляделась и присела на диван у входа. Прислушивалась, наблюдала.
Непогода усиливается. С парковки трогается несколько машин. Она осторожно открыла сумочку и проверила, не забыла ли чего-нибудь. Все на месте.
Поднялась, решительно открыла дверь, вошла. Благодаря резиновым подошвам она двигалась почти бесшумно. Бубнит телевизор, шумит кондиционер, неравномерно пощелкивает люминесцентная лампа на потолке.
Осмотрелась. В коридоре никого.
Его палата – вторая налево. Быстро войдя, она закрыла за собой дверь, остановилась и прислушалась. Ничто не вызвало ее беспокойства.
Все тихо. Как она и ожидала, он лежал в палате один.
На окне стояла лампа, и палата, освещенная ее желтым лихорадочным светом, казалась меньше, чем на самом деле.
В изножье кровати висела история болезни. Она взяла ее и принялась читать.
Карл Лундстрём.
Возле койки стояли разные аппараты и два штатива с капельницами, трубочки от которых были закреплены на шее, прямо над ключицами. Из носа тянулись два прозрачных зонда, а изо рта торчала еще трубка. Зеленая, потолще, чем трубки в носу.
Да он просто груда мяса, подумала она.
Усыпляющее ритмичное попискивание слышалось от одного из аппаратов жизнеобеспечения. Она знала, что не может взять и просто отключить их. Поднимется тревога, и персонал будет в палате через несколько минут.
То же произойдет, если она попытается задушить его.
Она посмотрела на него. Его глаза беспокойно двигались под закрытыми веками. Может быть, он осознает, что она здесь.
Может быть, он даже понимает, зачем она здесь. Сознает – и не может ничего сделать.
Поставив сумочку у изножья кровати, она открыла ее и, прежде чем подойти к штативу капельницы, вынула из сумочки небольшой шприц.
В коридоре что-то загремело. Она замерла, прислушалась, готовая спрятать шприц, если кто-нибудь войдет, но через полминуты все стихло.
Только дождь стучит в окно и посапывает аппарат искусственного дыхания.
Она стала читать надписи на капельницах.
Morphine и Nutrition.
Она подняла шприц, воткнула его в верхнюю часть мешка с питательным раствором и впрыснула содержимое. Вытащив иглу, осторожно поболтала мешок, чтобы снотворное смешалось с раствором глюкозы.
Убрав шприц в сумочку, она подошла к тумбочке, взяла вазу и, зайдя в туалет, налила воды.
Потом сняла бумажную обертку с тюльпанов и поставила цветы в вазу.
Прежде чем покинуть палату, она достала свой «поляроид».
Вспышка сверкнула одновременно с молнией за окном, фотография вылезла из «поляроида» и начала медленно проявляться.
Она взглянула на фотографию.
Из-за вспышки стены палаты и простыни на койке совершенно слились, но тело Карла Лундстрёма и ваза с желтыми цветами вышли отлично.
Карл Лундстрём. Тот самый, что несколько лет насиловал свою дочь. Тот самый, что не раскаялся.
Тот, кто пытался лишить себя своей никчемной жизни жалкой попыткой повеситься.
Тот, кто потерпел неудачу в том, с чем справился бы кто угодно.
Открыть пакет молока.
Но она поможет ему выполнить задуманное. Она закончит, поставит точку.
Осторожно открывая дверь в коридор, она услышала, что его дыхание замедлилось.
Очень скоро оно прекратится, и сколько-то кубометров свежего воздуха освободится для живущих.
Гамла Эншеде
Они молча сидели в машине. Слышался только звук, с которым «дворники» скользили по лобовому стеклу, и тихое потрескивание рации. Хуртиг вел машину, Жанетт с Юханом сидели сзади. В зеркало бокового вида она наблюдала, как по боковым стеклам льется вода.
Хуртиг свернул на Эншедевэген и бросил взгляд на Юхана.
– Я смотрю, ты в норме. – Он улыбнулся в зеркало заднего вида.
Юхан молча кивнул и отвернулся.
«Что же с ним случилось?» – подумала Жанетт и открыла было рот, чтобы в очередной раз спросить сына, как он себя чувствует. Но на этот раз она удержалась. Не надо давить на мальчика. Ее квохтанье не заставит его заговорить. Жанетт понимала, что он сам должен захотеть сделать первый шаг. Сколько на это понадобится времени, столько и понадобится. Может быть, он и не знает, что с ним произошло, но Жанетт чувствовала: о чем-то он ей не рассказывает.
Молчание в машине начинало становиться тяжелым, когда Хуртиг свернул на подъездную дорожку, ведущую к дому.
– Миккельсен звонил утром, – сообщил он, заглушив мотор. – Ночью умер Лундстрём. Я хотел сказать тебе до того, как ты прочитаешь об этом в газетах.
Жанетт ощутила, как внутри что-то сжимается. Из-за оглушительного стука дождя по ветровому стеклу ей на миг показалось, что они все еще едут, хотя автомобиль уже стоял у ворот гаража. Единственная ниточка, которая могла привести к убийце мальчиков, оборвалась.
Сильным порывом ветра с лобового стекла сдуло дождевые капли, кузов качнулся. Жанетт зевнула, чтобы отложило уши. Дождь стихал, и иллюзия движения исчезла. Пульс замедлился, стал как ручейки дождевой воды, что прокладывали себе путь по стеклу.
– Будь добр, подожди. Я быстро, – пообещала Жанетт, открывая дверцу. – Пойдем домой, Юхан.
Юхан впереди нее прошел через сад, поднялся по ступенькам, вошел в прихожую. Ничего не говоря, снял ботинки, повесил мокрую куртку и скрылся в своей комнате.
Жанетт постояла, глядя ему вслед.
Когда она возвращалась к стоящей у гаража машине, дождь уже тихо моросил. Хуртиг курил возле машины.
– Приобрел привычку?
Хуртиг, ухмыльнувшись, протянул ей сигарету.
– Так, значит, Лундстрём умер сегодня ночью, – сказала Жанетт.
– Да. Похоже, почки все-таки отказали.
Через два коридора. В ту же ночь, когда пришел в себя Юхан.
– Значит, ничего странного?
– Вероятно, нет, скорее – из-за лекарств, которыми его накачали. Миккельсен обещал, что рапорт будет утром, и… Я только хотел, чтобы ты об этом знала.
– Больше ничего?
– Вроде ничего особенного. Незадолго до смерти к нему приходили. Медсестра, которая его обнаружила, сказала, что вечером ему принесли букет цветов. Желтые тюльпаны. От жены или адвоката. В тот вечер, согласно журналу, только они и приходили.
– Разве Аннет Лундстрём не упекли в больницу?
– В больницу – нет, не упекли. Скорее изолировали. Миккельсен сказал, что Аннет Лундстрём в течение нескольких недель почти не покидала виллу в Дандерюде, за исключением дней, когда навещала мужа. Утром к ней приходили, сообщили о случившемся, и… Да, воздух там действительно спертый.
Кто-то принес Карлу Лундстрёму желтые цветы, подумала Жанетт. Желтое обычно символизирует слабость.
– Как ты? – спросил Хуртиг. – Здорово быть дома, да?
– Здорово, – согласилась Жанетт и замолчала. Снова задумалась о Юхане и наконец спросила: – Я плохая мать?
– Да ну, – неуверенно хохотнул Хуртиг. – Юхан же почти подросток. Сбежал, кто-то его подпоил. Он опьянел, все пошло черт знает как, и теперь ему стыдно.
«Хочешь просто приободрить меня, – подумала Жанетт. – Нет, не выходит».
– Иронизируешь? – Жанетт тут же поняла, что это не так.
– Нет. Юхану стыдно. По нему заметно.
Жанетт оперлась о капот. Может, он и прав, подумала она. Хуртиг барабанил пальцами по крыше машины.
– А что с женщиной из Бандхагена? – Жанетт сама заметила, насколько легко вернулась в роль полицейского. Как хорошо сосредоточиться еще на чем-то, кроме тревоги.
– Шварц допросил ее мужа, но я поговорю с ним еще раз.
– Я хочу присутствовать на допросе.
– Конечно. Но ты же не ведешь это дело.
– Можешь прислать мне на почту, что у тебя есть. Вечером прочитаю.
Когда Хуртиг уехал, Жанетт вернулась в дом, налила в кухне стакан воды и пошла к Юхану.
Мальчик спал. Жанетт поставила стакан на ночной столик, погладила сына по щеке.
Спустившись в подвал, она сунула грязную одежду Юхана в стиральную машину. Спортивная кофта, футбольные гетры. И рубашки Оке, которые еще оставались дома.
Высыпала остатки порошка, закрыла дверцу и присела перед вращающимся барабаном. Перед ней крутились обрывки прошлой жизни.
Жанетт думала о Юхане. Молчал в машине всю дорогу до дома. Ни слова. Ни взгляда. Он принял решение о ее дисквалификации. Сознательно выбросил из своей жизни.
Больно.
Вита Берген
София убрала квартиру, оплатила счета и постаралась привести в порядок расписание.
В обед она позвонила Микаэлю.
– Ты, значит, еще жива? – У него был кислый голос.
– Нам надо поговорить…
– Прямо сейчас не получится, у меня деловой обед. Почему ты не звонишь по вечерам? Ты же знаешь, как я занят днем.
– По вечерам ты тоже занят. Я оставляла сообщения…
– Слушай, София. – Он вздохнул. – Зачем мы это делаем? Может, просто плюнем на все это?
Словно онемев, София несколько раз сглотнула.
– Что ты имеешь в виду?
– У нас же явно нет времени встречаться. Так зачем упорствовать?
Когда до Софии дошло, что он имеет в виду, она ощутила огромное облегчение. Он опередил ее всего на несколько секунд. Он хотел положить всему конец. Просто. Без обиняков.
У нее вырвался короткий смешок.
– Именно поэтому я и пытаюсь дозвониться до тебя. Если минут через пять у тебя найдется время, мы поговорим.
После разговора София сидела на диване.
Постирать, думала она. Убрать и оплатить счета. Полить цветы. Закончить отношения. Практические дела сопоставимой величины.
Вряд ли она будет скучать по Микаэлю.
На столе лежала сделанная «поляроидом» фотография, которую она нашла в кармане куртки.
«Что мне с ней делать?» – подумала она.
С этой непонятной фотографией, на которой она – и все-таки не она.
С одной стороны, не стоит полагаться на воспоминания, в детстве Виктории Бергман все еще полно белых пятен, но, с другой стороны, София достаточно хорошо знала себя и понимала: детали фотографии явно должны пробудить в ней воспоминания.