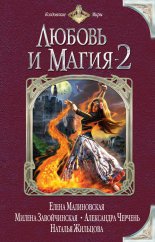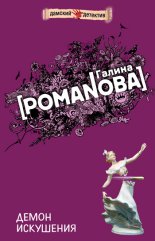Стакан без стенок (сборник) Кабаков Александр
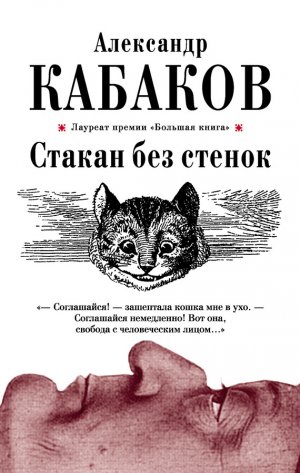
Жизнь идет правильно, в полудреме подумал он. Жизнь должна идти правильно.
В это время запищал телефон – тот, который личный.
Помощник ответил и надолго замолчал, потом, так же молча, нажал отбой.
– Что там? – спросил Росляков, уже зная, что там. Жизнь должна идти правильно, подумал он, должна, должна! Почему же…
А вокруг уже останавливались, вжимаясь в стальную толпу, дорогие машины, которые только здесь скапливаются в таких количествах.
Рублевка опять стояла в пробке, и никто не знал, когда она снова поедет.
С востока небо начало темнеть, и, непрерывно меняя форму, поплыли над Москвой облака.
Осажденный
Все меньше хочется выдумывать. Видимо, попал под влияние общей тенденции.
А уж если выдумывать, то что-нибудь несусветное – летающих женщин, бессмертных мужчин, демонов и ангелов – в общем, всякую фантастическую белиберду, которой и без того хватает, включая не белиберду, а классику… Впрочем, это не останавливает. Что ж, если майорский нос гулял сам по себе вдоль питерских каналов, так уж после этого ничего и не выдумай? И пусть себе кот садился в трамвай, потирая усы гривенником, – никто не запретит и нам придумывать сказки и фантастические романы…
Да что угодно, лишь бы не начинать тоскливую как бы реалистическую тягомотину: «Ранним весенним утром Петр Иванович Семенов, господин средних лет, живущий в гигантском столичном городе, вышел из подъезда своего многоэтажного дома и отправился в большой банк, где он служил топ-менеджером…» Ужас! К тому же сразу, как только потребуются детали, начнешь путаться и нести чушь, поскольку сам менеджером ни топ, ни каким другим в банке не служил, квартируешь в умирающей пятиэтажке, и не средние идут твои годы, а вполне уже, по чести говоря, преклонные.
Нет, положительно – нон-фикшн притягателен! И никаких фантазий не надо. Не надо напрягать воображение, а потом получать от критика презренное клеймо «булгаковщина» (а то и вовсе «аксеновщина»). И жизнь изучать в ее конкретных и разнообразных проявлениях не требуется – достаточно одно проявление записать точно и без прикрас, а читатель уж сам извлечет из этой правды свою, ему необходимую правду.
Да, положительно – только нон-фикшн! Хватит беллетристики, побаловались, пора и честь знать. Вот вам истинная история, документально подтвержденный случай.
Итак:
Ранним весенним утром Петр Иванович Семенов, господин средних лет, живущий в гигантском столичном городе, вышел из подъезда своего многоэтажного дома и отправился в большой банк, где он служил топ-менеджером. Паспортные данные Петра Ивановича, его ИНН и номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, а также адрес по месту постоянной регистрации и другие реквизиты любой желающий может найти в социальных сетях, Фэйсбуке, Одноклассниках и прочих. Там же, в Фэйсбуке, вы можете ознакомиться и с той историей, которую мы собираемся вам здесь рассказать, но, конечно, там она будет изложена пристрастно, а здесь мы абсолютно объективны. Так что, если понравится – лайкните. А если вас смущает то, что на старомодном листе бумаги, содержащем слишкам многа букаф, и лайкнуть-то негде, то лайкните где угодно, какая разница.
Итак:
Ранним весенним утром… Весна в том году была короткая, зато жаркая, в полном соответствии с обещаниями ученых – в основном, как обычно, британских – вовсе упразднить сдержанно жизнерадостные демисезоны, весну и осень, оставив только экстремистские лето и зиму. Поэтому Петр Иванович вышел из дому налегке. На нем были: узкое и коротковатое, из черного кашемира, соответственно текущему деловому тренду, пальто нараспашку… А также узкий, строго по тренированной фитнесом фигуре темный костюм… И, понятное дело, сияющие ботинки стиля oxford brogues. Уже только по вышеописанному экстерьеру можно было бы заключить, что жизнь Семенова удалась, или, чтобы употребить актуальный оборот, состоялась. Если же добавить, что спустя пять минут он вновь появился в нашем поле зрения, но уже выехав из паркинга под домом на автомобиле почтенной немецкой марки и модели текущего года, то следует признать, что жизнь его не только состоялась, но именно удалась.
Итак:
Петр Иванович Семенов, господин средних лет… Средних – это сорока трех. К такому прекрасному возрасту у нашего фигуранта (воспользуемся популярным в текущие времена борьбы с коррупцией словом) было все, что положено фигуранту. Несколько счетов не только в родном банке, но и в других, отделенных от РФ госграницами. Приличный домик в Испании и еще более приличный по известному Новорижскому шоссе. Еще одно транспортное средство, находящееся в пользовании жены, японский затейливый кроссовер. И, наконец, сама жена, девушка Алена Васильевна Семенова, неполных тридцати пяти лет, со скромным модельным прошлым и столь же скромным деловым настоящим, обремененным заботами о собственном оздоровительном бизнесе «СПАщая красавица». Пусть нас простят за упоминание близкого Петру Ивановичу человека в ряду его материального имущества, тут ничего обидного нет, а только логика жизни.
Итак:
Живущий в гигантском столичном городе… Боже, как удивителен этот город! Не будем даже и пытаться перечислить хотя бы главные чудеса – просто проедем по его Третьему транспортному кольцу, будь оно неладно с его вечными пробками, да оглянемся вокруг, да задохнемся от вида небоскребов, упирающихся в сиреневое от гари небо, да зажмуримся на мгновение, взлетая по стартующей в бесконечность эстакаде, да представим себе это пространство, эти двадцать миллионов обитателей, эти миллиарды вдохов и выдохов… И миллиарды рублей, добавим мы, так же растворенных в городском воздухе, как дыхание горожан и выхлопы машин, в основном пока еще не соответствующие современным европейским стандартам. Только вдохов и выдохов на всех горожан приходится примерно поровну, выхлопы зависят от года выпуска автомобиля и мощности… А денежки вообще выпадают из воздуха сугубо неравномерно, густо оседая на некоторых депозитах и совершенно игнорируя большинство текущих, зарплатных и пенсионных, счетов и просто дырявые карманы среднего населения – не путать со средним классом. В результате возникает, как сказали бы электрики, разница потенциалов, а где разница потенциалов, там и напряжение, спросите у тех же электриков, а где напряжение, там, того и гляди, пробежит искра и, соответственно историческому прецеденту, возгорится из нее пламя. Черт возьми! Черт возьми, иногда восклицал про себя Петр Иванович, да что ж они, не видят, что ли?! Кто они, Семенов отчетливо не представлял, но на всякий случай время от времени принимал участие в, как говорится, протестных акциях. Он шел или стоял на мостовой вместе с немалым количеством горожан, среди которых встречалось порядочно таких же господ в кашемировых пальто, тоже, видимо, смущенных разностью потенциалов – впрочем, возможно участвующих в упомянутых акциях лишь соответственно тренду, то есть моде, вроде как на то же узкое и укороченное пальто.
Итак:
Вышел из подъезда своего многоэтажного дома… Не всегда П.И. Семенов жил в этом многоэтажном новостроенном доме (монолит, планировка свободная, первичная отделка) со своею женой Алёной и девятилетним сыном Иваном. Вернее, сын тогда еще только намечался, а Петр и Алёна жили в малогабаритной трешке с родителями Алёны и ее младшим братом. Район Капотня для готовящегося возникнуть сына был не слишком подходящим. Да и совместная жизнь с родителями жены тяготила, прямо скажем, бедного – тогда еще бедного – Семенова даже больше Капотни. А у самого героя жилья не было никакого, поскольку он происходил из города Каменска-Шахтинского Ростовской области. И совсем недавно он произошел из простого менеджера в старшие менеджеры по работе с физическими лицами… Короче, еще много денег на срочные и специальные, особо выгодные вклады утекло, прежде чем безо всякой ипотеки Семенов приобрел четырехкомнатную в новостройке, в тихом, но перспективном районе Октябрьского Поля. В эту квартиру тесть с тещей приходили только в гости, никак не отвыкнув приносить с собою домашние заготовки квашеных огурцов и капусты, которых никто в доме Семеновых давно не ел, предпочитая обходиться продуктами из приличных магазинов. Открывая гостям, а спустя некоторое время закрывая за ними стальную дверь с сейфовыми замками, Петр Иванович всякий раз удовлетворенно отмечал и толщину, и качество стали, и хитроумность замков любимой двери, потому что только на нее и была вся надежда.
Итак…
И отправился в большой банк, где он служил… Именно служба в банке и привила Петру Ивановичу Семенову любовь к стальным дверям и веру в них как в единственное достойное препятствие той самой искре и тому самому пламени, о которых говорилось выше. Будучи работником банка, он отчетливо представлял себе, как всё ненадежно в этом ненадежнейшем из миров. Он помнил, как в страшные дни уже далекого, слава Богу, первого кризисного года тихо шумела у стеклянных, слегка усиленных решетками входных дверей банка толпа угрюмых вкладчиков и как ему хотелось оказаться тогда в сейфовом помещении, за броневыми дверями, и никогда не выходить оттуда. А ведь еще не было тогда не только сына Ивана, проводящего теперь, к счастью, учебный год на безопасном острове, однако ведь на каникулы-то возвращающегося на родину, но и жены Алёны, слабой бизнесвумен… Какие двери?! Вырвут танком. Привяжут тросом и вырвут.
Итак:
Топ-менеджером… В этом качестве он имел возможность слегка растянуть обеденное время и, допивая американский кофе с молоком в одном из наиболее приличных итальянских кафе, которых вокруг банка развелось больше, чем в каком-нибудь квартале Милана, беседовать с коллегой, таким же топом, о том, что волновало. «Дом надо строить, вот что, отсидимся, если что, по-любому, – говорил он коллеге, и коллега соглашался, а Семенов продолжал так же убежденно и невразумительно: – Умные люди давно в дома посъезжали, отсидятся, если что, по ходу…»
Тут мы простимся с уже поднадоевшим приемом и прекратим раскручивать одну первую фразу, тем более что мы ее уже до конца использовали. Дальше изложение будет строгое и документально подтверждаемое – если хотите, ссылки на соответствующие сайты пришлем. Действие продолжается уже летом, наступившим вслед за тою ранней весной, и осенью, довольно быстро вытеснившей то лето.
Итак:
Петр Иванович Семенов, у которого, как сказано, уже были дом в Испании и еще один, совсем нехилый, по Новой Риге, решил строить третий, совершенно особого типа Дом – именно такой, с большой буквы «Д».
Дом этот должен был стать одной сплошной стальной дверью, которую не вырвешь никаким танком, да и, собственно, неоткуда будет ее вырывать – кругом вроде дверь… Пожалуй, что и дверь эту будем писать с большой «Д».
Для начала Петр Иванович Семенов продал испанскую и новорижскую недвижимость, поскольку искомой безопасности ни та, ни другая не предоставляли, а деньги имело смысл пустить на строительство Дома, уже шедшее полным ходом и быстро истощавшее счета, один за другим. Конечно, можно было бы ограничиться усилением обороноспособности новорижского жилища, но это было бы затратнее, чем построить Дом с нуля, – Петр Иванович через некоторых знакомых был осведомлен, во что обходится реформа обороноспособности. Кроме того, Семенова смущало расположение дома: его привлекательная престижность, увеличивающая цену каждой сотки, увеличивала и риск – пламя, если возгорится, был уверен Семенов (и не он один был в этом уверен), прежде всего полыхнет именно на Рублевке и Новой Риге… Что касается Испании, региона Марбелья, то относительно этого жилья сомнения у Петра Ивановича усиливались после почти каждого выпуска новостей. Буйные толпы, шатающиеся по улицам Южной Европы, в том числе Испании, сюжеты о раздаче бесплатной еды голодным и забастовках госслужащих, лишенных тринадцатых зарплат, бутылки с «коктейлем Молотова», летящие в полицейских, – всё это нисколько не привлекало Петра Ивановича, и он даже сожалел, что когда-то купил испанский домик. Вложение можно было сделать и много более выгодное – к примеру, купить еще одну московскую квартиру, в сталинском доме, да сдать дипломату, или две элитных однушки в новостройках и тоже сдать, своему брату менеджеру, только еще начинающему…
Словом, теперь Петр Иванович Семенов строил Дом.
Участок был выбран идеальный – на небольшом (проще защищать) полуострове, выступающем в водохранилище. Конечно, получить разрешение на покупку этой, еще недавно принадлежавшей районной администрации земли в прибрежной зоне было непросто. Тут речь даже не шла о том, чтобы кому-нибудь занести, как положено, тут решалось всё на уровне бескорыстных личных контактов в тесном и почти совершенно закрытом кругу. Однако ж желание Петра Ивановича было настолько сокрушительным, что однажды он услышал заветное «ну, если горит тебе, Петруха, стройся, только на новоселье не забудь позвать», и стройка началась.
Началась она даже не с нулевого, а с подводного цикла: в водохранилище вокруг полуострова была установлена мощная стальная сетка, исключающая приближение к будущему Дому любых плавсредств, включая субмарины. Эта сетка была установлена по примеру военно-морских баз и стала как бы подводной Дверью.
Потом были проведены саперные работы на перешейке, соединяющем полуостров с материком – то есть с бывшим совхозным полем, понемногу распродающимся под коттеджи и таунхаусы. Минирование обошлось без чрезвычайных происшествий, оставленный для хозяев и нужд дальнейшего строительства проход был обозначен широкой аллеей молодых сосен, в целях маскировки перемежающихся с беспородной растительностью.
Работы велись в ночное время, бригада молдаван немедленно по окончании была депортирована на добровольной основе, снабженная выходным пособием и советом всё забыть.
Жена Алёна поначалу ни во что посвящена не была, но, как любящий человек, что-то почувствовала. Петя стал более молчалив, чем был прежде, глаза его приобрели еще более обычного сосредоточенное выражение, а на письменном столе в его домашнем кабинете теперь постоянно лежал школьный учебник физики, раскрытый на странице, на которой рассказывалось о разнице потенциалов, чреватой искрой… Кроме того, она слышала, как муж задумчиво, за какой-нибудь несложной работой, повторял стихотворную строчку «…из искры возгорится пламя…», хотя вообще стихов не любил и не знал. Когда же Петр Иванович привез ее взглянуть на завершающееся строительство Дома, уверенность ее окончательно сформировалась.
Дом был выстроен из бетона, серый куб в один этаж. Бетон был сплошной, окна в нем прорезаны узкие и высоко от земли, в обычное время они закрывались стальными ставнями с мощными замками, запирающимися изнутри одной кнопкой с центрального пульта.
Дверь в Дом вела стальная, когда она бывала открытой – недолго, чтобы хозяева успели пройти, – можно было подивиться толщине: пол-метра стали, столько же, сколько бетона в стенах, и вдвое толще, чем дверь в городской квартире. Замков было четыре, по одному с каждой стороны, когда их запирали с центрального пульта, глубоко в стены вдвигались стальные стержни, почти в руку толщиной каждый.
При запертой Двери и ставнях Дом снаружи выглядел просто как сплошная бетонная глыба правильной формы, украшенная металлическими накладками. Похоже было на какой-то брошенный недострой, уже начинающий зарастать бурьяном – усилия ландшафтного дизайнера дали результат…
Внутри же Дом был совершенно обычный, мебель сюда перевезли с Новой Риги, и даже все интерьерные идеи снова воплотили. Натуральное черное и красное дерево, тонкая кожа, зеркальное стекло и прочие штучки, наличием которых внутри Дома вполне объяснялся суровый и неприступный вид Дома снаружи. Во всяком случае, трезво оценивающий действительность человек понял бы мотивы и соображения, руководившие Семеновым при строительстве бетонной крепости. Если в Доме цена дверных ручек на внутренних дверях больше, чем три средних по стране зарплаты, то лучше укрыть их в бетонном кубе, за броневой дверью. Поскольку последствия разности потенциалов в учебнике физики описаны понятно…
Между тем Семеновы оставили городскую квартиру в элитной новостройке на Октябрьском Поле и переехали в укрепленное сооружение, на берег водохранилища. Алёна продала свой СПА-бизнес и теперь целый день сидела внутри бетона, развлекаясь кулинарными телепередачами – тарелка на доме была укреплена со стороны воды, чтобы не бросалась в глаза. Ивана забрали из школы, рано утром к нему приезжали учителя, Дверь приоткрывалась и впускала перепуганную математичку или дрожащего историка. Впрочем, мальчик учился в основном с помощью Интернета, этого ему вполне хватало. Сам Петр Иванович из банка ушел, объяснив это состоянием здоровья – присмотревшись к нему, директора поверили. енег, оставшихся после окончания строительства, хватало на продукты и содержание Дома. От автомобилей Семеновы тоже избавились и стали вызывать в случае крайней нужды такси к перекрестку на шоссе, к которому шла неприметная дорога от Дома.
Теперь Семенов целыми днями сидел в бетонном своем кабинете, в котором не было даже узкого окна, а вентиляция все время выходила из строя, так что Петр Иванович находился там, как правило, в одних трусах. В таком виде он непрерывно читал книги уже не про символическую разницу потенциалов, а про историю великих революций. Начиная с британской, возглавленной Кромвелем… задерживаясь на французской с Маратом, Дантоном и Робеспьером… кончая Октябрьской, про которую чем больше читал, тем непонятнее становилось, кто там был главным.
В зеркало Семенов смотреться бросил, не находя в этом никакого смысла, и его стильная трехдневная щетина превратилась в несимметричную, густую и курчавую бороду.
Разность потенциалов, бормотал Семенов, вглядываясь в крупный шрифт революционной истории, разность потенциалов… В бункере стояла тишина, только неисправная вентиляция гудела.
Кое-какие слухи о Доме ходили в окрестных коттеджных поселках, но серьезные люди в них не верили. Дом, по их убеждению, был не чем иным, как останками некоего могущественного недостроя, гаражом или цоколем. Хозяин угодил в СИЗО – был и такой логичный слух – по одному из антикоррупционных дел, потому стройка затормозилась… А сами серьезные люди в смысле безопасности полагались на круглосуточную вооруженную охрану от частного охранного предприятия, не понимая, что вооруженная охрана-то как раз и опасна…
Семеновы жили однообразно, дичали. Алёна понемногу перестала смотреть кулинарные передачи, и семья обходилась полуфабрикатами, закупаемыми на неделю – впрочем, Петр Иванович не ел вообще почти ничего, тревога сводила пищевод судорогами.
По всему Дому было разложено оружие, от элементарных «калашниковых» до станковых гранатометов. Сам Петр Иванович всю эту несложную технику освоил в совершенстве и теперь учил обращаться с нею жену и сына. Успехи были посредственные, даже Иван, после первоначальной вспышки бурного интереса, в «железках», как он называл это оружие, разочаровался – кино само по себе, а в жизни это железки и больше ничего. Играть на приставке куда интереснее…
Оружие было размещено возле окон-бойниц. Каждый вечер, проверив Дверь, Семенов отправлялся проверять ставни, заодно осматривая и арсенал.
Дом был готов к обороне.
Петр Иванович был готов ко всему.
Пламя, которое обязательно должно возгореться из любой случайной искры – ну, в троллейбусе двое сцепятся или возле чебуречной подерутся – и полыхнуть на всю страну как минимум, Семенова уже не пугало. Дом спасет, а там подерутся-подерутся, да и угомонятся, поскольку уже привыкли к торговым центрам и никак не согласятся обходиться без них, одною только справедливостью… И пламя потухнет.
Однако до такого развития исторических событий частная история семеновского Дома не дотянулась.
Однажды Петр Иванович, совершая вечерний обход, услышал какое-то еле уловимое гудение снаружи, за ставнями. Возможно, это идет по недалекому шоссе колонна фур, подумал Семенов, и паниковать сразу не стал. Но на всякий случай, оперируя центральным пультом, приоткрыл ставни и всмотрелся во тьму.
Тьма показала его вечный кошмар, материализовавшийся, словно поставленный умелым в массовых сценах режиссером.
К Дому со стороны перешейка подступала толпа. Тихий гул происходил не от разговоров, толпа шла в полном молчании, а от топота десятков или даже сотен ног по заросшей травою земле.
Мины почему-то не срабатывали.
Первую автоматную очередь Семенов дал через то окно, через которое увидел толпу. Потом он стал стрелять через другие окна, меняя позицию по периметру Дома, чтобы не дать себя окружить. Для стрельбы из тяжелого оружия, пулеметов и гранатометов, он использовал вентиляционные отдушины – планом было предусмотрено их превращение в огневые точки.
Жену и сына он успел запереть в гостиной, расположенной в центре Дома, за несколькими бетонными стенами.
Он вел непрерывный огонь, но толпа приближалась, и потерь среди осаждающих вроде бы не было – во всяком случае, никто не падал и в промежутке между очередями был слышен тихий топот и даже дыхание сотен людей.
Неравный бой продолжался уже несколько часов – Семенову казалось, что начинает светать.
В отчаянии Алёна изо всех сил пнула запертую дверь гостиной – раньше она никогда не решилась бы так поступить, потому что очень любила своего несчастного мужа. Дверь гостиной слетела с петель, словно дверка дачного дощатого сортира под напором перепившего гостя. Ведя за руку Ивана, натыкаясь во тьме на тут же осыпающиеся бетонными обломками стены, Алёна добралась до главной Двери. Здесь ее сил оказалось недостаточно, но помог Иван: нажал пару кнопок на своей play station, и Дверь с ржавым скрипом пошла в сторону, распахнулась и косо повисла, выворачивая из крошащегося бетона стальную раму.
Рассвет уже перетекал понемногу в утро. Ночных теней нигде не было видно. Над водохранилищем поднимался небольшими облаками пар.
Петр Иванович вел по высаживающимся со стороны воды плотный пулеметный огонь. Интересно, думал он, как же они сквозь сетку прорвались? Надо было более частую ставить, думал он.
Алёна взяла у Ивана мобильный, сохраненный им без практической цели – в бункере связь не работала.
– Скорая? – переспросила на всякий случай Алёна. – Скорая, нужна такая… специальная машина… Срочно… Пол мужской, сорок три полных…
…Петра Ивановича туго зафиксировали в приспособленной для этого внутренности специальной «скорой», двери захлопнулись, машина тяжело полезла с сырой земли на дорогу. Колеса ее разворотили минную полосу и расплющили несколько плоских круглых коробок от сельди атлантической – молдаване зарыли их елочкой в полном соответствии с правилами саперного искусства.
Петру Ивановичу повезло – он уже не видел этого разрушения идеи Дома.
Не видел он и осыпающегося, черт бы взял халтурную молдавскую бригаду, со всех углов и проемов бетона.
Не видел он и ментов, приехавших по звонку врача «скорой» и теперь изумленно разглядывающих селедочные банки и всё остальное вооружение Семенова. «Надо ж столько пневматики и макетов накопить, – завистливо усмехнулся молодой сержант, – целым двором можно в войнушку играть. А в бункере штаб шикарный получится…»
День набирал силу, Дом продолжал рассыпаться, игрушечный арсенал увезла полиция. Алёна вызвала такси и поехала в город, в квартиру на Октябрьском Поле.
Там Семеновы и теперь живут. Алёна мечтает возродить свой СПА-бизнес, в чем мы горячо сочувствуем бедной женщине, довольно она намучилась в проклятом Доме. А Иван, увы, с интересом поглядывает на бритоголовых молодых людей в коротких куртках и высоких ботинках. И не сам по себе этот интерес, естественный для юноши, настораживает, а выражение лица Ивана, когда он смотрит на лево-правых борцов за справедливость: сосредоточенное и закрытое. Генетику-то никто не отменял…
По выходным мать и сын ездят в больницу на Преображенке и гуляют по больничному парку с мужем и отцом.
Петр Иванович Семенов искренне говорит им, что совершенно доволен нынешним своим положением. В больнице он чувствует себя надежно защищенным от любого пламени, которое может, того и гляди, возгореться на воле от любой случайной искры, например от конфликта в метро между болельщиками футбольных команд. А больница стоит за крепким забором, не бетон, конечно, но все же… Поэтому Семенов убедительно просит семью переехать к нему, палата просторная и соседи симпатичные, возражать не будут.
Тут Алёна начинает плакать, Иван отворачивается, и, быстро простившись с больным, они уходят.
Плачет Алёна и по дороге к метро: ей жалко мужа, сына и себя. Пламя вспыхнуло, не дожидаясь искры, и сожгло их прекрасную жизнь. В той жизни ранним весенним утром Петр Иванович Семенов уходил на службу в банк… Все исчезло. Прав был Петя, думает Алёна, разность потенциалов все погубила. Прав был Петя, думает Алёна, и плачет.
Ночь пути
Действие происходит в начале семидесятых.
То есть около сорока лет назад.
Да, жизнь моя теперь измеряется непостижимыми цифрами…
Я служил тогда старшим литсотрудником – были такие должности в наших периодических изданиях – газеты «Гудок», органа Министерства путей сообщения СССР и Центрального комитета профсоюза железнодорожников. Как многие знают, в ней примерно за полвека до меня служили другие молодые люди, ставшие потом советскими литературными классиками, а тогда безвестные приезжие с юга Ильф, Петров, Булгаков, Олеша… Этому их скоплению имелось совсем не метафизическое, а практическое объяснение: могучее транспортное ведомство располагало огромными возможностями, потому в железнодорожную газету брали кого попало, в том числе бесприютных и не совсем пролетарского происхождения южан, в основном веселых и пронырливых, втаскивавших друг друга одесситов – лишь бы могли ловко переписывать произведения рабочих корреспондентов. Будущие гении откровенно халтурили, в чем можно убедиться, обратившись к подшивке газеты за двадцатые годы, но при этом получали вожделенную комнатку-пенал в общежитии (см. «Двенадцать стульев») и приличные, по их меркам, деньги. Так вот, «Гудок» оставался и в мое время удивительной газетой по той же причине, туда по-прежнему брали на работу тех, кого ни в какую уважающую себя советскую газету не взяли бы, – евреев, беспартийных, разведенных, пьяниц горчайших… Работать в «Гудке» среди советских журналистов считалось непрестижным (не тогдашнее слово, а тогдашнее забыл), но таким отщепенцам, как мы, ходу в журналистике все равно больше никуда не было, да мы и не стремились. Платили в железнодорожной газете, между прочим, вполне неплохо и даже раз в год-два жилье кому-нибудь давали.
Впрочем, отвлекся. Старики, стоит им начать что-нибудь вспоминать, обязательно отвлекаются на всякую ерунду, которая им кажется забавной и поучительной, а слушатели томятся, стесняясь перебить или просто встать и уйти.
Так вот: сидел я однажды часа в четыре душного летнего дня в комнате на третьем этаже «Гудка». Нет уже того «Гудка», бизнес-центр с гостиницей на этом месте. Да… В высокое старинное окно шпарило солнце, со двора доносились голоса рабочих, выкатывавших из грузовика огромный рулон бумаги для типографии, располагавшейся с дореволюционных времен в этом же доме, а в соседней комнате коллеги готовились выпивать, оттуда слышен был возбужденный гомон – все заметки в номер сданы, наставала пора ежедневного пьянства. Собрался было и я присоединиться к прочему народу.
Но тут открылась дверь, и вошел незнакомый человек, то, что у нас называлось по-железно-дорожному «товарищ с линии», жалобщик или, наоборот, автор письма-заметки, желающий воспеть успехи родного депо. Тут надо пояснить, что и в те времена не пускали в редакции газет и журналов кого попало, хотя металлодетекторов, конечно, не было. Установили охрану после того, как один непризнанный изобретатель отрезал голову главному редактору технического журнала прямо в кабинете. Буквально ампутировал и вышел со словами «теперь он не будет мешать техническому прогрессу»… Ну, и установили всюду охрану. У нас, в «Гудке», она представляла собой старуху в вохровско-железнодорожном берете, сидевшую у входа в роскошном, но очень драном старинном кресле. Я это кресло уже собирался спереть, а старухе взамен принести обычное, современное, но тут приехали люди и забрали кресло в музей, потому что оказалось, что оно принадлежало тетке Грибоедова. Вот бы я теперь сидел и писал этот рассказ в грибоедовском кресле!..
Опять отвлекся, черт!
В общем, старуха пускала в редакцию вообще-то любого, но с предварительным звонком сотруднику, к которому визитер хотел пройти.
Поэтому я слегка удивился, когда в мою комнату без предупреждения вошел тот человек. Вероятно, подумал я, он заблудился, шел в отдел пропаганды и культуры (был такой, честное слово!), а попал ко мне. Почему культуры или, на худой конец, пропаганды? Потому что человек этот никак не мог быть принят за железнодорожника, а, пожалуй, за провинциального учителя или иного мелкого служащего с гуманитарными наклонностями. Он был высок, худ и сутул, некрасивые даже по тогдашним советским меркам очки кривовато сидели на толстом носу, длинные, уже не по моде, растрепанные волосы не прикрывали порядочную плешь – в общем, не красавец, а явный интеллигент. На взгляд ему можно было дать под шестьдесят. Одет он был так, что я теперь вспомнить никак не могу, да и тогда сразу забыл.
– У вас что? И вообще – вы ко мне? Может, вам в отдел пропаганды надо? У вас какой вопрос, товарищ? И как вас внизу пустили?
Говорил я с ним, признаюсь, по-хамски, поскольку меня, как любого редакционного профессионала, жгла ненависть к графоманам, «чайникам». Нам они были чайниками, а контролирующим партийным инстанциям – трудящимися. И попробуй скажи что-нибудь прямое такому, с общей тетрадкой малограмотных рифм или воспоминаний о том, как он трудился в родной путейской дистанции и был награжден за это знаком «Ударник социалистического соревнования»! Попробуй скажи, что стихи его – вообще не стихи, а мемуары не представляют интереса даже для родственников, скажи даже вежливо и сдержанно – тут же полетит жалоба куда следует. Оттуда могут просто указать главному редактору на высокомерие сотрудников, а могут и самого виноватого вызвать к куратору – вплоть до цековского, с длинным оформлением пропуска во втором подъезде…
Он смотрел на меня сквозь свои довольно толстые стекла почти без выражения.
– Вы сразу про все спросили… – голос у него был неожиданно низкий, довольно красивый, даже, я бы сказал, поставленный, говорил он спокойно. – Я сразу и отвечу: я хотел бы устроиться на работу, к вам, в… это… в «Гудок». Корреспондентом или как у вас называется? Мне очень нужно, понимаете? Мне знакомые сказали, что здесь у вас у всех бесплатные билеты на любые поезда, а мне это очень нужно, просто необходимо…
Бог его знает, что было в его актерском голосе такого, что заставило меня не расхохотаться и не выгнать его вон сию же секунду, даже рискуя получить за это замечание от начальства. Наглость во мне обычно возбуждает резкое противодействие, глупость – отвращение. Но в этой его смеси наглости и глупости было что-то еще, какая-то третья составляющая.
– Значит, вам очень нужно, – повторил я и совершенно издевательски засмеялся. – А зачем же, позвольте узнать? И заодно уж – кто вы все-таки и почему решили, что можете быть корреспондентом газеты «Гудок»? Вам, простите, сколько лет? И вы хотите стать начинающим журналистом? А чтобы получить необходимый вам билет, надо стать не просто, а специальным корреспондентом. Я вот здесь неплохо работаю уже три года, но даже не мечтаю о такой карьере…
И ведь не могу сказать, что мне его было жалко, что я его щадил, – нет, скорее мне было… интересно, вот, пожалуй. Даже если он просто сумасшедший – чем вызван именно такой бред? Зачем ему нужен наш билет «форма 2А», действительно дававший постоянное право на проезд «в любых вагонах любых поездов железных дорог СССР»? Билеты такие у нас в редакции действительно были, но только, конечно, не у всех, а у заведующих отделами (которые никогда и никуда не ездили) и у трех специальных корреспондентов, которые ездили действительно много. Прочие завидовали…
К моему удивлению, он засмеялся тоже. Как-то очень свободно и естественно для «чайника» он себя вел. Обычно они либо заискивают, либо прут как танки.
– Да вы не думайте, что я идиот или просто нахал, – отсмеявшись, сказал он. – Хотя я понимаю, что очень похоже… Для чего мне такой билет, я вам не скажу… ну, это личное. Про «Гудок» и эти билеты мне товарищ рассказал, он вообще к железной дороге имеет какое-то отношение, он меня и носильщиком работать устроил, и к вам рекомендовал обратиться, он вас знает, где-то вы встречались, и считает, что вы должны меня выслушать.
Он назвал смутно знакомую мне фамилию, встречались с этим малым мы, кажется, в Домжуре, популярнейшем тогда Доме журналистов. Что он имеет отношение к железной дороге, я не знал, и вообще знакомство было шапочным – за знаменитым домжуровским кофе и рюмкой коньяку у знаменитой буфетчицы Тамары Михайловны… Сильная была личность, эта буфетчица…
Впрочем, опять меня в сторону ведет.
– А почему вы носильщиком работаете? – уже с осознанным интересом спросил я, тогда людей с такой внешностью в носильщиках еще не водилось. – Вроде бы интеллигентный человек… Вы кто по профессии?
– Я не вроде, – буркнул он негромко, но с явной обидой, что мне очень понравилось. – Я историк, медиевист, то есть специалист по Средневековью…
– Я понимаю… – тоже с некоторой обидой перебил я. Ишь ты, по-твоему, если журналист, так и слова знает только про соцсоревнование…
– А носильщиком мне работать было во всех отношениях удобно, – продолжал он, не обратив внимания на мою обиду. – Сутки работаешь, двое свободен, и деньги выходят приличные, и время есть – как раз в Питер съездить. Билет достать всегда могу – кассиры помогут, я их всех знаю…
Тут он осекся и сменил направление разговора.
– А что я на вид хилый, то это обманчиво, я выносливый, как верблюд. Да там силы много и не надо, вытащил чемоданы из купе, а дальше – на тележке…
– Зачем же вам надо все время в Ленинград ездить? И зачем вам в «Гудке» работать, если вы и так чуть ли не на десяток билетов до Ленинграда и обратно в месяц зарабатываете? – продолжил я допрос.
К страннейшему этому человеку я испытывал все больший интерес. Был я в те времена полон фантазий, начинал сочинять свою первую повесть, весьма романтическую, и тут мне померещилась какая-то темная история. Я и теперь прежде всего вижу в любой ситуации ее лирическую или криминальную составляющую – и, надо сказать, почти всегда оказываюсь прав. Голод-то само собой, но и любовь до сих пор правит миром, это вы меня не переубедите, хоть все население после каких-нибудь выборов на демонстрацию выйдет – я все равно под всякими «долой!» и «позор!» буду видеть обнимающиеся парочки и карманников с безразличными лицами аристократов…
– Зачем мне в Ленинград ездить… Я же вам сказал, это личная необходимость. Зарабатываю я носильщиком даже не на десять, а на все двадцать билетов в месяц, а то и больше, при этом деньги мне самому ни на что, кроме билетов, почти не нужны, это верно. Но дело в том, что я носильщиком больше работать не могу…
– Спину потянули? – проявив, как мне казалось, понимание специфики, спросил я.
– Нет, спину я не потянул, – сказал он и замялся. – Видите ли… Мама узнала, что я носильщиком работаю, устроила скандал, а ей я противостоять не могу. Мы живем вместе, то есть я к ней вернулся… то есть я там и прописан, но раньше жил у жены… второй жены… а теперь вот развелся и живу с мамой, а она всегда меня подавляла… Моя мама – старый большевик, понимаете? И квартира ее, и пенсию она получает большую, чем моя зарплата в академическом институте была, и командовать она привыкла, у нее звание было старший майор госбезопасности, то есть, можно считать, генерал… Таскала меня с собой по всем республикам и областям, меня ординарцы кормили, а она грамоте учила по брошюрам резолюций. Я и специализацию историческую потому такую выбрал – подальше от всего этого… А теперь она хочет, чтобы я всегда жил с нею. Думаю, чтобы и умер с нею.
Он замолчал, и я с изумлением увидел, что в уголках глаз у него появились слезы.
– Да, допекла, видно, вас матушка, – сочувственно, но вполне бестактно брякнул я. Однако он, кажется, ничего не услышал: протирая очки, он смотрел в окно, в небо, слезы подсыхали, а думал он явно о чем-то очень далеком от этой тоскливой редакционной комнаты.
Тут мне в голову пришла благородная и одновременно несколько корыстная идея. Часа на два можно отвлечь его от неразрешимых проблем, а заодно выспросить и о «личном», и о матери, закаленной, как сталь, и вообще – узнать в подробностях эту явно небанальную человеческую историю.
– Слушайте, пойдемте в Домжур, – предложил я. – Рабочий день у меня давно кончился. Выпьем по паре рюмок, кофе там отличный, из венгерской машины, народ всякий встречается… Сядем в уголке, расскажете мне… ну, что захотите. Обоснуете, например, свое намерение поступить в «Гудок» на работу… Я приглашаю, я и угощаю.
– Угощать меня не нужно, – видно, опять я задел его самолюбие. – Мне под расчет выписали столько, что на любую выпивку хватит. Но в Домжур ваш я не пойду, я там был однажды. Вот именно: всякий народ там встречается, большей частью мне несимпатичный. Мамы моей бывшего подчиненного встретил… А выпить с вами я бы охотно выпил, мне правильно сказали, что вы слушать умеете… Только где?
Между тем, пока мы с ним разговаривали, в соседней комнате гуляли вовсю, потом стихли, потом потопали по коридору – разошлись до завтра или потянулись добавлять в «Ветерок», за «Художественным» кинотеатром…
Я предложил ему подождать минуту и пошел осмотреть поле битвы. Как я и предполагал, мародерам вроде меня там было чем поживиться. Нашлись и три бутерброда со слегка заветренной темно-розовой колбасой, и несколько редисок, и, главное, припрятанная кем-то для утреннего опохмела бутылка водки отыскалась в известном месте – в шкафу, за годовыми подшивками. Совесть меня не мучила – не люблю запасливых.
А стаканы я вынул из нижнего ящика своего стола.
Он пил без лихости, не залпом, но жадными маленькими глотками – так пьют, по моим наблюдениям, те, кто употребляет не «для компании», а по личной потребности. Поймав мой взгляд, он кивнул.
– За последние пару лет привык, – вздохнул не лицемерно, было понятно, что с удовольствием и отвык бы. – Ну, носильщики после каждой смены… Да мне и самому… вроде уже нужно, так что, не поверите, иногда бутылку проношу тайком от мамы в свою комнату, ставлю между стеной и кроватью… и всю ночь. Это ведь уже алкоголизм, как вы думаете?
– Об этом пусть думают врачи, – сказал я беспечно, тогда еще беспечно! – А вот печень мы сажаем, это точно…
Мы загрызли редиской и после краткой антиалкогольной беседы выпили по второй.
– Прежде всего, – сказал он, с сомнением оглядывая бутерброд, – насчет оснований для работы в «Гудке». Вот я тут написал… не знаю, это у вас как называется, репортаж?.. О поезде «Красная стрела»…
Я вздохнул – очевидный «чайник», хоть и симпатичный. Кто об этой «Красной стреле» не писал! О ней написано столько, что писать о ней уже как бы запрещено. К тому же поезд этот был из разряда «спец» – спецраспределители, спецполиклиники, спецпоезд – или еще говорили «режимный». Ездили в нем главным образом иностранцы и наши начальники, что ж тут писать? Тут даже отдельных недостатков быть не может. Вроде как в Большом театре.
Но отказываться от прочтения этой мути было уже неудобно, и я взял три мелко сложенных листка, заполненных серыми буковками плохой машинки.
К концу чтения я совсем растерялся.
Вечные истерики, русские цари, от психопата Петра до одержимого мономанией Ленина, – все исходили из того, что в стране должна быть одна столица. И ее таскали с места на место, благо по национальным меркам недалеко. Между тем всякий непредвзятый наблюдатель российского существования неизбежно приходит к выводу, что столиц две и что глубочайший смысл есть в этом раздвоении, смысл, идущий с поверхности вглубь. Две столицы – двуглавый орел – Европа и Азия – национальная шизофрения (раздвоение)…
С давних времен, еще даже не формулируя, я ощущал, что линия соединения, сращения этих сиамских близнецов и есть, по всей справедливости, действительно стольное место. Где ж оно? Да вот же, господа, стоит у перрона! Вздыхает и пускает дымы поезд № 1, «Красная стрела», а обратно № 2, четные номера, полет вниз по карте…
Путешествие из Петербурга в Москву и наоборот всегда было, есть и будет государственным актом. Екатерина первая вполне осознала это и объяснила Ради-щеву.
Здесь, во всенощных пьянках, в свиданиях незаконных пар, в обсуждениях до самого прибытия судеб России, в откровенных рассказах незнакомцев и незнакомок вершилась настоящая жизнь имперской столицы. Какой же русский не любит именно этой быстрой езды, летящих за окнами вровень с поездом ночных облаков, теплого уюта самого комфортабельного места в тране!
Из Москвы: министерские ревизии в областной центр, актеры на «Ленфильм», бауманские профессора на лекции в военмех и, конечно, гуляки праздные…
Из Питера: морские полковники из Адмиралтейства на доклад в Генштаб, актеры на «Мосфильм», консерваторские профессора на занятия с московскими провинциальными вундеркиндами и, конечно, питерские сумрачные поэты, певцы тления и гордой разрухи – красоваться перед московскими жизнелюбами…
И после счастливой ночи выходишь на точно такой же, как оставленный восемь часов назад, перрон, идешь к точно такому же Ленину… Но воздух здесь другой, и вместе с мелкими каплями европейской сырости на коже оседает особая свобода, та, которая знакома только беглецам.
Я обязательно перехожу на другую сторону Невского и иду по ней, почти не глядя по сторонам. В этом особое удовольствие: а чего мне здесь рассматривать, разве я не дома здесь, просто давно не забегал в эту комнату окнами на северо-запад… Питерские магазины с пятью ступеньками входа вниз, в полуподвал; питерские кино в арках, одно за другим на тридцати метрах улицы; питерский «Елисеев» уже открылся, и питерская пьянь уже подтягивается к отделу; кони на мосту, толпы у Гостиного, ветер с реки… И впереди день счастья, особого питерского гулянья…
И так бредешь до «Пяти углов» и незаметно для самого себя сворачиваешь, и вот уже пустые улицы, разбитый тротуар, гнилью тянет из подвальных окон, Федор Михалычем смотрят подворотни. И надо добраться до первой же пирожковой, ведь даже когда в Москве не осталось ни одной рюмочной, вблизи Сенной можно было найти работавшую с восьми утра, и закусить пирожком с чьей-то печенкой, и взять еще одну для закрепления эффекта – и окончательно почувствовать: побег удался…
Вероятно, питерцы точно так же сбегают в Москву. Многие даже сбежали окончательно, и еще долго рассказывали, от чего: от безысходности, от несгибаемости начальства, от прямой и недлинной перспективы… Но для нас, замордованных московской расплывчатостью, в которой можно все, только надо знать, что именно, для нас день там – безусловное счастье…
В конце концов я выхожу к серой реке и бреду вдоль нее, от площади к площади, от гигантской головы Исаакия к выпуклой пустоте перед дворцом, и дальше, и сам не замечая, перехожу мост, и погружаюсь все глубже в Питер, и уже теряется в нем маленькая фигура московского беглеца, искателя любви…
Вот что я прочел – и очумел, честно говоря. Никто и никогда такого в нашу газету не приносил. Я закурил, угостил сигаретой его – он курил, как и пил, жадно, но неумело – и несколько минут разглядывал безумного автора, пренебрегая неловкостью ситуации.
– Теперь у меня к вам несколько вопросов, – сказал я, наконец собравшись с мыслями. – Первый: вы газеты читаете? Вы там видели когда-нибудь что-нибудь подобное? Только коротко.
– Нет, – действительно коротко ответил он. – Не читаю, возможно, поэтому и не видел.
– Значит, вы не понимаете, что это не репортаж, а умеренно вольнодумное эссе, которое не может быть опубликовано ни при каких условиях? И вообще – как вы собирались работать в газете, если вы газет не читаете? Вы знаете, что любая заметка в наших газетах пишется строго по образцу уже написанных и опубликованных?
– Откуда ж мне знать, – уныло сказал он не мне, а в пространство. – А почему же, объясните, как это… вольнодумие? Я совершенно не хотел… Там про Ленина в двух местах, так можно убрать. И «господа» тоже, это я просто для красоты…
– Потому, – не выдержав этой прозрачной наивности, гаркнул я, – потому, что там не в Ленине дело, там каждое слово несоветское, да к тому же и вся интонация не газетная, и информации ноль!
– Почему же ноль, – продолжал безнадежно упрямиться он, – я многое вставил из жизни… Вот про артистов, их там много ездит, я даже Бернеса видел… И полковников из Адмиралтейства… Я раньше деньги не экономил, ездил сам в этом, двухместном, в эсвэ – так иногда они приглашали выпить… Я могу из их разговоров добавить… И потом еще информация: там же понятно, что рассказчик едет к любимой, в конце, правда? Я могу описать, как обратно они едут вдвоем, там же паспорта не спрашивают. Только это будет слишком… ну, как у Бунина. Читали его рассказ «Генрих»?
И вдруг я все понял.
– Давно у вас с нею началось? – я постарался, чтобы в вопросе не прозвучало обычное любопытство.
И он ответил без удивления и паузы, не ссылаясь на «личное», словно мы уже давно говорим о его любви и несчастье. Водка все же подействовала правильно.
– Около двух лет назад была в Ленинграде академическая конференция. Я делал одно из важных сообщений, а она просто сидела, слушала, не моргая своими круглыми глазами, я не сразу даже заметил, что у нее глаза и цветом, и формой точно как вишни. Я не поэтизирую, просто такая внешность… Сидела, записывала, как полагается аспирантке второго года среди высокоученых персон… Потом за общим ужином… тогда же фуршетом не называли и не толкались по комнате, а садились вдоль длинного стола в специально подготовленной университетской столовой, по десять рублей с человека, и коньяк был… Как она из своих аспирантских десятку выкроила, не знаю, но оказались мы за столом рядом, я за нею вежливо ухаживал. Потом пошел провожать на Васильевский, где она в объединенном аспирантском общежитии жила. Она всю жизнь жила в общежитиях, детдомовская. И по сей день живет. Перспективы получить что-нибудь никакой – у ассистента-то кафедры общей истории, да пусть и доцента… Максимум – отдельная в общежитии комната, но кто ж туда мужчину пустит? У нас нравственность на всех распространяется… Да. Я так и не понял, чего ее потянуло в никому не нужную историческую науку, детдомовке-то разумнее было пойти в какую-нибудь практичную профессию… Но она всю жизнь делала только то, что хотела, и, надо сказать, всегда добивалась, чего хотела. Я отчет себе отдаю – она захотела меня и получила, моя роль здесь десятая. В общем…
В общем, произошло все как в моднейшем тогда романе – любовь выскочила перед ними, как убийца в переулке.
Ему было пятьдесят шесть, ей тридцать. Когда он смотрел на нее, обязательно начинал плакать, даже со всхлипываниями, так что в общественных местах, на улицах на них иногда оглядывались, хотя внешне разница в возрасте не так уж бросалась в глаза. А она не выпускала его руки из своей, и если так идти было неудобно, то забегала и шла спиной вперед, глядя неотрывно ему в лицо.
Поначалу он разгулялся.
– Ну, письмом попросил я академический отпуск, придумав какую-то безумную тему, требующую постоянной работы в Питере, в хранилищах Некрасовки. И получил, конечно, – нравы в нашем институте, соответственно зарплатам, необременительные. И маме наплел про исследования, и она поначалу – впервые в жизни – мне поверила… Поскольку в гостиницу было не попасть, да еще без командировки, да еще незаконной паре, снял я по объявлению, прилепленному к столбу, комнатку в полувымершей коммуналке в конце Литейного. Все деньги – сбережений у меня было прилично, тратить некуда, а питались мы с мамой в основном мамиными заказами, коробки привозили за какие-то копейки из их столовой старых большевиков – ну, вот, все деньги я со своей книжки снял, и зажили мы с моей любимой как в сказке. Ужинали в понравившемся ей больше всего «Норде», нас уж там знали. Потом ехали на Литейный в такси… В общежитии она показывалась раз в неделю, чтобы не выселили, с утра обычным порядком работала на кафедре и в библиотеке – настойчива она, я ж говорил, сверхъестественно. Да и как иначе было выбиться после детдома? А я ничего не делал целый день, и даже не пытался, в библиотеку не заглядывал, бродил по городу, выпивал в каждой рюмочной понемногу… Тогда, наверное, и начал привыкать. Вечером прибегала она – у нас место было назначено перед Кировским театром…
– И сколько ж такое могло продолжаться? – сдуру перебил я, как будто спешил куда-то, хотя мы никуда не спешили. Мы давно уж стояли в «Ветерке» за липким, как бы мраморным, круглым столиком и один за другим опорожняли мерзавчики дагестанского. Между нами лежал растерзанный цыпленок табака…
Вопрос словно выключил его, рассказ продолжился обрывочный и сухой.
Деньги кончились, отпуск за свой счет тоже, поскольку никакого счета не осталось, кроме очередной нищенской институтской зарплаты. Мама, когда он заикнулся, что у них в третьей комнате, может быть, поселится его ленинградская приятельница, в ближайшем будущем жена, – мама устроила такое, что его трясло неделю и была одышка. А потом просто сказала: «Я – ответственный квартиросъемщик. Мне партия дала эту квартиру не за красивые глаза. И уличную девку я здесь не пропишу». От «уличной девки» он опять стал задыхаться, а мама удалилась в другую комнату и вызвала к себе кардиологическую «скорую» из специальной большевистской поликлиники. С врачом она долго беседовала о лечении стенокардии диетой и несколько раз засмеялась. Уходя, в прихожей врачиха пробормотала: «Мне бы такую кардиограмму».
Тогда он уволился из института и пошел в носильщики.
И опять настало счастье. Денег сделалось достаточно, чтобы раз в неделю ездить в Ленинград купейным, двенадцать пятьдесят, день гулять, потом поужинать – и вдвоем в Москву, ночь в эсвэ, в двухместном, там же паспорта не спрашивали, как в раю! Эсвэ стоил по двадцать пять билет. Потом она проводила день в Ленинке по своим аспирантским делам, дремала над рефератами и возвращалась, обязательно в купейном – он бы взял ей эсвэ, но боялся оставлять наедине с попутчиком. А сам шел таскать чемоданы, покачиваясь после ночи бессонного пути… Итого получалось семьдесят пять на всю дорогу плюс рублей тридцать на «Норд» или «Баку». А он работал как заведенный, больше выколачивал, чем самые опытные в бригаде. Как будто не под шестьдесят ему было, кабинетному человеку, а под тридцать, и он всю жизнь гири таскал.
Каждый раз вез ей из Москвы подарки – у носильщиков связи были, дефицит все время вокруг крутился. То водолазку грузинскую бордовую схватит, ее цвет, то духи польские…
И раз в неделю, иногда в две они запирались в двухместном купе. Если кто-нибудь увидал бы там этих любовников, не поверил бы глазам. Никаких припадков страсти – он ложился на спину, а она массировала ему брюшину – к ночи разыгрывалась язва… Потом спали, сцепившись руками через проход между полками. Ночью он просыпался, смотрел на станционный свет, волнами пролетающий мимо окна, молился, как умел, чтобы эта ночь была всегда.
Какой-то хитростью он купил обручальные кольца без справки из загса.
К зиме вывернулся наизнанку, замучил всю бригаду – ему достали шикарную женскую дубленку, югославскую, австрийские сапоги на цигейке, большую лисью шапку… Морозная была зима, он ехал накануне Нового года, вез огромную динамовскую сумку – еще добыл в последний момент бесполосых чеков и купил на них исключительно теплый исландский свитер со снежинками…
Но и это кончилось, мама добралась и сдавила руки на горле.
– Надо же что-то делать, вдруг получится с «Гудком», как вы считаете? Тогда бесплатный билет, и гонорары, говорят, бывают в газетах? – Он улыбнулся, кривя рот от смущения. – Вот я и написал эту чепуху, сам понимаю, что никуда не годится…
– Вовсе не чепуха, вы здорово пишете, – возражал я. Кажется, я тоже плакал. – Мы придумаем, что с этим делать… Допустим, в «Неделе»…
Потом мы потеряли друг друга, я обнаружил себя в метро, а он исчез. Сложенные странички торчали из моего кармана…
Боже, если Ты есть любовь, то уж не такая ли Ты любовь?
Года через четыре я ехал в Ленинград дневным поездом – уж не помню, почему не «Стрелой». Стоял в коридоре, смотрел в окно. Где-то, не доезжая до Бологого, за окном медленно поплыло странное человеческое поселение, обосновавшееся на далеких боковых путях: старые деревянные пассажирские коробочки-вагончики, к тамбурам пристроены деревенские крылечки, белье сохнет на веревках, трубы, высунутые в окна, дымят, собаки и дети бегают…
И два человека несут куда-то ребристую чугунную секцию отопительного радиатора.
Им очень тяжело.
Один маленький, свободно болтающийся в ватнике почти детским телом, на затылке узелок светлых волос вылезает из-под серой солдатской ушанки, идет спиной вперед. Другой высокий, согнувшийся в три погибели, чтобы сравняться с маленьким, в резиновых сапогах, в непонятного цвета и покроя одежде, в криво сидящих очках, с длинными непокрытыми волосами. Он старается взяться ближе к середине, чтобы на него приходился больший вес…
Мне не показалось – я узнал его. Я узнал их.
Победа любви иногда выглядит удивительно некрасиво.
– Ремонтно-восстановительный поезд, – сказал в пространство попутчик, стоявший у соседнего окна. – Всякий сброд на работу берут и крышу дают. Но живут же люди – ужас…
– Эти двое, – возразил я, – они счастливы. Я это точно знаю. Можете им позавидовать.
Пассажир посмотрел на меня искоса с изумлением, явно приняв за сумасшедшего.
Вероятно, я и был тогда немного сумасшедший. И сейчас хотя бы капля сумасшествия сохранилась, надеюсь, во мне.
Иначе жить уже не имеет совершенно никакого смысла.
Надежда без веры и любови
Утерянные записки
Р.А. с благодарностью
Тогда, в парижской прокуренной кофейне, все началось.
Вернее, все кончилось.
Она умела слушать и, следует отдать должное, в эти часы была необыкновенно привлекательна той привлекательностью, которая присуща чувственным женщинам, легко и с радостью отдающимся страсти. В этом и был ее секрет: она умела слушать, просто слушать, не отводя глаз, в которых всегда горел понятный мужчинам огонек. Наследственное актерство.
А он, тоже настоящий артист в своем роде, загорался от собственных слов. И уже никто не замечал его клоунских рыжих волос, не покрывавших целиком огромного черепа, тугих простонародных скул, маленьких, постоянно прищуренных, желтых, как у кошки, глаз… Он и любил кошек, к прочим живым существам был равнодушен и даже жесток, как всякий охотник. Под самый конец, в имении, не спускал с колен приблудную мурку, а в соловья, мешавшего заснуть, кидал камнями из последних сил.
Да, в Париже все кончилось. И кончиться иначе не могло.
«Будьте мой женой», – написал он мне когда-то, полвека назад. У наших отношений уже была история, начавшаяся с его вялых ухаживаний за Апполинарией – получил отказ и будто не заметил его, а рядом оказалась я… Слова «любовь» не существовало в его русском лексиконе, не случайно ведь своей француженке он писал по-английски.
Впрочем, и я была не лучше, ответила ему достойно: «Ну, женой, так женой»… И поехала в тот ледяной край, где прошли лучшие месяцы нашей жизни. Он даже прислугу мне нанял, местную крестьянскую девчонку, был любезен с маменькой, приехавшей со мною вместе, сто рублей дал на врача, когда я начала болеть, хотя вообще, по привычке к постоянному безденежью, бывал прижимист… Охотился, объедался сметаной – кот, кот! – и растолстел… Медовый месяц.
Но – Болезнь. Тогда и начались мигрени, сердце колотилось так, что мне казалось – все слышат его удары… И женские недомогания стали приходить болезненно и беспорядочно. И шея стала оседать, расплываться, как догорающая свеча. И главное, самое заметное – глаза.
Зачем же я обманываю себя?! Не в ней, не в дамочке была причина и не в нем, а во мне. Болезнь.
Вчера мне исполнилось семьдесят лет.
И я снова подхожу к зеркалу и вижу эту печать. Это проклятие, сказала бы я, если б верила в проклятия. Глаза… Глаза! Это не мои глаза, это глаза Миноги – он придумал мне такое прозвище. Жалости в нем никогда не было.
Во многих своих вкусах и представлениях, едва ли не во всем, кроме единственно важного дела, он был, я это почти сразу поняла, совершенно зауряден, если не сказать пошл. Выглядел вполне своим на европейской улице, в венской кофейне, берлинской пивной, недорогой цюрихской столовой – обычный мелкий буржуа в поношенном, но вполне приличном костюме, при хорошем галстуке, туго повязанном вокруг крахмального воротничка. Приходил раньше всех, брал со стойки Le Figaro, защемленную в палке-держалке, листал, не замечая оседающей пивной пены. Понемногу сходилась компания, буфетчик привычно сдвигал столы, а он сразу становился главным, хотя никто его не выбирал. И тут же переводил разговор в спор…
Его бюргерский вид вполне соответствовал его мещанским вкусам и представлениям. Когда-то, еще лет за двадцать до того, как я ушла с головой в методику создания новых людей, в домашнем разговоре мельком посвятила его в один из своих – да, признаю, резких, но ведь целесообразных! – замыслов: все, что не идет на пользу делу, должно быть исключено из учебных занятий, удалено из библиотек. Сказки, выдумки, всяческие фантазии, иллиады и коньки-горбунки не нужны и, следовательно, вредны нашему воспитанию народа… Он посмотрел на меня с ужасом, как посмотрел бы его отец, если бы ему предложили в подчиненных гимназиях отменить Закон Божий. «Это уж слишком, – робко возразил он, в его возражениях всегда была некоторая робость передо мною, он знал, что я легко нахожу слабые места в его вечной полемике обо всем и со всеми. – Сказки бывают весьма… э-э… поучительны. Вот даже у Пушкина… о попе… как раз нам на руку в уничтожении поповщины… Как там… От третьего щелчка прыгнул поп до потолка… Именно до потолка! Или даже так: от допроса в вечека прыгал поп до потолка. А? Недурно?..» И расхохотался так, как умел только он, – по-детски.
Да, он был привержен традиции, и не только в быту, но и в искусстве, плакал от шопеновских пассажей и считал Репина гением, новое же искусство, как и новую жизнь, не понимал. Язвительная Александра над ним подшучивала, он же от ее разговоров о стакане воды брезгливо морщился… И, как простой мужик хочет наследника и работника в семью, так и он, не задумываясь о природе этого желания, жаждал детей.
Но уберегли бы дети нас от его отдаления и, в конце концов, от этой постыдной, известной всем в нашем кругу связи? Вряд ли. Ведь не помешали же им ее шестеро…
Но Болезнь, моя Болезнь! Вот все же главная причина всему. В конце концов, если бы детей не было по нашему обоюдному согласию, он не чувствовал бы себя бессильным перед обстоятельствами, обстоятельством же была Болезнь, а сдаваться обстоятельствам он не умел – и отверг сам источник этих обстоятельств – меня. Мои глаза.
Минога. Товарищ. Помощница. Партнер в дискуссии.
И – не больше.
А вокруг кипели страсти. Passion, черт бы их взял! Его друзья искали и находили приключения. Нижегородский босяк жил со снохой по деревенскому обычаю. Теоретик всеобщего счастья женился по третьему разу. Неудачливый драматург и начальник искусств собирал гарем секретарш… Мы же все дискутировали, и понемногу из жены я превратилась в одного из участников вечной дискуссии, и прочие участники принялись на меня покрикивать.
Меня трудно упрекнуть в симпатиях к церковному мракобесию. А он… Сколько он прошений и жалоб написал, добиваясь разрешения на брак, как покорно стоял под венцом… Потом, в избе, гости – все наши, просвещенная и серьезная молодежь, – пели, как заведено у русских людей, хоть уши затыкай, и вся деревня заснуть не могла… Мне стыдно в этом признаваться даже себе, но иногда мне кажется – потому и выродился наш союз, что он, суеверно боясь церкви, восстал против нее и разрушил то, чего боялся. Так дикарь делает идола, а если охота не удается, колотит своего бога палкой… И вот нет церкви – и венчания словно не было – и семьи не стало. Осталась просто стареющая бездетная пара. И распутная дамочка была встречена вовремя. И моя Болезнь случилась как нельзя кстати.