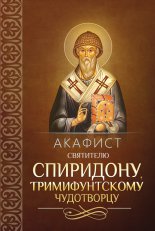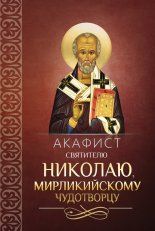Любвеобильный джек-пот Романова Галина

Глава 1
Когда же она все-таки решилась на этот судьбоносный шаг: уйти из инспекции по делам несовершеннолетних?
Дал бы бог памяти… Вот незадача какая, не вспоминалось! Каждый день был наполнен болью и страданием. И вспомнить, когда все это достигло критической отметки, переполнилось, пролилось последней каплей, было невозможно. Или не хотелось…
Лия стояла возле распахнутого окна на своей даче и безо всякого интереса наблюдала, как с глухим стуком шлепается о землю желтобокая антоновка. Шлепнется и тут же отпрыгнет, а потом катится в пожухлую траву. Их много уже было там, в траве – огромных, душистых яблок, десятка три, никак не меньше. Надо бы собрать. Варенье сварить или повидла. Но тут же вставал резонный вопрос: для кого?! Для кого все это варить? Сама не охотница до подобного рода сладостей. Мужа нет, детей тоже. Родственники за сотни километров. Да и глупо было бы рассылать им банки с яблочным повидлом. Всего этого в магазинах в изобилии.
Раньше варила…
Варила и кормила голодных оболтусов, которых вылавливали патрульные по вокзалам, притонам и подвалам. И яблоки им носила. Намоет целую корзинку, выставит на подоконник и скармливает. И пирожки с яблоками пекла. И даже как-то пыталась мармелад сделать. Ничего получилось, похоже. Смели за два дня.
Урожайными они тогда оказались, эти дни. Человек пятнадцать парни из отдела привели. Один другого краше. Кто босиком, кто в кедах размера на три больше. Оборванные, грязные, голодные. Сначала с ней познакомились, потом под конвоем пошли в приемник-распределитель. Лия следом явилась туда с банками этого мармелада и тремя батонами под мышкой. Наворотила с педагогами бутербродов и не успела на тарелки разложить, как ребятня их тут же с разделочных досок похватала.
Ох, дела твои, господи, тяжкие!
Где же это видано, чтобы свое родное дитя бросить на произвол судьбы?! Отвернуться от протянутых к тебе крохотных ручонок?! Отпихнуть, бросить, не откликнуться. Она бы таких родителей…
Ладно, не в ее это силах, да и не в ее полномочиях теперь. Сама так решила. Сама ушла. Сама же потом и страдала, проревев неделю. Но что сделано, то сделано. Теперь она свободна от чужого горя. Оно больше не бередит ей душу. Не щемит сердце, да и по ночам стало чуть лучше спаться. Правда, не всегда…
Живет сейчас в просторной двухкомнатной квартире, с огромной кухней, огромной ванной и просторной прихожей. Имеет солидный счет в банке. Процентов с этого счета ей вполне на жизнь хватает. Может позволить себе и косметический салон, и одежду приличную. Раз в год выезжать куда-нибудь. Не ездит, правда. Не хочется почему-то. Сюда вот, за город все чаще направляется. Садится в машину и едет на свою дачу.
Это ведь единственное, что осталось ее личным и неприкасаемым. Все остальное…
Все остальное досталось при разводе, потому и не любилось так, как этот древний деревянный домишко с десятком стареющих яблонь за ветхим забором. Здесь ей было вольготно и спокойно дышать. Хотя и на голову иногда через худую крышу капало, и в щели задувало, и печь капризничала, начиная вдруг ни с того ни с сего дымить нещадно. Пускай… Зато это все ее, личное…
– Лийка! Дома ты, али где?
По деревянным ступенькам прогромыхали кирзовые сапоги, и через минуту в переднюю половину дома, что служила кухней и столовой одновременно, ввалился сосед.
– На вот, отцеживай. – Он взгромоздил на ее обеденный стол, накрытый белоснежной скатертью, подойник с парным молоком и с необъяснимой строгостью в голосе спросил: – Хватит тебе двух литров-то, поди? Али три возьмешь?
– Хватит, – успокоила его Лия и погасила улыбку.
За этой показной строгостью скрывался добродушный нрав. Сколько бы ни хмурил сосед брови, сколько бы ни покрикивал, она-то знала, что он милейшей души человек. И давно и преданно его любила. И прощала ему многое.
И густую удушливую пелену махорочного дыма, которым тот занавешивал ее столовую, усевшись в уголке на старенькой деревянной табуретке. Мягкие стулья с высокими спинками сосед намеренно игнорировал. Не считал это хорошей мебелью. А вот табуретку… Табуретку ее любил и ремонтировал, когда та начинала рассыхаться и поскрипывать под ним.
И матерщину отборную Лия ему прощала. Морщилась, похлеще чем от махорочного дыма, но терпеливо сносила.
И даже вот этот подойник, что сосед день за днем водружал на ее скатерть, прощала тоже. Не скажет же она ему, что днище у подойника грязное, потому как на земле только что стояло. И что скатерть она только что постелила…
Ерунда все это. Мелочи даже не житейские, а мелкие бытовые, исправляемые одним взмахом ее руки.
А вот если бы она его обидела когда, разве это исправить?..
– Какие в деревне новости, Филипп Иванович?
Лия сняла с перевернутой банки сухую марлю. Перевернула, набросила на горлышко марлю и стала цедить молоко. Тонкая струя, маслянисто поблескивая, перетекала в банку, вздыбливаясь пышной пеной.
Хорошее было молоко у его коровы. Жирное, сладкое, без посторонних запахов и привкусов. Лия и творог из него делала, и сметану научилась готовить. Это ее уже Филипп Иванович научил, проворчав неделю на предмет ее неумелости.
– Корову-то для кого держу, Лийка?! – кричал он, вспоминая такую-то мать через слово. – Мне, что ли, она нужна? Я-то один, на кой мне! Для вас и держу, для дачников. Тебе вот несу. Потом Скоковым, Малютиным. Ребятенок у них маленький. Дык и то молодуха управляется с молоком-то… А она простоквашу в ведро! По ручищам бы тебе надавать…
И пришлось ей учиться снимать с молока сливки, сквашивать в сметану, заваривать творог, и даже сыр готовить. Потому что хозяйка его покойная такой сыр варила. И любил он не столько сам сыр, сколько воспоминания о нем. Лия и варила. И угощала соседа потом. Поила чаем. Намазывала на ломоть белого хлеба щедрый слой масла и укладывала сверху толстенный кусок сыра.
Больше ничего он за свое молоко брать не желал. Денег не брал. Помощи не просил. Подарков не принимал. А вот чайком побаловаться, да с сырком, красотища же! Либо сырников из своего же творога, да со своей же сметанкой. Чем не угощение?!
– Чего яблоки-то пропадают, Лийка? – Филипп Иванович полез в карман широких штанов за махоркой. – Людям бы отдала.
– Пусть берут. – Она неуверенно улыбнулась, мысль предлагать кому-то яблоки как-то не приходила ей в голову. – Мне не жалко.
– Дык не каждый через забор полезет, голова! – воскликнул Филипп Иванович с возмущением.
Положил на одно колено клочок бумаги, на второе кисет. Зачерпнул заскорузлыми пальцами щепотку махры и потрусил над бумагой. Затем неспешно затянул кисет затертым шнурком. Свернул козью ножку, сунул себе в рот и лишь тогда затолкал кисет обратно в карман.
Лия молчала, не смея нарушать ритуал своими неделовыми предложениями. Да ей и предложить было, собственно, нечего. Собирать яблоки в корзины было некогда. Сегодня к вечеру она собиралась вернуться в город.
С раннего утра на ее мобильный начали поступать звонки. Сначала позвонили из банка, для чего-то понадобилось ее немедленное присутствие.
Бывший муж тоже звонил, канючил что-то о том, что измотался и устал и что ему просто необходимо с ней встретиться. Ну, здесь было все ясно. Очередная вертихвостка оставила его с носом и изрядно опустевшим кошельком, и ему срочно понадобилась бывшая жена в качестве жилетки, в которую ему непременно приспичило поплакаться. Что же, примет, накормит, пожалеет, поговорит. С нее не убудет. К тому же это, в конце концов, ее долг. Она его оставила, устав от семейного быта, а не он ее.
А потом вдруг позвонила давняя приятельница, с которой не виделись лет пять, если не больше. Позвонила и пригласила к себе на юбилей. Отказать Лия постеснялась, та так просила…
– Собрать, что ли, яблоки-то? – спросил Филипп Иванович, пыхнув сизым дымом в ее сторону. – Вижу в город навострычилась. Дела, что ли?
Она кивнула с улыбкой. Достала из старого буфета чистую трехлитровую банку и начала цедить оставшееся в подойнике молоко. Кому он его снесет, Лия не знала. Просто делала так всегда. Он никогда, правда, об этом ее не просил, но всегда бывал признателен, что она все процедит, банку потом помоет, марлю простирнет. И подойник ему ополоснет. Ему-то когда? Да уж и умотался он за столько годов, это же бабье дело с банками и ведрами лагастаться…
– Сам, поди, позвонил, так? – Филипп Иванович спрятал хитрющие глаза в глубоких морщинах. – Знаю, можешь не говорить ничего. Позвонил. Опять какая-нибудь шалашовка его вокруг пальца обвела? Вот мужики пошли, а! Дурь же одна в мозгах-то! Хватают, что ни попадя, и давай перья распускать. И ведь понимают, что, окромя денег, ничего от них никому не нужно, а все одно… Дурачье – одно слово… Днем-то управишься?
В последнем вопросе зазвучала явная тревога, и Лия снова спрятала улыбку.
Волнуется, что она надолго зависнет в своей городской квартире. Он ведь тоже любит ее. Любит и переживает, и скучает еще. И чаем ее с валериановым корнем поил, когда она здесь раны свои зализывала после увольнения. Покрикивал, а жалел. По-мужски, грубовато, но жалел.
Лия вздохнула. Она тоже не любила уезжать отсюда надолго. Трудно было сказать, где она проводит больше времени: здесь или в городе. Чуть задержится, а душа уже болит. Как он там, один?
Филипп Иванович стал почти родным. Хотя почему почти? Он еще с ее бабкой и дедом соседствовал, что воспитывали ее и поднимали. И жизнь ее знал, как свою, и болячки ее все, даже детские, помнил наперечет. И замуж помогал ее отдавать. А когда развелась, снова ее жалел. Поругал сначала для порядка, а потом пожалел.
– Я не знаю, Филипп Иванович, – промямлила она виновато. – Муж явиться обещал.
– Ну! Я же и говорю! Это завтра, а чего же еще-то? – Он беспокойно заерзал на табуретке, та тут же отозвалась визгливым старческим скрипом.
– Давняя приятельница пригласила на день рождения. Даже не знаю, идти или нет. Вроде пообещала, а не хочется. – Лия пожала плечами, отошла к двухконфорочной плите, чиркнула спичкой, зажигая газ, и поставила чайник.
– Сходи! Сходи непременно, Лийка! Глядишь, и подхватишь там себе кого-нибудь. Это надо же – в тридцать неполных лет в монашках сидеть.
Он точно обрадовался. Она могла поклясться, что обрадовался. Идея выдать ее замуж и умереть преследовала его последние несколько лет. Она его уговаривала не забивать себе голову еще и такими проблемами и жить независимо ни от чего, он не слушал.
– Вот выдам тебя замуж за хорошего человечка и помру тогда, – мечтал Филипп Иванович, без устали пыхая махоркой. – Дом на тебя подпишу, Лийка. Потому как нету у меня, окромя тебя, никого, девка. Только ты… А жить я устал, Лийка. Очень устал. Измотался я. Да и по бабе своей соскучился. Небось ждет меня там, злится, что задерживаюсь. А как я уйду?! Ну, как?! Душа-то за тебя болит! Ты же одна, как перст. Обидеть любой сможет… без меня…
В такие моменты Лию отчаянно душили слезы. И броситься хотелось ему на впалую старческую грудь, и разрыдаться от счастья горького, как полынь. Не одна она! Не одна, но надолго ли?!
– А может, я не пойду, а, Филипп Иванович? – Она с надеждой уставилась на старика, пытаясь рассмотреть выражение его лица в дымовой завесе. – Чего мне там? Люди все чужие. Мы и с приятельницей уже давно не виделись. Чего я пойду к ней?
– Нет, не открутишься. – Он погрозил ей из своего угла гнутым артритным пальцем. – Ступай, и не раздумывай. Удумала чего! Не пойдет она! Станешь до сорока лет меня возля этих яблоков караулить? Так не укараулишь, Лийка. Пойду о порог споткнуся и сдохну. Так вот, девонька… А ты одна останешься. Нет, нет, ты все же сходи.
– Ладно, схожу. Обещаю! – Лия приложила руку к сердцу и склонила покорно голову. – Не вру. Точно схожу. Чего нового по деревне болтают, Филипп Иванович?
– Хм-м, по деревне-то… Всякого болтают… Банда какая-то объявилась, во! – Филипп Иванович сильно затянулся, тут же подавился дымом и закашлялся.
Кашлял долго и натужно, жмуря глаза и отчаянно мотая головой. Лия через секунду стояла наготове рядом с ним с кружкой ледяной воды в руках. Соседу ничего больше не помогало, только вода ледяная. Напьется, и кашель сам собой затухает.
Все повторилось, как всегда. Кружка родниковой воды сделала свое дело. Филипп Иванович прокашлялся, затих и сидел какое-то время зажмурившись. Потом пару раз коротко пробно вдохнул, выдохнул и проговорил:
– Ты на ночь-то теперь запирайся, Лийка.
– А что так? – Она выплеснула воду в цветочный горшок, вымыла и убрала кружку в буфет. – Хулиганят?
– Как бы так! Бабы возле родника сегодня поутру болтали, будто бы банда какая-то объявилась в округе.
– И чем промышляет эта банда? – Лия не хотела, да улыбнулась, бабы у родника болтали каждый день и болтали много чего. – Горшки с плетней ворует?
Деревня была мирной, поэтому она сюда и любила приезжать. Мало кто на ночь запирал двери. Лия так никогда. Филиппа Ивановича пару раз прихватывал сердечный приступ такой силы, что он только что и смог перевалиться через ее порог и упасть тут же. А уж чтобы достучаться до нее ночью, и разговора нечего было вести. Так и умер бы перед ее запертой дверью. А теперь вдруг запираться! С чего бы это?!
– Никакие ни горшки они воруют! Смешки все тебе! – проворчал он и вдруг ухватился рукой за левый бок. – Что-то печет и печет с утра.
– Ну вот! – Лия сразу расстроилась. – А говорите, на день рождения мне идти! Как же я вас одного оставлю?!
– Ничего, не сдохну, не боись! – Он прикрикнул, но, правда, без былой уверенности. – Справлюсь. Микстуру твою вонючую выпью, ежели что… А банда-то уже двоих убила, во как. А ты горшки! Тут дело не в горшках, Лийка. Тут кое-что похуже.
– Как убили?! Кого?! Тут же всегда так тихо было… – Она растерялась и, чтобы скрыть это, принялась хлопотать у стола. – Дети гуляли одни. Двери никто не запирал. Вещи сушили на веревках. Коровы гуляют, будто кошки беспризорные, никто не зарится. И вдруг убийство!.. Кого убили, Филипп Иванович? Где?
Оказалось, что все это злодейство произошло в соседних деревнях. Убиты две пенсионерки преклонного возраста, причем с особой жестокостью. Женщин долго пытали. Их старые пожитки потом выбросили на улицу и сожгли, поэтому установить, было ли совершено преступление с целью ограбления, оказалось практически невозможным. Оба случая были схожи по почерку, поэтому милиция небезосновательно предполагала, что совершены они одним и тем же человеком или группой лиц.
Но это для милицейского протокола преступники являлись группой лиц, для баб же у деревенского родника они мгновенно заделались бандой. Страшной, беспощадной, истребляющей пожилых женщин бандой.
Было от чего испугаться и задуматься.
Лия слушала рассказ соседа внимательно, время от времени задавая вопросы. Филипп Иванович разъяснял охотно. Пускай и считал ее неудельной в плане личной жизни и недомовитой в вопросах ведения хозяйства, но уж в милицейских сыскных вопросах, по его словам, равных Лии не было. Могла враз преступника вычислить, хоть и валандалась долгие годы с одними лишь пацанами.
– Никого я вычислять не собираюсь! – тут же воскликнула она. – Давайте лучше чай пить. И забудем обо всем. В конце концов, произошло это почти в сорока километрах отсюда. А вторая деревня, так и еще дальше. Сюда, возможно, никто и не сунется. Идите к столу…
Филипп Иванович протрусил к столу с табуреткой наперевес. Сел, пододвинул к себе поближе свою любимую поллитровую кружку с чаем и тут же потянулся к бутербродам с домашним сыром. А Лия еще и ватрушек с утра успела напечь в электрической старенькой духовке.
Это тоже часть ее личного, с чем ни за что и никогда она не собиралась расставаться. Была еще русская печка вполдома, щипцы для колки сахара, старый самовар, который они с соседом летними вечерами растапливали еловыми шишками, и огромная панцирная койка с блестящими шишечками. На койке, под хрустящей накрахмаленной простыней вытянулась толстенная цыганская перина. До самого пола свисал кружевной подзор, а на вышитом бабушкой шелковом покрывале дыбилась гора здоровенных подушек. Таких здоровенных, что Лие приходилось самой мастерить наволочки на них. В продаже таких не было.
– Может, оно и так, – вдруг нарушил тишину Филипп Иванович. – Может, и не доберутся они до нас-то! Полста верст, это не два метра. Тока я почему с тобой весь этот разговор веду, Лийка… Это вроде как по твоей прежней части дело-то… Бают, будто бы детвора там была.
– Какая детвора?! – Она непонимающе вытаращилась на соседа, забыв дожевать кусок ватрушки, так и застыла с оттопыренной щекой. – Где же, где была?!
– Убивцы, бают, дети, во как! – Сосед долил себе из чайника кипятку, кинул в чашку пару кусков сахара, плеснул заварки и, громко колошматя ложкой о фарфоровые стенки, принялся размешивать.
– Как дети?? Чьи??
Это был самый резонный вопрос за последние минуты. Раз дети, значит, чьи-то. А чьими они могут быть? Может, как раз тех самых пенсионерок? Охотники до наследства или что-то в этом роде. А раз старушки зажились, почему бы им не помочь, но… Но как же так можно?!
– Кто же их знает, чьи они? – Сосед поднял на нее от края кружки суровый осуждающий взгляд. – Знали бы, давно поймали. Банда, говорю, из детей одних. Во такого роста, глянь!
Лия проследила за его ладонью, поднявшейся над полом на метр двадцать, никак не больше. И едва не подавилась все тем же куском ватрушки, что пыталась, не разжевав, проглотить.
– Дети?! Убийцы?! Вы ничего не путаете? – Она отхлебнула остывшего чая, прочистила горло, пару раз кашлянув, и снова спросила: – Вы точно ничего не перепутали? Дети-подростки совершили злостное убийство, сожгли имущество и…
– Два! – Филипп Иванович поднял кверху средний и указательный пальцы правой руки. – Два убийства, Лийка! И дважды пожгли бабье тряпье и что-то из мебели.
– Ох, дела твои тяжкие, господи!
Лия перекрестилась. Бабушка все время учила ее креститься, к вере в бога приобщала, добру учила.
– В этой вере, – говорила она, – нет ничего дурного. Кроме хорошего, она ничему больше и не учит. Не убей… Не укради… Разве плохо этому следовать?..
Лия верила и не верила, но когда приспичит, крестилась. Сейчас был как раз тот самый случай – приспичило.
Чтобы дети такого возраста и совершили убийство?! За свою практику она повидала многое, но такого – никогда. Воровали, дрались, пили, кололись, бывало, что и калечили, но чтобы убить, пытать… Нет, с таким она не сталкивалась точно.
– Филипп Иванович, ну вот как я вас тут одного оставлю?! – воскликнула она с чувством, положила свою руку на рукав его старенького в заплатках пиджака. – Видите, что творится!
– Потому и говорю уезжай, дурья голова! – Cосед осерчал и ладошку ее стряхнул со своего рукава. – Мужиков-то не трогают, просекаешь? Бабы одни страдают! А ты одна ночью, да дверь не запираешь. Поезжай ты, Лийка, от греха подальше. А я тут управлюсь и один. А будешь приставать, в Дом уйду, так и знай!..
Его угроза уйти в Дом престарелых была самой страшной угрозой. Он прибегал к ней не часто, но, прибегая, казался на редкость убедительным. И она ведь верила ему и страшилась того, что он может свою угрозу когда-нибудь осуществить.
А что ему могло помешать, собственно? Их давнее и дружное соседство? Так это не повод. Она же не всегда тут живет. А зимой так и вообще не часто. Теплые и доверительные отношения? Так и там их можно поддерживать.
Это Филипп Иванович ей так всегда аргументировал свое решение уехать из деревни.
А Лия всегда злилась: как он не понимает, что она уже без него не проживет. Без его неуклюжей мужицкой заботы. Без его брани и махорки. Без его добрых сочувственных глаз и хитрой улыбки, которую он умудрялся прятать так, что ни в жизнь не догадаешься: улыбается он или морщится от боли.
– Значит, вы хотите, чтобы я уехала в город? Так я поняла? – Она нарочно сделала вид, что обиделась. – И не возвращалась подольше? Так?
– Ты губы-то, Лийка, не дуй. – Все ее ужимки он видел насквозь. – Сиди там и не прыгай, пока я тебе команды не дам. Сиди на попе ровно, поняла?
– Поняла, – буркнула она недовольно. – И сколько мне там сидеть? Год, два, три? Я там зачахну в своей квартире. Да еще эти соседи…
Историю про ее соседей Филипп Иванович знал назубок. И посмеивался над ее возмущением. Прожила бы, говорил всегда, ты со своим мужем не один десяток лет бок о бок, не такого бы наговорили друг другу. Но Лия ему не верила и каждый раз, возвращаясь с городской квартиры на свою дачу, рассказывала ему все новые и новые истории про супругов Кариковых.
– Соседи тебя волновать ну никак не должны, – проворчал Филипп Иванович и снова вдруг полез в карман за кисетом. – Будешь спорить со мной, щас снова закурю.
Лия спорить не стала. Первая его самокрутка закончилась долгим судорожным кашлем. Никто не знает, чем может закончиться вторая. Лучше уж она перетерпит и смолчит. А вернется сразу же, как отпразднует день рождения давней приятельницы.
– И не вздумай приехать раньше времени, коза, – погрозил ей пальцем Филипп Иванович, безошибочно разгадав ее хитрую молчанку. – Телефон у меня есть, так что звони.
Мобильный она подарила ему в прошлом году к юбилею. Он долго отбрыкивался и ругался, но подарок взял, потому как Лия пригрозила, что расплачется. Ее слез он не терпел, и стоило ей расплакаться, тут же терялся и становился похожим на большого неуклюжего ребенка. Трусил за ней по хате с кружкой воды, платком носовым или грелкой, и все приговаривал и приговаривал что-нибудь нескладное и доброе.
Телефон-то он взял, но пока что еще не ответил ей ни разу. Сколько она ни билась, трубку в руки Филипп Иванович не брал.
– Дык, раздавлю я эту игрушку блестящую, – объяснялся он потом ей с самым виноватым видом. – Покрупнее-то нету? Уж больно хрупкая…
Но Лия небезосновательно полагала, что отмалчивался Филипп Иванович намеренно. Чтобы она, значит, быстрее возвращалась. Чего можно по телефону решить, да еще когда тот словно сумасшедший секунды отсчитывает да деньги крутит? А так, за столом, да под самовар…
Надо же, а сейчас сам ее отправляет, и даже про телефон вспомнил. Наверное, действительно дела серьезные творятся в районе. Надо будет позвонить бывшим коллегам и подрасспросить что и как. По старой дружбе не откажут в услуге, просветят.
Оставшееся перед отъездом время Лия перетаскивала из своего дома к соседу приготовленную для него еду. Знала, что едет на пару дней, потому и наготовила. Щей из свежей капусты наварила кастрюлю. Картошки сделала с тушенкой. Ватрушки, что остались от утреннего чаепития, сложила в эмалированную миску. Расставила все по полкам в крохотный его холодильник. Ватрушки на столе оставила, накрыв чистым полотенцем. Выслушала его пятнадцатиминутное ворчание на тему: куда ему одному столько, и за неделю не съесть, и пропадет только. И через полчаса уехала.
Глава 2
Дом, в котором ей в качестве отступных купил квартиру ее бывший муж, располагался в самом центре города и относился к так называемым элитным новостройкам. В их доме, на самом верху даже пентхаус имелся, но кто там обитает, Лия не знала. Ей это было неинтересно.
Еще имелся подземный гараж с лифтом. Шлагбаум перед въездом во двор, ухоженная растительность и разбитная консьержка. Но это, правда, только в их подъезде. Как дело обстояло в двух других, она не знала. Хотя и интересовалась неоднократно, всем ли так повезло, как им, или нет.
Этой молодой дамочке с внешностью увядающей оперной певицы – в наличии имелись пышный бюст, выдающееся лицо с крупными надбровными дугами и глубокий сильный голос – ничего не стоило, к примеру, начать интересоваться у нее подробностями их с Мишаней развода. Мишаня был бывшим мужем Лии. Или начать стрелять у нее денег до получки. О сигаретах разговор был особый, их Лия таскала в сумочке исключительно для нее. Сама курила редко, только в моменты глубокого душевного дискомфорта. Правда, после общения с консьержкой Надин ее частенько на это тянуло. Сдерживалась…
Консьержка по имени Надин, это она так всем представлялась, встретила ее сегодня на редкость умиротворенной и не особо разговорчивой. Обошлась короткой сплетней про жильца из соседнего подъезда, о котором Лия не имела ни малейшего представления. Повышением цен на бензин. Завозом новой партии товара в местный конфи-сток. И под занавес о том, что Кариковы с утра бранятся.
Лия едва не застонала вслух, услышав предостережение.
Дела были плохи. Если Кариковы начинали с утра, то к обеду их скандал постепенно набирал обороты, к вечеру достигал апогея, а заканчивался обычно глубокой ночью дракой или битьем посуды. Причем сор они обычно предпочитали выносить из избы, то есть, начиная за закрытой дверью, завершали все это дело на лестничной клетке.
Лия давно бы спровадила их дней этак на десять в кутузку, для профилактики, так сказать. Но дело осложнялось тем, что Кариковым было по семьдесят лет каждому, раз. И то, что в родстве эти двое имели сына-придурка. Придурком его опять же окрестила Надин. Лия от подобной категоричности воздерживалась, но великовозрастного чада Кариковых откровенно побаивалась. Был он весь какой-то огромный, нескладный и жутко некрасивый. К тому же сынок имел в активе три судимости, нигде после отбывания последнего срока не работал и периодически принимал участие в родительских разборках. При этом принимал то одну, то вторую враждующую сторону, чем вносил еще большую смуту.
Каким образом удалось Кариковым заполучить себе квартиру в дорогом элитном доме, для Лии оставалось загадкой. Мишаня неоднократно вызывался навести по этому поводу справки, но дальше обещаний дело не шло. Да и Лия не настаивала.
Двери лифта с осторожным шипением разъехались в стороны, и Лия с опаской вышла на лестничную клетку. Было относительно тихо. Отголоски скандала витали где-то далеко в квартире Кариковых. Сейчас нужно осторожно, не производя лишнего шума, открыть свою дверь. И поскорее за ней скрыться. Если Кариковы уловят ее присутствие, тут же вырвутся на лестничную площадку, как черти из табакерки, и начнут призывать ее в свидетели.
Лия даже представить себе не могла, чем заслужила подобное доверие со стороны неугомонных супругов. Другого соседа, что жил слева от них, они никогда не трогали. Ей же, без ее на то согласия, отвели роль третейского судьи. Чему она всегда категорически противилась и с поразительной виртуозностью иногда увиливала. Но попыток Кариковы не оставляли.
В квартиру она вошла почти беспрепятственно. То есть был один момент, когда Лия откровенно струсила. Но страхи оказались напрасными. Дверь приоткрылась у соседа напротив. Приоткрылась и тут же захлопнулась. А она-то уж думала…
Лия закрыла свою дверь почти без единого звука. Дважды повернула ключ в замке и только тогда смогла выдохнуть с облегчением. Вот уж никогда бы не подумала, что будет так страдать от шумного соседства двух пожилых пенсионеров. А ведь страдает, да еще как! И не она одна! Бедная Софья Николаевна, что живет прямо под Кариковыми, раз в неделю делает демонстрационные походы в местное домоуправление с перевязанной головой. Не помогает.
Лия поставила свою сумочку на тумбочку под зеркалом. Стащила с себя тонкую кожаную куртку, свое очередное бесполезное – на взгляд Филиппа Ивановича – приобретение, и аккуратно пристроила ее на плечиках в шкафу в прихожей. Никогда она не научится с шиком швыряться дорогими вещами, никогда. И понять никогда не сможет, как это можно сбросить с плеч дорогую норковую шубу прямо себе под ноги у порога и шагнуть через нее.
– Барство это, Мишаня, – пеняла она своему бывшему, когда тот заваливался на ее диван в штучном пиджаке.
Мишаня никогда ее не понимал, чаще обижался. Уезжал и не звонил потом месяца два. Лия не роптала, ей было все равно.
Она прошла на свою кухню и пристально оглядела ее прямо с порога. Если ее бывший являлся сюда в ее отсутствие, а он мог, значит, должен был быть оставлен какой-нибудь след. Либо крошки на столе. Либо забытый ломтик хлеба с сыром. Или стакан из-под вина не на своем месте. Мог оставить и мокрое скомканное полотенце в ванной…
Нет, на этот раз, кажется, все по своим местам. До нее доехать он еще не успел. Зализывает раны в своем особняке за городом. Там когда-то жила и Лия. Не выдержала, сбежала. От чего конкретно сбежала, и сама не знала. То ли не смогла играть роль праздной роскошной женщины, а Мишаня ежедневно этого требовал. То ли не смогла играть роль именно его женщины, а он и этого требовал, что логично – она же жена. То ли еще какая причина имелась, очень-очень скрытая и очень-очень глубоко в подсознании. Так глубоко, что ни один психоаналитик, а Мишаня без устали ее к ним таскал, не сумел оттуда извлечь. Один Филипп Иванович, занавесившись сизым дымом, как древний мудрый джинн, безошибочно угадал причину.
– Любила бы ты его, Лийка, по-настоящему, ни за что бы не сбежала. И жила бы с ним все равно где, лишь бы рядом. Они вон, твои соседи-то… Бранятся день за днем, сама говоришь, дерутся даже, а ведь рядом всю свою жизнь. А почему? Потому что у них любовь…
Любовь, подобную той, что проповедовали Кариковы, Лия категорически отвергала. Она не знала точно, какой должна быть эта самая любовь между мужчиной и женщиной, но что не такой, как у соседей, в этом была уверена.
В прихожей вдруг ни с чего тренькнул звонок. Она вздрогнула, тут же взглянула на часы над дверью в кухне и растерялась. Звонить в дверь ей было совершенно некому. Мишаня почти всегда открывает дверь сам. Когда забывает ключ, всегда звонит предварительно по телефону. Кариковы – те бесцеремонно молотят кулаками о тонкую благородную сталь. Либо прочно держат палец на звонке, и тот надрывается, доводя ее до бешенства. Надин, если ей что-то нужно, пользуется домофоном.
Тогда кто?..
Осторожно, на цыпочках, словно на лестничной клетке можно было слышать ее невесомые шаги, Лия приблизилась к двери. Глянула в глазок и тут же опешила.
По ту сторону топтался ее почти всегда небритый, вечно хмурый и вечно неразговорчивый сосед из квартиры напротив. С чего бы это?
– Слушаю вас. – Она чуть приоткрыла дверь и глянула на него сердито и без участия.
Общаться с ним совершенно не хотелось. И не хотелось по нескольким причинам одновременно. Но, кажется, он об этом не догадывался, потому что тут же сунул ногу в клетчатом тапке в образовавшуюся между дверью и притолокой щель.
– Есть разговор, – кратко изложил цель своего визита мужчина и в буквальном смысле ввалился к ней в квартиру.
– Что вы себе позволяете? – А что еще могла воскликнуть благовоспитанная женщина в подобной ситуации, не в морду же ему бить. – Как вам не стыдно?! Вы не находите, что…
– Да все я нахожу, Лия Андреевна. – Он толкнул задом ее дверь, и та с мягким щелчком закрылась.
Надо же, он знает ее по имени и отчеству. А она вот не имеет ни малейшего представления…
Ну, живет он и живет себе в квартире напротив. Раз в два дня выносит мусор. Ездит на стареньком «Фольце», который паркует в дальний угол в их подземном гараже. Не имеет ни собак, ни кошек. Женщин и детей, кажется, тоже нет. Она их, во всяком случае, никогда не видела ни входящими, ни выходящими из его квартиры. Даже если учесть то, что она могла бы их и просмотреть, отлучаясь, Надин бы давно ей сообщила, а та молчит. Одинок, стало быть.
Одинок, угрюм и теперь еще, оказывается, и нахален.
– Меня зовут Дмитрий, – проговорил он, скрестив сильные загорелые руки на выпуклой груди. – Дмитрий Игоревич Гольцов.
Слава богу, что не Голицын, почему-то сразу подумалось ей.
– Именно Гольцов, а не Голицын, – угадал сосед из квартиры напротив скороспелое течение ее мыслей. – Это нормальная реакция на мои имя с отчеством и фамилию. Потому я и угадал.
– Мне-то что? – Лия пожала плечами, запоздало вспомнив, что стоит перед ним босиком в одних колготках, она этого терпеть не могла.
– Мне тоже.
Дмитрий, который был Игоревичем, да еще Гольцовым, хотел улыбнуться, но потом, видимо, передумал, да так и застыл с разведенными в разные стороны углами тонких губ. Глядел на Лию недобрыми темно-серыми глазами и молчал.
– Был разговор, – напомнила она, устав любоваться на его вытянутый в нитку рот. – И?..
– Пора с этим завязывать, вы не находите, Лия Андреевна? – пробормотал он, встрепенувшись. Уронил руки вдоль тела и кивнул головой себе куда-то за плечо. – Так больше продолжаться не может. Разве не так?
– Вы о Кариковых?
– Да, о них. – Гольцов глубоко и протяжно вздохнул. – Я все, конечно, понимаю. Возраст пенсионный. Личная жизнь и все такое, но… Мы-то с вами имеем право на эту самую личную жизнь или как?!
От того, как именно прозвучал его последний вопрос, сделалось неловко им обоим. Ей уж, во всяком случае, точно. И Лия тут же струсила.
– Мне никто не мешает, – соврала она бессовестно и малодушно, лишь бы не смел он присовокуплять ее личную жизнь к своей, еще чего… – Пошумят, пошумят, да перестанут. В конце концов, вы знаете закон о неприкосновенности жилища. Не мне вам читать проповеди и…
– Ну, вы же бегаете от них! – воскликнул Дмитрий Игоревич с чувством и неприязненно на нее покосился. – И от сына их бегаете. То еще чудовище.
– Ничего я не бегаю!
Лия почувствовала, что краснеет. Вот почему он открывал дверь, когда она вернулась. Он подглядывал за ней. И видел ее осторожную поступь. И осмотрительную аккуратность, с которой она открывала дверь, не мог не заметить. И то, как она запиралась, стараясь не производить лишнего шума, тоже заметил. Вот еще надзиратель выискался! Надо будет попросить Мишаню подыскать ей другое жилье. Пусть попроще, пусть подешевле, но другое. То от Кариковых ей покоя не было, теперь еще и Гольцов доставать станет. Нет, пора съезжать.
– Вы помните, что Шота Руставели сказал о людях равнодушных? – снова прицепился к ней Дмитрий Игоревич. – О том, что с их молчаливого согласия и все такое.
– Про все такое там не было, – огрызнулась она в сердцах.
Это ее-то упрекать в равнодушии, а! Сам ни разу из-за двери носа не высунул, когда Кариковы полосовались, а ее смеет упрекать! И вообще…
– А почему это я должна выслушивать от вас все это? Я вас вообще знать не знаю и вижу, по пальцам можно пересчитать сколько раз. А вы вваливаетесь в мою квартиру, говорите мне гадости. – Лия потянулась к дверной ручке с вполне очевидными намерениями.
– Я не говорил вам гадости. – Гольцов поймал ее за запястье и слегка сдавил. – Просто хотел предостеречь от беды, которая может случиться.
– С кем? – Лия с силой дернула руку, высвобождаясь, и снова потянулась к дверной ручке. – Мне кажется, вам пора. Ваш визит… Все это очень странно…
Гольцов чуть отступил в сторону, давая ей возможность открыть дверь. И смотрел при этом на нее с противным осуждением.
– Странно, что мы с вами ведем себя как сторонние наблюдатели, Лия Андреевна. На наших глазах разыгрывается настоящая трагедия, а мы с вами просто наблюдаем. Вот в чем странность, не находите? – это все Гольцов выговорил, уже стоя одной ногой на лестничной клетке, второй все еще продолжая придерживать дверь. – А потом начинаем удивляться: почему же и как же… Ах, проглядели… Ах, вовремя не вмешались, а ведь могли бы… Как знаете, я предложил. Всего вам доброго.
Лия захлопнула дверь, стоило его клетчатой тапке убраться. С чувством захлопнула, не остерегаясь. Надин и то наверняка услышала, как она шарахнула своей дверью о притолоку. Завтра непременно спросит, с чего это она так разбушевалась.
Пускай! Пускай послушают! Все пускай послушают! Ишь ты, пришел… Мир ее спасать призывает, мерзавец! А где он был, когда она вместе с милицией голодных пацанов по подвалам отыскивала. И как слезами потом давилась, когда они буханку хлеба рвали друг у друга из рук, как в семнадцатом году, честное слово. Он-то наверняка думает, что всех беспризорников еще Макаренко переловил. И уж вряд ли в его благородные мозги закрадывается мысль о том, что старший брат может насиловать двух своих малолетних сестренок. Что вы! Разве такое бывает?! Это неблагородно так думать! Благородно призывать в соратники женщину, собираясь на баррикады. И уличать ее в равнодушии и малодушии благородно. Уличил и ушел со спокойной душой и чистой совестью. А она… Она равнодушная, трусливая и подлая, получается?
Она разозлилась. Ох, как разозлилась, додумав все это до конца. Принялась ходить прямо, как была босиком – ведь терпеть же этого не могла – по квартире. Бить себя правым кулаком в растопыренную левую ладонь и еще ругаться. Нехорошо ругаться, почти непечатно. Знала, что так нельзя. Что ее воспитание и навязанная ей покойной бабушкой вера в бога этого не позволяют, а все равно ругалась.
За пенсионеров у него душа заболела, мать его перетак-то, а лучше бы сыночком их занялся, что нигде не работает и деньги с них тянет. Они, может, оттого и бьются друг о друга который год. Благородным захотелось заделаться, ети его переети, взял бы да вышел хоть раз на площадку, когда она их кулаки разнимает. Отсидится за дверью, в гроб бы его душу мать, в тишине и неприкосновенности, и все ему нипочем. А ей вон однажды под горячую руку Карикова пришлось попасть, и синяк потом на лбу носить три недели. Кариков, правда, извинялся потом все эти три недели, и служить был готов, как собака верная…
Супруги словно того и ждали, чтобы она о них подумала.
Вывалились на площадку с криками и матерщиной и принялись дубасить друг друга под дружное хлопанье дверей на всех этажах. Что характерно, хлопать-то хлопали, но вмешиваться никто не стал. Гольцов, кстати, из-за своей двери тоже не показался.
Простояв минут пять под дверным глазком, Лия все же решилась открыть дверь. Ее появление сработало словно взмах стартового флажка у черты. Кариков пошел в наступление, Карикова принялась визжать с удвоенным азартом.
– А ну хватит, мать вашу!!! – вдруг как заорет она, сама испугавшись звучного эха, ринувшегося во все стороны с их этажа.
Оно проскакало по всем ступенькам, дзинькнуло в подъездных стеклах, жалобно отозвалось скрипнувшей пружиной входной двери и затихло. Затихли и Кариковы.
Дядя Ваня – его никто и никогда не называл по-другому – вытаращился на нее очумело и со страхом. Всклокоченный чуб седых волос слегка подрагивал. Руки, сжатые в кулаки, сами собой разжались и безвольно повисли по бокам. Его супруга, требующая к себе обращения не иначе как по имени-отчеству, от неожиданности даже икнула.
– Если вы сей момент не заткнетесь оба, я вас… – Лия наклонила голову, словно пыталась их забодать; нет, до такого вот состояния ее надо было постараться довести, так не зверела она уже давно, Гольцов все же молодец, дал бы бог ему смелости и здоровья. – Сегодня же, вечерним рейсом отправлю в ментуру!!! И вас, и сыночка вашего обколотого! И притон его чердачный прикрою!
О том, что их чадо ходило периодически на чердак колоться, знала только она. Вряд ли остальных жильцов дома посещало любопытство на предмет того, что можно делать раз в четыре дня на чердаке их дома. Белья там никто не сушил, чтобы можно было поживиться парой-тройкой чужих лифчиков. Коммуникации были в порядке. Да и не стал бы он тяготиться проблемой их содержания. Зачем тогда он туда лазает то и дело?!
Лия отследила пару его визитов. Потолкала потом кончиком старых кроссовок пустые шприцы, что чадо спрятало под трубами отопления, и решила для себя: сдохнет, старикам будет легче. А оно оказывается вон как обернулось! Она оказалась гадкой и равнодушной…
– Если еще раз, – продолжала надрываться она, размахивая руками похлеще Кариковых, те даже в испуге отпрянули к своей двери, – я услышу хоть один вопль на этом вот месте…
Для убедительности она еще и попрыгала по тому самому месту, на котором стояла. Прямо босиком, в одних колготках по бетону… Терпеть же этого не могла.
– Если услышу здесь вот!!! Или, не дай бог, за дверью услышу!!! Звездец вам, короче, поняли!!! Все!!! Быстро по домам!!!
Кариковых словно ветром сдуло. Только что они стояли, оторопело таращась на деликатную и услужливую прежде соседку, и тут же их не стало. Только дверь тихонечко притворилась за ними следом, да замок едва слышно щелкнул. Потом хлопнули еще несколько дверей выше и ниже этажами. Стало быть, буйство ее не пройдет незамеченным, и в глазах общественного мнения она теперь…
Один Гольцов не выглянул, подонок! Пристыдил, втравил и остался незамеченным.
Лия, напрочь позабыв о собственном хорошем воспитании, снова позволила себе небывалую распущенность: трижды мысленно плюнула в его дверь. И, закрывая свою, была уже абсолютно и твердо уверена: там, в этой благоустроенной трехкомнатной квартире живет ее новый, только что приобретенный враг…
Глава 3
Гольцов все это время простоял под своей дверью. Стоял, обливаясь трусливым потом, кто сказал бы раньше, не поверил бы, и смотрел в глазок. Он все видел. И дальше больше, чем видели Кариковы. И он видел, как она – красивая и недоступная – начинает его ненавидеть. Вернее, он уловил это еще раньше, когда стоял в ее утонченной прихожей с белыми стенами, мозаичным полом и изящными тумбочками и шкафом в углу. Уловил, понял, проникся… Только изменить ничего был не в силах. Не мог, к примеру, взять ее за плечи, тряхнуть как следует и сказать, как раньше: «Эй подруга, а ну-ка прекрати считать себя единственно правильно поступающей и ругать всех подряд недостойных, давай сделаем что-нибудь сообща…»
Он этого сделать не мог, потому что сам уже давно ругал всех подряд недостойных; ненавидел весь мир, что повернулся к нему задним местом, и еще считал себя правильным и благородным. Ах, да! Еще незаслуженно обиженным, во!
Иногда в минуты просветления, так он называл одинокие вечера за бутылкой водки, Гольцов вдруг начинал понимать, что он неправ. Что это не мир, а он ото всех отвернулся. И никто, ровным счетом никто не виноват в том, что так все случилось. Ему некого было винить. По пальцам начни перебирать, не нашел бы виновных. Что случилось, то случилось. Как это модно было сейчас говорить: он оказался не в том месте, не в то время. Вошел не в ту дверь, сошел не на той остановке. Что там еще?.. Пожалуй, что и хватит.
Великое же чудо, что жив остался. Ему ведь так потом и сказали. А он не понял. Не возблагодарил судьбу за отвешенный ему кусок бесполезного прозябания. И даже не покаялся. Нехорошо же, Дима!..
Но такое случалось не часто. Имеются в виду и моменты просветления, и одинокие вечера под бутылку водки. Гольцов не любил пить, и уж точно не терпел пить в одиночестве. А на трезвую голову быть справедливым у него не получалось. Никак не получалось. Одна надежда была…
Да, смешно признаваться в этом самому себе, но на эту женщину он начал надеяться сразу, как столкнулся с ней на лестнице. Увидел и вдруг поверил, что вот она, невзирая на сумрачный взгляд и туго сжатые губы, точно что-нибудь сможет сделать с его неказистой жизнью. Расцветить ее как-нибудь, что ли.
То был первый и единственный раз, когда они одновременно понесли к мусоропроводу свои мешки с мусором. Когда он стоял совсем рядом с ней и слушал, как от нее тонко и прохладно пахнет.
Правильнее и честнее сказать, он ее тогда подкараулил. Уловил, как щелкнул ее замок. Увидел в глазок, как вышла она на площадку в тонких светлых брючках в обтяжку, короткой, открывающей пупок красной футболке, и тут же ринулся за ней следом.
Она его даже не заметила. Нет, не так. Заметила, конечно же, и даже поздоровалась, но заметила совсем не так, как ему хотелось бы. Кивнула, отвернулась, бросила свой пакет в разверзшуюся зловонную пасть мусоропровода, и ушла к себе. А он даже ей вслед посмотреть не осмелился. Стыдно было за свой трюк с подсматриванием. Стыдно и недостойно, потому и не посмотрел, как она уходит, унося с собой его надежду.
Он много раз потом пытался произвести на нее впечатление. Менял туалетную воду, брился, переодевался трижды за день, как дурак, честное слово. Все бесполезно. Лия оставалась к нему равнодушной. Тонкой и холодной, как ее запах. И еще равнодушной.
Кто знает, цитируя Руставели, не себя ли обиженного он имел в виду? Обвиняя ее в равнодушии, не за себя ли пекся?
Все может быть… Все может быть…
Гольцов видел ее последний взгляд, брошенный на его дверь. Видел и в который раз распрощался с глупой своей надеждой на скорое свое выздоровление. Он же болен был, кому же непонятно…
Он стоял у двери довольно долго и, не отрываясь, продолжал таращиться в глазок на лестничную площадку. Будто бы что-то могло измениться оттого, что он смотрит. И оттого еще, что давно озяб в одной футболке и тапках на босу ногу, из двери отчего-то дуло нещадно. И ведь не зима еще, а что зимой станет? Мастера, что ставили ему эту новую дверь, клялись и божились, что сквозняков не будет. А вот поди же ты. Мерзнет же! Это в конце сентября мерзнет. А что зимой будет?
Гольцов вдруг разозлился на себя за глупые пустые мысли, что скакали в голове, подобно блохам на бродячей собаке.
Далась она ему эта зима! Ничего не будет этой зимой! Ни-че-го!!! Ничего, кроме прежней пустоты и одиночества, а еще трусости и жалости к самому себе. Идиот!!! Судьба ему такой шанс давала в образе этой дивной женщины, а он смалодушничал. Попросту облажался и не вышел на лестницу, когда она буйных Кариковых усмиряла. А ведь хотел выйти. Еще как хотел. И вышел бы, не вспомнись ему события зимы минувшей, что в один миг перечеркнули всю его жизнь, не оставив ничего взамен. Нет, не перечеркнули. Завалили снегом, правильнее сказать. Завьюжили, замели, запорошили, превратили в девственно белую пустыню, по которой ему плестись остаток дней.
Разве струсил бы он, не вспомни, чем ему обошлось его прошлое благородство?! Нет, точно нет. И из квартиры бы вышел. И мало того, к ней за поддержкой уж точно не постучался бы. Сам давно разобрался и с супругами, и с дауном их великовозрастным. А теперь он вынужден трусить. Вынужден дрожать, мерзнуть под дверью и страдать, страдать, страдать от непонятости и невозможности изменить хоть что-то.
Кажется, он повторяется? Да, да, точно, это сегодня уже было: про непонятость и невозможность изменить. Пора было закругляться, и пора было возвращаться в гостиную, где на полную мощность орал второй час телевизор. Пора, пора в диванные подушки. Пристроить ноги на низком столике. Взять в руки кружку с остывшим забытым кофе и прикладываться к нему время от времени. А потом можно было бы поблуждать и по сети. Зайти на ненавистный сайт и… Нет. Туда ему путь заказан. Хватит на сегодня, а то тошнота душевная задушит и поглотит, и на завтра его уже может и не остаться. Или это к лучшему…
Глава 4