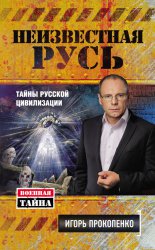Чума (сборник) Камю Альбер
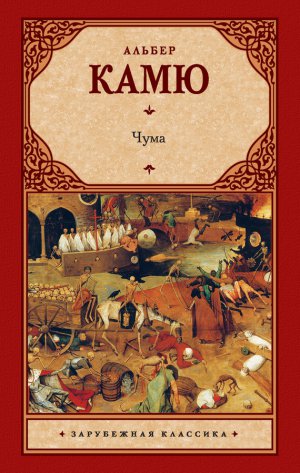
– Печет, – твердил он, – для бронхов оно самое полезное.
И в самом деле пекло, но не просто пекло, пекло и жгло, как при лихорадке. Весь город лихорадило, такое по крайней мере впечатление не оставляло доктора Риэ в то утро, когда он отправился на улицу Федерб, чтобы присутствовать при расследовании дела о покушении Коттара на самоубийство. Но он тут же счел свое впечатление несуразным. Он приписал это нервному переутомлению, множеству навалившихся на него забот и подумал, что следовало бы взять себя в руки и привести свои мысли в порядок.
До улицы Федерб он добрался раньше полицейского комиссара. Гран уже ждал его на лестнице, и оба решили посидеть пока у него, а дверь на площадку оставить открытой. Служащий мэрии жил в двухкомнатной, довольно убого обставленной квартире. В глаза бросалась только деревянная некрашеная полка, на которой стояли два-три словаря, да грифельная доска на стене, где можно было еще разобрать полустертые слова «цветущие аллеи». По уверению Грана, Коттар провел ночь спокойно. Но утром он пожаловался на головную боль и вообще показался Грану каким-то безучастным. Сам Гран выглядел усталым и нервничал; он шагал взад и вперед по комнате, то открывая на ходу, то захлопывая лежавшую на столе толстую папку, набитую исписанными листками.
Расхаживая по комнате, он сообщил доктору, что, в сущности, почти не знает Коттара, но предполагает, что у того есть небольшое состояние. Вообще-то Коттар – человек странный. Живут они рядом давно, но, встречаясь в подъезде, только раскланиваются.
– Фактически и разговаривал я с ним всего раза два. Несколько дней назад я уронил на площадке коробку с мелками. Там были красные и синие мелки. Как раз вышел Коттар и помог мне их собрать. Он спросил, для чего нужны разноцветные мелки.
Гран тогда объяснил ему, что намерен восстановить в памяти латынь. Латынь он учил в лицее, но порядком ее позабыл.
– Кстати, меня уверяли, – добавил он, обращаясь к доктору, – что знание латыни помогает глубже проникать в смысл французских слов.
На доске он пишет несколько латинских слов. Синим мелком те части слова, которые изменяются, согласно правилам склонения и спряжения, а красным – те, что остаются неизменными.
– Не знаю, понял ли меня Коттар или нет, во всяком случае, внешне он как будто заинтересовался и попросил у меня красный мелок. Я, конечно, удивился, но в конце концов… Не мог же я предвидеть, что мелок ему понадобится для осуществления своего замысла.
Риэ спросил, о чем шла у них речь во второй раз. Но тут в сопровождении секретаря явился полицейский комиссар и пожелал сначала выслушать показания Грана. Доктор отметил про себя, что Гран, говоря о Коттаре, называет его «человеком отчаявшимся». Он употребил даже слова «роковое решение». Речь шла о мотивах самоубийства, и Гран проявлял крайнюю щепетильность в выборе терминов. Наконец сообща выработали формулировку: «Огорчения интимного характера». Комиссар осведомился, было ли в поведении Коттара что-либо, позволявшее предвидеть то, что он называл «его решение».
– Вчера он постучался ко мне, – сказал Гран, – и попросил спичек. Я дал ему коробок. Он извинился, что побеспокоил меня, но раз уж мы соседи… Потом стал уверять, что сейчас же вернет спички. Я сказал, пускай оставит коробок себе.
Комиссар спросил Грана, не показалось ли ему поведение Коттара странным.
– Одно мне показалось странным – то, что он вроде бы намеревался вступить со мной в беседу. Но мне как раз надо было работать.
Гран обернулся к Риэ и смущенно пояснил:
– Личная работа.
Комиссар выразил желание повидать больного, но Риэ решил, что разумнее будет сначала подготовить Коттара к этому визиту. Когда он вошел к нему в комнату, Коттар в серой фланелевой пижаме приподнялся на постели и тревожно оглянулся на дверь:
– Полиция, да?
– Да, – ответил Риэ, – но волноваться не следует. Всего две-три формальности – и вас оставят в покое.
Но Коттар возразил, что все это ни к чему, а главное, он видеть не может полицию. Риэ не сдержал нетерпеливого жеста.
– Я тоже ее не обожаю. Но с этим делом надо покончить как можно скорее, поэтому отвечайте на вопросы быстро и точно.
Коттар замолчал, и доктор направился к двери. Но больной тут же окликнул его и, когда Риэ подошел, схватил его за руку:
– Скажите, доктор, ведь правда нельзя забирать больного или того, кто хотел повеситься, а?
С минуту Риэ смотрел на Коттара, а потом заверил его, что и речи не было ни о чем подобном, да он и сам явился сюда затем, чтобы защищать интересы своего пациента. Больной, видимо, успокоился, и Риэ позвал комиссара.
Коттару зачитали показания Грана и спросили, может ли он уточнить мотивы своего поступка. Не глядя на комиссара, он подтвердил только, что «огорчения интимного характера – очень хорошо сказано». Комиссар тогда и спросил, не вздумает ли Коттар повторить свою попытку, Коттар с воодушевлением заверил, что не вздумает и желает только одного – чтобы его оставили в покое.
– Разрешите заметить, – раздраженно сказал комиссар, – что в данном случае именно вы нарушаете чужой покой.
Риэ незаметно махнул ему рукой, и комиссар замолчал.
– Нет, вы только подумайте, – вздохнул комиссар, когда они вышли на площадку, – у нас и без того хлопот по горло, особенно сейчас, с этой лихорадкой…
Он осведомился у доктора, серьезно ли это, и Риэ сказал, что сам не знает.
– Тут главное – погода, в ней вся беда, – заключил комиссар.
Разумеется, во всем виновата была погода. День становился все жарче и жарче, вещи, казалось, липнут к рукам, и Риэ с каждым новым визитом укреплялся в своих опасениях. К вечеру того же дня он, попав в предместье, заглянул к соседу своего старого пациента-астматика и увидел, что тот лежит в бреду, схватившись за больной пах, и мучается неукротимой рвотой. Лимфатические узлы опухли у него еще сильнее, чем у их привратника. Один гнойник уже созрел и на глазах врача открылся, как гнилой плод. Вернувшись домой, Риэ позвонил в аптечный склад департамента. В его врачебных заметках под этой датой есть только одна запись: «Ответ отрицательный». А его вызывали уже к новым пациентам с тем же заболеванием. Ясно было одно – гнойники необходимо вскрывать. Два крестообразных надреза ланцетом – и из опухоли вытекала гнойная масса с примесью сукровицы. Больные исходили кровью, лежали как распятые. На животе и на ногах появлялись пятна, истечение из гнойников прекращалось, потом они снова набухали. В большинстве случаев больной погибал среди ужасающего зловония.
Газеты, размазывавшие на все лады историю с крысами, теперь словно в рот воды набрали. Оно и понятно: крысы умирали на улицах, а больные – у себя дома. А газеты интересуются только улицей. Однако префектура и муниципалитет призадумались. Пока каждый врач сталкивался в своей практике с двумя-тремя случаями непонятного заболевания, ни кто и пальцем не шевельнул. Но достаточно было кому-то сделать простой подсчет, и полученный итог ошеломил всех. За несколько дней смертельные случаи участились, и тем, кто сталкивался с этим загадочным недугом, стало ясно, что речь идет о настоящей эпидемии. Именно в это время доктор Кастель, человек уже пожилой, зашел побеседовать к своему коллеге Риэ.
– Надеюсь, Риэ, вы уже знаете, что это? – спросил он.
– Хочу дождаться результата анализов.
– А я так знаю. И никакие анализы мне не требуются. Я много лет проработал в Китае да, кроме того, лет двадцать назад наблюдал несколько случаев в Париже. Только тогда не посмели назвать болезнь своим именем. Общественное мнение – это же святая святых: никакой паники, главное – без паники. К тому же один врач мне сказал: «Но это немыслимо, всем известно, что на Западе она полностью исчезла». Знать-то все знали, кроме тех, кто от нее погиб. Да и вы, Риэ, тоже знаете это не хуже меня.
Риэ задумчиво молчал. Из окна кабинета был виден каменистый отрог прибрежных скал, смыкавшихся вдалеке над бухтой. И хотя небо было голубое, сквозь лазурь пробивался какой-то тусклый блеск, меркнущий по мере того, как близился вечер.
– Да, Кастель, – проговорил он, – а все-таки не верится. Но по всей видимости, это чума.
Кастель поднялся и направился к двери.
– Вы сами знаете, что нам ответят, – сказал старик доктор. – «Уже давным-давно она исчезла в странах умеренного климата».
– А что, в сущности, значит «исчезла»? – ответил Риэ, пожимая плечами.
– Да, представьте, исчезла. И не забудьте: в самом Париже меньше двадцати лет назад…
– Ладно, будем надеяться, что у нас обойдется так же благополучно, как и там. Но просто не верится.
Слово «чума» было произнесено впервые. Оставим на время доктора Риэ у окна его кабинета и позволим себе отступление с целью оправдать в глазах читателя колебания и удивление врача, тем более что первая его реакция была точно такой же, как у большинства наших сограждан, правда, с некоторыми нюансами. Стихийное бедствие и на самом деле вещь довольно обычная, но верится в него с трудом, даже когда оно обрушится на вашу голову. В мире всегда была чума, всегда была война. И однако ж, и чума, и война, как правило, заставали людей врасплох. И доктора Риэ, как и наших сограждан, чума застала врасплох, и поэтому давайте постараемся понять его колебания. И постараемся также понять, почему он молчал, переходя от беспокойства к надежде. Когда разражается война, люди обычно говорят: «Ну, это не может продлиться долго, слишком это глупо». И действительно, война – это и впрямь слишком глупо, что, впрочем, не мешает ей длиться долго. Вообще-то глупость – вещь чрезвычайно стойкая, это нетрудно заметить, если не думать все время только о себе. В этом отношении наши сограждане вели себя, как и все люди, – они думали о себе, то есть были в этом смысле гуманистами: они не верили в бич Божий. Стихийное бедствие не по мерке человеку, потому-то и считается, что бедствие – это нечто ирреальное, что оно-де дурной сон, который скоро пройдет. Но не сон кончается, а от одного дурного сна к другому кончаются люди, и в первую очередь гуманисты, потому что они пренебрегают мерами предосторожности. В этом отношении наши сограждане были повинны не больше других людей, просто они забыли о скромности и полагали, что для них еще все возможно, тем самым предполагая, что стихийные бедствия невозможны. Они по-прежнему делали дела, готовились к путешествиям и имели свои собственные мнения. Как же могли они поверить в чуму, которая разом отменяет будущее, все поездки и споры? Они считали себя свободными, но никто никогда не будет свободен, пока существуют бедствия.
И даже когда сам доктор Риэ признался своему другу Кастелю, что в разных частях города с десяток больных без всякого предупреждения взяли и скончались от чумы, опасность по-прежнему казалась ему нереальной. Просто, если ты врач, у тебя составилось определенное представление о страдании и это как-то подхлестывает твое воображение. И, глядя в окно на свой город, который ничуть не изменился, вряд ли доктор почувствовал, как в нем зарождается то легкое отвращение перед будущим, что зовется тревогой. Он попытался мысленно свести в одно все свои сведения об этом заболевании. В памяти беспорядочно всплывали цифры, и он твердил про себя, что истории известно примерно три десятка больших эпидемий чумы, унесших сто миллионов человек. Но что такое сто миллионов мертвецов? Пройдя войну, с трудом представляешь себе даже, что такое один мертвец. И поскольку мертвый человек приобретает в твоих глазах весомость, только если ты видел его мертвым, то сто миллионов трупов, рассеянных по всей истории человечества, в сущности, дымка, застилающая воображение. Доктор припомнил, что, по утверждению Прокопия, чума в Константинополе уносила ежедневно десять тысяч человек. Десять тысяч мертвецов – это в пять раз больше, чем, скажем, зрителей крупного кинотеатра. Вот что следовало бы сделать. Собрать людей при выходе из пяти кинотеатров, свести их на городскую площадь и умертвить всех разом – тогда можно было бы себе все это яснее представить, можно было бы различить в этой безликой толпе знакомые лица. Но проект этот неосуществим, да и кто знает десять тысяч человек? К тому же люди, подобные Прокопию, как известно, считать не умели. Семьдесят лет назад в Кантоне сдохло от чумы сорок тысяч крыс, прежде чем бедствие обратилось на самих жителей. Но и в 1871 году не было возможности точно подсчитать количество крыс. Подсчитывали приблизительно, скопом и, конечно, допускали при этом ошибки. Между тем, если одна крыса имеет в длину сантиметров тридцать, то сорок тысяч дохлых крыс, положенных в ряд, составят…