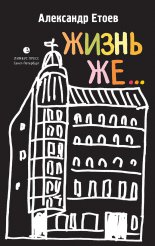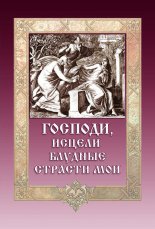«Вдовствующее царство». Политический кризис в России 30-40-х годов XVI века Кром Михаил
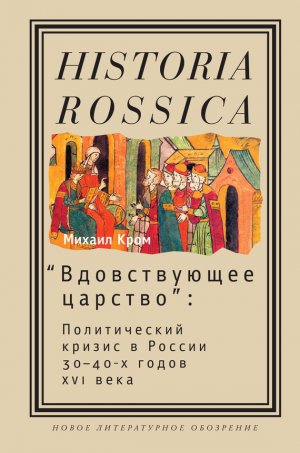
ОТ АВТОРА
Работа над этим исследованием велась более 15 лет, и все эти годы я получал советы и помощь от многих коллег. Поэтому я считаю своим приятным долгом начать книгу со слов признательности. Прежде всего хочется поблагодарить сотрудников библиотек и архивов, оказавших мне неоценимую помощь в сборе материала для исследования, и особенно Ю. М. Эскина (РГАДА), Ю. Д. Рыкова (Отдел рукописей РГБ), д-ра Штефана Хартмана (Тайный государственный архив Прусского культурного наследия, Берлин-Далем). Сведениями о ряде ценных рукописей, хранящихся в Государственном архиве Вологодской области, я обязан Ю. С. Васильеву, М. С. Черкасовой, Н. В. Башнину.
Я благодарен д-ру Ульриху Веберу (Семинар по германистике, Университет г. Киля) и К. А. Левинсону за помощь в переводе немецких текстов XVI в., а В. И. Мажуге – за консультации по поводу латинских цитат.
Важными вехами на пути от первоначального замысла исследования к итоговой монографии стали доклады на Чтениях памяти академика Л. В. Черепнина (1994 г.) и летней школе по истории Древней Руси в Париже (2003 г.). Одним из организаторов этих памятных для меня конференций был В. Д. Назаров. Я благодарю Владислава Дмитриевича за внимание к моей работе и ценные советы (даже если не всеми из них я сумел воспользоваться).
Рукопись книги обсуждалась на заседании Отдела древней истории России Санкт-Петербургского института истории РАН в июле 2009 г. (заведующая отделом – З. В. Дмитриева). Выражаю искреннюю признательность всем участникам обсуждения за высказанные замечания и пожелания.
В работе над текстом мне немало помогли также отзывы рецензентов книги – Варвары Гелиевны Вовиной-Лебедевой и Ольги Евгеньевны Кошелевой. Ольга Евгеньевна сделала намного больше, чем обычно делает рецензент: она не только внимательно прочитала весь текст книги и высказала критические замечания по каждой главе, но и прислала копии нескольких интересовавших меня документов из фондов РГАДА.
Значительная часть книги была написана в 2007 – 2008 гг. в Кильском университете (Германия), где благодаря поддержке Фонда имени Александра фон Гумбольдта (проект по сравнительно-историческому изучению патроната и клиентелы в допетровской Руси) и гостеприимству профессора Людвига Штайндорфа мне были предоставлены идеальные условия для научных занятий. Завершающий этап работы над монографией в 2009 г. был также поддержан стипендией Фонда имени Александра фон Гумбольдта (Rckkehrstipendium).
Выражаю искреннюю признательность всем перечисленным выше лицам и организациям. Отдельная благодарность – моим близким за терпение и поддержку.
Санкт-Петербург, сентябрь 2009 г.
ВВЕДЕНИЕ
Горе тебе, земля, когда царь твой отрок…
(Еккл. 10: 16)
1. «Боярское правление» перед судом современников и потомков
Слова о «вдовствующем царстве», вынесенные в заголовок данной книги, заимствованы из послания Ивана IV Стоглавому собору: «…мне сиротствующу, а царству вдовъствующу», – так вспоминал царь о времени своего малолетства1.
Уподобление царства, оставшегося без государя, безутешной вдове – нередкий прием в русской публицистике XVI – начала XVII в. Развернутая аллегория на эту тему содержится в принадлежащем перу Максима Грека «Слове, пространнее излагающем, с жалостию, нестроения и безчиния царей и властей последняго жития»2. Хотя датировка этого сочинения варьируется в научной литературе от 30-х до первой половины 50-х гг. XVI в., исследователи единодушны в том, что оно отражает события эпохи малолетства Грозного3. Ученый монах изобразил здесь «жену» в черном вдовьем одеянии, именуемую «Василия» (т.е. «царство») и страстно обличающую своих мучителей – «славолюбцев и властолюбцев», «сущих во властях»4.
Дальнейшее развитие образ «вдовствующего царства» получил в эпоху Смуты начала XVII в. Так, анонимный автор «Новой повести о преславном Российском царстве» (агитационного сочинения, появившегося в конце 1610 или начале 1611 г.) писал о современной ему ситуации, что «Божиим изволением царский корень у нас изведеся […] и земли нашей без них, государей, овдовевши и за великия грехи наша в великия скорби достигши…»5 (выделено мной. – М. К.). Наконец, во «Временнике» Ивана Тимофеева есть характерное рассуждение о том, что царь и «царствие» неотделимы друг от друга, как душа неотделима от тела, а в конце своего сочинения автор поместил две притчи «О вдовстве Московского государства»6.
Как видим, и отсутствие царя на престоле, и малолетство государя, его физическая неспособность управлять страной – в равной мере представлялись современникам настоящим бедствием, «вдовством» государства. Примечательно, что до эпохи Ивана Грозного образ «вдовствующего царства» в русской письменности не встречается, хотя в истории дома Калиты и раньше не раз возникала ситуация, когда великокняжеский престол переходил к юному княжичу (достаточно вспомнить о том, что великому князю Ивану Ивановичу Красному в 1359 г. наследовал девятилетний сын Дмитрий – будущий победитель на Куликовом поле, а Василию Дмитриевичу в 1425 г. – сын Василий (II), которому не исполнилось еще 10 лет от роду7). По-видимому, формирование образа «вдовствующего царства» произошло уже в едином государстве, а непосредственным толчком послужили потрясения эпохи «боярского правления» 30 – 40-х гг. XVI в.8
За редкими исключениями, мы не располагаем непосредственными откликами очевидцев на события интересующего нас времени. Чуть ли не единственное свидетельство такого рода – показания бежавшего осенью 1538 г. из Московского государства в Ливонию итальянского архитектора Петра Фрязина. На допросе в Юрьеве (Дерпте), объясняя причины своего побега, он заявил: «…нынеча, как великого князя Василья не стало и великой княги[ни], а государь нынешней мал остался, а бояре живут по своей воле, а от них великое насилье, а управы в земле никому нет, а промеж бояр великая рознь; того деля есми мыслил отъехати прочь, что в земле в Руской великая мятеж и безгосударьство…»9
Справедливость приведенной характеристики нам предстоит проверить в ходе данного исследования, но пока следует отметить, что слова беглеца-архитектора не могли повлиять на формирование негативного образа эпохи, поскольку процитированный документ, происходящий из архива Посольского приказа, был опубликован только в 1841 г. К тому времени дурная слава уже давно прочно закрепилась за периодом малолетства Грозного, и виной тому были как писания самого царя, так и летописные памятники второй половины его правления.
Примечательно, что летописи, составленные в годы «боярского правления», не содержат каких-либо оценок или суждений обобщающего плана, по которым можно было бы судить об отношении современников к тогдашним носителям власти. Это характерно не только для летописей, доводящих изложение лишь до конца 1530-х гг. (Вологодско-Пермской третьей редакции, Новгородской IV по списку Дубровского), но и для крупнейшего летописного памятника, созданного в первой половине 1540-х гг., – Воскресенской летописи. Ее политическая тенденция не поддается однозначному определению: о симпатиях и антипатиях составителя летописи исследователи высказывают различные мнения. С. А. Левина полагает, что автор Воскресенской летописи был сторонником князей Шуйских; А. Н. Казакевич и Б. М. Клосс отмечают особые симпатии летописца к митрополиту Иоасафу10.
Еще труднее обнаружить какую-либо направленность в Постниковском летописце, в котором изложение событий обрывается на 1547 г.: недаром первый публикатор этого памятника М. Н. Тихомиров заметил, что авто этих «своеобразных мемуаров середины XVI в.» «не выражает своих симпатий открыто», а «как бы регистрирует события…»11.
Но по мере того как эпоха «боярского правления» уходила в прошлое, все чаще – уже постфактум – звучали оценки событий того времени. В сочинениях конца 40-х – начала 50-х гг. XVI в. давалась краткая, но подчеркнуто негативная характеристика периода государева малолетства. Боярам инкриминировались мздоимство, властолюбие, насилие, междоусобные распри и т.п. Так, в кратком Новгородском летописце по списку Н. К. Никольского страшный московский пожар в июне 1547 г. объяснялся Божьим гневом, ибо «в царствующем граде Москве умножившися неправде, и по всей Росии, от велмож, насилствующих к всему миру и неправо судящих, но по мъзде, и дани тяжкые […] понеже в то время царю великому князю Ивану Васильевичю уну сущу, князем же и бояром и всем властелем в бесстрашии живущим…»12.
Сходные обвинения в адрес бояр звучали на соборах 1549 – 1551 гг. В феврале 1549 г. Иван IV, если верить продолжателю Хронографа редакции 1512 г., говорил своим приближенным, что «до его царьского возраста от них и от их людей детем боярским и христьяном чинилися силы и продажи и обиды великия в землях и в холопях и в ыных во многих делех»13. Два года спустя, в речи, обращенной к иерархам Стоглавого собора, царь еще суровее обличал «самовластие» бояр, которые, воспользовавшись малолетством государя, развязали междоусобную борьбу, унесшую множество жертв: «И тако боляре наши улучиша себе время – сами владеша всем царством самовластно, никому же възбраняюще им от всякого неудобнаго начинаниа, и моим грехом и сиротством, и юностию мнози межуусобною бедою потреблени быша злей»14.
Та же тенденция была последовательно проведена в созданном между 1553 и 1555 гг. Летописце начала царства – по существу первом подробном изложении (с официальных позиций) истории 1533 – 1552 гг.: составитель при каждом удобном случае подчеркивал «самовольство» бояр, действовавших «без великого князя ведома»15. В новой редакции Летописца, созданной во второй половине 1550-х гг. и отразившейся в Патриаршем списке и (начиная с 1542 г.) в списке Оболенского Никоновской летописи16, в текст были внесены комментарии риторического характера, призванные еще сильнее обличить произвол бояр-правителей, раскрыть низменные мотивы их поведения. Так, в рассказ о конфликте князей Шуйских с кн. И. Ф. Бельским по поводу раздачи думских чинов осенью 1538 г. была вставлена фраза: «И многые промежь их [бояр. – М. К.] бяше вражды о корыстех и о племянех их, всяк своим печется, а не государьскым, ни земьсскым»17.
Определенная тенденция содержалась не только в комментариях, подобных вышеприведенному, но и в самом отборе фактов, достойных упоминания: характерно, что в официальном московском летописании не упомянуты такие важные мероприятия, как губная реформа18 или поместное верстание рубежа 30 – 40-х гг. XVI в. По существу, вся внутриполитическая жизнь страны от смерти Елены Глинской до царского венчания сведена там к придворным интригам, боярским распрям и бессудным расправам. В таком контексте вполне оправданным выглядел обобщающий вывод редактора-составителя летописи второй половины 1550-х гг.: «…всяк своим печется, а не государьскым, ни земьсскым».
Еще более резкая оценка деятельности боярских правителей была дана Иваном Грозным в послании Курбскому: излагая длинный перечень «бед и скорбей», которые ему и его подданным пришлось претерпеть от «воцарившихся» бояр, царь так подвел итоги их правления: «…правити же мнящеся и строити, и, вместо сего, неправды и нестроения многая устроиша, мзду же безмерну ото всех збирающе, и вся по мзде творяще и глаголюще»19.
Та же характеристика интересующей нас эпохи и почти в тех же выражениях, что и в царском послании, содержалась в другом памятнике первой половины 1560-х гг. – Степенной книге. Здесь в особой главе, названной «О преставлении великия княгини Елены и о крамолах болярских и о митрополитех», обличались «междоусобные крамолы» и «несытное мьздоимьство» бояр, «улучивших время себе» при «младом» государе20.
Подробный разбор летописных текстов 1560 – 1570-х гг., освещавших события эпохи «боярского правления», не входит в мою задачу. Важно только подчеркнуть, что, как установлено исследователями, основным источником повествования о первой половине царствования Грозного во всех памятниках предопричного, опричного и послеопричного времени – Львовской летописи, Степенной книге, Лицевом своде (Синодальной летописи и Царственной книге) – послужил Летописец начала царства поздней редакции, отразившейся в списках, продолжающих Никоновскую летопись21. При этом фактический материал мог подвергаться сокращению (как в Степенной книге), дополняться известиями других летописей или даже (как в знаменитых приписках к Лицевому своду) ранее не известными подробностями, но концептуальная основа оставалась прежней: это была все та же, созданная во второй половине 1550-х гг., трактовка событий малолетства Ивана IV, подчеркивавшая при каждом удобном случае эгоизм и своеволие бояр-правителей.
К концу царствования Ивана Грозного угодная ему версия истории «боярского правления» была «растиражирована» во множестве текстов. Обвинения, брошенные Иваном IV и его помощниками по летописному делу деятелям 1530 – 1540-х гг., положили начало историографической традиции, влияние которой не преодолено до сих пор.
Когда началась научная разработка истории России XVI в., в ее основе оказались официальные летописные памятники грозненского времени: Никоновская и Львовская летописи, Царственная и Степенная книги, опубликованные впервые в эпоху Екатерины II. К тому же «семейству» принадлежал и Архивский летописец (свод 1560 г.), использованный Н. М. Карамзиным в его «Истории»22. Если учесть, что шахматовская «революция» в летописеведении произошла лишь на рубеже XIX – XX вв., а систематическое освоение актового материала эпохи Ивана Грозного началось только в середине XX столетия, то становится понятно, что историкам XVIII – XIX вв. трудно было освободиться от влияния схемы, навязываемой официальным летописанием 50 – 70-х гг. XVI в.
Неудивительно, что оценки, данные «боярскому правлению» историографами конца XVIII – начала XIX в., по существу, мало чем отличались от приведенных выше летописных характеристик: бедствия, будто бы пережитые страной в 30 – 40-х гг. XVI в., объяснялись моральными качествами тогдашних правителей. Общим оставался и монархический взгляд на историю, вера в спасительность единовластия. «Тогда как внутри России, пользуяся младенчеством великого князя, мирские и духовные российские сановники старалися каждый честолюбие свое удовольствовать, – сообщал М. М. Щербатов, – разливающаяся повсюду слабость такового правления и происходящее от того неустройство ободряло врагов российских…»23 Описав дворцовые перевороты конца 1530-х гг., Н. М. Карамзин задавал риторический вопрос: «Среди таких волнений и беспокойств, производимых личным властолюбием бояр, правительство могло ли иметь надлежащую твердость, единство, неусыпность для внутреннего благоустройства и внешней безопасности?» Повторяя вслед за Грозным инвективы против Шуйских, историк противопоставлял их владычеству «благословенное господствование князя Бельского»24.
Там, где предшествующие историки видели лишь борьбу честолюбий, С. М. Соловьев, в русле своей общей концепции, усмотрел столкновение двух противоположных начал – родового и государственного. После смерти Елены Глинской, писал он, «в челе управления становятся люди, не сочувствовавшие стремлениям государей московских», люди, совершенно преданные удельной старине. «В стремлении к личным целям они разрознили свои интересы с интересом государственным, не сумели даже возвыситься до сознания сословного интереса». Своекорыстным поведением Шуйские, Бельские, Глинские лишили себя поддержки «земли» и в итоге «окончательно упрочили силу того начала, которому думали противодействовать во имя старых прав своих»25.
В своем лекционном курсе В. О. Ключевский повторил многие из этих выводов С. М. Соловьева, но по-другому расставил акценты: боярские усобицы в годы малолетства Ивана IV велись «из личных или фамильных счетов, а не за какой-либо государственный порядок». В результате авторитет бояр в глазах общества упал: «Все увидели, какая анархическая сила это боярство, если оно не сдерживается сильной рукой…» Однако каких-либо принципиальных перемен в тот период, по Ключевскому, не произошло: основное противоречие московской политической системы – между самодержавным государем и его аристократическим окружением – не получило тогда разрешения26.
Еще решительнее отсутствие каких-либо «принципиальных оснований боярской взаимной вражды» подчеркнул С. Ф. Платонов. «Все столкновения бояр, – писал историк, – представляются результатом личной или семейной вражды, а не борьбы партий или политических организованных кружков». В подтверждение своих слов он привел мнение «современника» (а на самом деле – летописца второй половины 50-х гг.) – уже знакомую нам фразу о «многих враждах» из-за корысти и о том, что «всяк своим печется, а не государьскым, ни земьсскым»27.
Так в историографии возникли два различных подхода к оценке «боярского правления»: большинство историков рассматривали его как период господства временщиков, боровшихся друг с другом за власть и беззастенчиво грабивших население; иной взгляд на эпоху был предложен С. М. Соловьевым, увидевшим за событиями 30 – 40-х гг. XVI в. глубинные исторические процессы.
Продолжателем «линии Соловьева» в трактовке эпохи малолетства Грозного выступил И. И. Смирнов. В статье 1935 г., а затем в книге 1958 г. историк, возражая против приведенной выше точки зрения Платонова, подчеркивал принципиальное политическое значение борьбы, разгоревшейся в 30 – 40-х гг. XVI в. при московском дворе. Смысл «боярского правления», по его мнению, заключался в «попытке феодальной реакции – княжат и бояр – задержать процесс строительства Русского централизованного государства путем разрушения аппарата власти и управления… и возрождения нравов и обычаев времен феодальной раздробленности»28.
Последний тезис вызвал возражения В. И. Буганова и В. Б. Кобрина, опубликовавших рецензии на книгу И. И. Смирнова, и А. А. Зимина – в его монографии о реформах середины XVI в. По мнению этих исследователей, в годы «боярского правления» речь уже не могла идти о возвращении ко времени феодальной раздробленности; соперничавшие между собой группировки стремились не к разрушению центрального аппарата государства, а к овладению им в своекорыстных интересах. Кроме того, если Смирнов считал реакционными все боярские группировки 1530 – 1540-х гг., то его оппоненты безоговорочно зачисляли в лагерь реакции только князей Шуйских, находя в политике их соперников Бельских некоторые, хотя и непоследовательные, централизаторские тенденции29.
Впрочем, степень этих разногласий не следует преувеличивать. Все участники дискуссии разделяли тезис о прогрессивности самодержавной централизации, которой противостояла феодальная аристократия. Как и Смирнов, Зимин писал о «временном торжестве княжеско-боярской реакции в малолетство Ивана Грозного»: именно такая оценка «боярского правления» содержалась в абсолютном большинстве работ по истории России XVI в., вышедших в 1940 – 1960-х гг.30
Сила историографической традиции оказалась столь велика, что оригинальные исследования, выполненные на основе нелетописных источников – губных и иммунитетных грамот, писцовых книг, дворянских челобитных – и высветившие новые стороны внутриполитической истории 1530 – 1540-х гг. – губную реформу (Н. Е. Носов), иммунитетную политику (С. М. Каштанов), поместное верстание (Г. В. Абрамович)31, внесли лишь некоторые коррективы в сложившуюся схему, но не привели к пересмотру ставшей уже привычной концепции «боярской реакции» в годы малолетства Грозного.
Пересмотр этой концепции стал возможен после того, как в работах А. А. Зимина, Н. Е. Носова, В. Б. Кобрина, вышедших в 1960 – 1980-х гг., был подвергнут ревизии тезис о борьбе прогрессивного дворянства против реакционного боярства, якобы противившегося централизации32. И вот в книге «Власть и собственность в средневековой России» В. Б. Кобрин констатировал бесплодность всех попыток найти различия в политических программах соперничавших друг с другом боярских группировок, как и попыток определить, какая из них «прогрессивнее», а какая – «реакционнее». По его мнению, в годы «боярского правления» шла просто «беспринципная борьба за власть»33. Но такой вывод означает, по сути, возвращение к точке зрения С. Ф. Платонова: историографический круг замкнулся!
С тех же позиций, что и Кобрин, подошел к оценке политической борьбы в 30-х гг. XVI в. А. Л. Юрганов: по его мнению, эта борьба носила характер личного и кланового противоборства34.
Подобные взгляды на природу придворных конфликтов изучаемой эпохи ранее уже высказывали зарубежные исследователи. В начале 1970-х гг. западногерманские историки Х. Рюс и П. Ниче подвергли серьезной критике господствовавший тогда в советской историографии тезис о «феодальной реакции», наступившей после смерти Василия III, и о борьбе сторонников и противников централизации как основном конфликте того времени. Взамен было предложено традиционное объяснение, четко сформулированное еще Платоновым: главными мотивами междоусобной борьбы 30 – 40-х гг. XVI в. объявлялись стремление к власти, алчность и честолюбие35.
Оригинальную трактовку событий «боярского правления» предложила американская исследовательница Н. Ш. Коллманн – автор монографии о формировании московской политической системы в XIV – первой половине XVI в. Вслед за Э. Кинаном она подчеркивает определяющую роль родства и брака в московской политике: конфликты внутри элиты возникали не из-за идеологических, религиозных и т.п. разногласий, а вследствие соперничества за первенство при дворе; политические группировки формировались на основе брачно-семейных связей, отношений зависимости и покровительства. Близость ко двору, а следовательно и роль в принятии политических решений, зависела от степени родства с великим князем: отсюда значение государевых свадеб, которые на поколение вперед закрепляли сложившуюся расстановку сил, определяя придворную иерархию. Во время малолетства Грозного бояре в течение 15 лет не могли прийти к согласию, пока Иван IV не достиг брачного возраста и женитьбой на Анастасии Захарьиной не восстановил утраченное было равновесие36.
В другой работе Коллманн отмечает, что летописи, повествующие о времени малолетства Ивана IV и приписывающие ему, ребенку, принятие всех решений, изображают не реальную, а идеальную картину политической жизни – какой ей следовало быть согласно идеологии. На самом деле, «за фасадом самодержавия» бояре играли важную политическую роль. Причем эпоха несовершеннолетия государя, подчеркивает американский историк, не являлась каким-то исключением, отклонением от политической системы: великий князь не был «самодержцем» в буквальном смысле слова, но разделял принятие решений с боярскими группировками, действовал в согласии с элитой37.
Предпринятая Коллманн попытка заглянуть за идеологический «фасад», отличить ритуал от действительности в жизни Московии XVI в., несомненно, заслуживает поддержки. Предложенная ею модель динамического равновесия, «баланса интересов» для объяснения механизма придворной борьбы эпохи «боярского правления» – шаг вперед в изучении темы по сравнению с традиционным обсуждением невысоких моральных качеств соперничавших между собой бояр. Вместе с тем ряд положений концепции, выдвинутой американской исследовательницей, вызывает принципиальные возражения. Главное из них состоит в том, что московское самодержавие проявлялось не только в идеологии, и государю в этой политической системе принадлежала куда более значительная роль, чем ритуально-представительские функции. Тезис о том, что бояре будто бы на равных с великим князем участвовали в процессе принятия решений, представляется совершенно необоснованным. В годы малолетства Ивана IV бояре действительно сосредоточили в своих руках высшую власть (хотя неправомерно, как это делает Коллманн38, исключать из сферы реальной политики влиятельных дьяков, дворецких, казначеев, а также митрополитов), но значит ли это, что политические отношения того времени являлись «нормальными», обычными и могут быть экстраполированы на весь период XV – XVI вв.? Скорее наоборот: обстановка 30 – 40-х гг. XVI в. может быть охарактеризована как экстремальная, кризисная. Обоснованию этого тезиса и посвящена данная книга.
В недавно опубликованной статье о малолетстве Ивана IV другой американский историк, Чарльз Гальперин, избрал в качестве отправной точки своего исследования парадокс, который ранее привлек внимание Коллманн: и летописи, и документы той эпохи изображают юного государя принимающим все важнейшие решения, несмотря на тот очевидный факт, что Иван был тогда ребенком. Ч. Гальперин, однако, привел многочисленные свидетельства того, что современники нисколько не заблуждались относительно истинного возраста великого князя39. По его мнению, их слова, приписывающие все решения государю, имели не буквальное, а символическое значение: в этом проявился «центральный элемент московской идеологии» – культ правителя, монополизация всей легитимной власти в лице монарха40.
Думается, однако, что затронутая здесь проблема не может быть сведена к идеологии, символике и монархическому культу. Разумеется, малолетство Ивана IV не было тайной ни для его подданных, ни для правителей соседних государств (собственно, никто из историков никогда не утверждал обратного!). Но важно понять, какие практические последствия имел этот очевидный факт: почему со смертью Василия III сразу возникла внутренняя нестабильность, а удельные братья покойного вдруг оказались в центре всеобщего внимания? Каковы были полномочия тех лиц, кто правил от имени юного Ивана IV, и было ли возможно регентство в стране, где, как полагает Гальперин, вся легитимная власть была сосредоточена в особе монарха? Иными словами, очень важен институциональный аспект проблемы, вопрос о делегировании власти и функциях государя в тогдашней политической системе – вопрос, который Гальперин в своем исследовании совершенно обходит стороной41.
В новейшей отечественной историографии заметна тенденция к некоторой «реабилитации» «боярского правления». Так, Р. Г. Скрынников отмечает, что, хотя борьба придворных группировок за власть носила ожесточенный характер, она «не сопровождалась ни феодальной анархией, ни массовыми репрессиями. Жертвами их стали немногие лица»42. Однако взамен отвергнутой концепции Соловьева – Смирнова в современной науке не предложено какого-либо нового комплексного объяснения событий 30 – 40-х гг. XVI в. В суждениях, высказываемых по данному поводу в новейшей литературе, эклектично соединяются старые и новые историографические представления: с одной стороны, как положительные явления оцениваются ликвидация уделов в 1530-е гг., проведение денежной и губной реформ, поместное верстание; с другой – в вину боярским правителям ставятся расхищение земель и государственных доходов и иные злоупотребления властью (В. Д. Назаров), безудержный произвол временщиков, расшатывание «элементарного порядка в стране» (В. М. Панеях). Само «боярское правление», как и прежде, представляется в виде череды сменявших друг друга у власти «с калейдоскопической быстротой» группировок43.
Итак, социологическая схема, противопоставлявшая «прогрессивные» силы централизации в лице великого князя и дворянства «реакционному» боярству, якобы мечтавшему о реставрации порядков удельной раздробленности, уже несколько десятилетий назад была отвергнута исторической наукой. Но и морализаторские оценки событий 1530 – 1540-х гг., преобладающие в современной литературе, также не приближают нас к пониманию изучаемой эпохи.
На мой взгляд, концептуальной основой для нового «прочтения» истории 30 – 40-х гг. XVI в. может служить понятие «политический кризис». В политологии это понятие используется для обозначения особого состояния политической системы, характеризующегося нестабильностью, разбалансированностью деятельности политических институтов, снижением уровня управляемости во всех сферах жизни общества и т.п.44 Применительно к рассматриваемой исторической эпохе данный термин уже не раз употреблялся исследователями45, но задача состоит в том, чтобы попытаться систематически описать проявления кризиса в сфере внутренней и внешней политики страны, определить его хронологические рамки и последствия.
2. Замысел исследования
Исходная гипотеза данного исследования состоит в том, что первопричиной возникшего в декабре 1533 г. кризиса власти явилась не пресловутая «злокозненность» бояр, как это изображалось в официальном летописании времен Ивана Грозного и в последующей историографии, а сам факт малолетства великого князя, наследовавшего умершему Василию III. Понятно, что ни в какую эпоху трехлетний ребенок не может лично управлять страной. Поэтому на первый план выдвигается вопрос: как могла функционировать монархия при недееспособном государе?
Здесь уместно напомнить, что с подобными проблемами сталкивалась не только Московия. Малолетний король на троне – явление, хорошо знакомое Европе эпохи Средневековья и начала Нового времени. По подсчетам французского историка Андре Корвизье, в XIII – XV вв. известен 31 случай вступления на престол несовершеннолетних монархов, что составляет 29,5 % всех коронаций того времени; в XVI – XVIII вв. таких случаев было 25 (из них 5 относятся к России), или 15 % всех коронаций46.
Регентство по причине малолетства короля – не только сравнительно частое, но и весьма продолжительное явление в истории некоторых европейских стран. Так, согласно данным, приведенным немецким историком права Армином Вольфом, в Кастилии конца XIII – начала XV в. из 124 лет (1295 – 1419) 55 пришлись на периоды регентства, а во Франции второй половины XIV – конца XV в. из 134 лет (1356 – 1490) регенты в общей сложности находились у власти в течение 51 года. Ну, а своего рода европейский рекорд здесь принадлежит Шотландии: в этой стране с 1406 по 1587 г. на протяжении шести поколений (из семи) на престол вступали малолетние короли47.
Таким образом, ситуацию, сложившуюся в Русском государстве с восшествием в декабре 1533 г. на великокняжеский престол трехлетнего Ивана IV, никак нельзя считать уникальной. Вместе с тем можно предположить, что в различных странах осуществление власти от имени малолетнего государя имело свою специфику. К сожалению, в России не сложилось ни исторической, ни историко-правовой традиции изучения института регентства. Европейский опыт, где такая традиция есть48, способен «подсказать» нам некоторые важные вопросы, которые заслуживают изучения: регулировались ли полномочия регента какими-либо правовыми нормами, как это было в Священной Римской империи (применительно к курфюрстам) со времен Золотой буллы (1356) или во Франции со времен ордонансов 1374 – 1393 гг.?49 И в частности, мог ли регент издавать какие-либо официальные акты от своего имени, а не от имени малолетнего монарха?
Однако вопрос о полномочиях регента – это лишь часть более общей проблемы делегирования власти в российской монархии эпохи позднего Средневековья. Из-за скудости источников до сих пор остается неясным, как распределялись функции между государем и его советниками в Московии XVI в. Характерны признания современных исследователей о том, что личная роль царя в проведении преобразований 1550-х гг. не поддается определению50. Но применительно к 30 – 40-м подобной загадки не возникает: юный государь, будучи ребенком, а затем подростком, не мог играть какой-либо самостоятельной роли в управлении страной, за исключением осуществления представительских функций (в частности, приема послов). Следовательно, реальные рычаги власти находились в руках других лиц, стоявших у трона. Изучение механизма принятия решений в годы малолетства Ивана IV, с одной стороны, и управленческой рутины, с другой стороны, – одна из задач настоящего исследования.
Таким образом, предлагаемая работа задумана в русле институциональной, или «конституционной», истории (constitutional history, Verfassungsgeschichte). Ограничивая хронологические рамки исследования сравнительно коротким периодом (примерно 15 лет – с декабря 1533 до конца 1548 г.), я стремился через детальный анализ придворной борьбы и практики управления понять некоторые важнейшие особенности устройства и функционирования русской позднесредневековой монархии.
В отличие от привычного институционального подхода, ассоциируемого с наследием знаменитой юридической школы и изучением государственных учреждений, в данном исследовании большое внимание уделено политической культуре описываемой эпохи, т.е. представлениям людей того времени о власти и неписаным правилам поведения, существовавшим в придворном обществе51. Поэтому можно, скорее, говорить о неоинституциональном подходе52, который позволяет поместить изучаемые политические структуры в определенный социокультурный контекст и тем самым избежать ненужной модернизации реалий XVI в. и неоправданных параллелей с институтами власти Нового и Новейшего времени.
В соответствии с изложенным выше замыслом исследования, предлагаемая книга состоит из двух частей. В первой части анализируются перипетии борьбы за власть при московском дворе в 30 – 40-х гг. XVI в., которая рассматривается как одно из проявлений острого политического кризиса, вызванного фактической недееспособностью государя. Выделяются отдельные фазы кризиса, уточняются его хронологические рамки. Во второй части работы изучается механизм центрального управления «при боярах»: ставится вопрос о разграничении функций между государем и его советниками-боярами, анализируется персональный состав и компетенция дворцовых учреждений, Казны и дьяческого аппарата. Заключительные главы книги посвящены изучению направлений внутренней политики 30 – 40-х гг. XVI в. и ее связи с предшествующей и последующей эпохами.
3. Источники
В ходе исследования была предпринята попытка учесть все известные в настоящее время материалы, относящиеся к истории 30 – 40-х гг. XVI в., как опубликованные, так и архивные. С этой целью были проведены разыскания в архивохранилищах Москвы, Петербурга и Вологды; изучены также отдельные коллекции документов в Главном архиве древних актов в Варшаве, Ягеллонской библиотеке (Краков) и Тайном государственном архиве Прусского культурного наследия (Берлин).
Что касается видов использованных источников, то каждая часть книги имеет свою специфику. Первая – событийная – часть исследования построена главным образом на нарративных источниках; вторая часть, которая посвящена структурам центрального управления, основана на актовом материале.
Незаменимым источником информации о перипетиях борьбы за власть при московском дворе в изучаемую эпоху остаются летописи. Выше уже были упомянуты два крупнейших официальных памятника, в которых отразились события «боярского правления»: Воскресенская летопись (повествование в ней обрывается на 1541 г.) и Летописец начала царства. Оба произведения очень тенденциозны, что порой ставит историка в сложное положение, особенно в тех случаях, когда указанные летописи прямо противоречат друг другу (как, например, в рассказе об аресте удельного князя Юрия Дмитровского), а иных источников информации нет. К счастью, подобные ситуации возникают нечасто, поскольку ключевые эпизоды 30 – 40-х гг. XVI в. отразились не в одном-двух, а в трех-четырех различных летописных текстах, что дает возможность для сопоставлений и необходимых корректировок. Особо нужно подчеркнуть значение сравнительно раннего (конец 1540-х гг.) и хорошо осведомленного о придворной жизни Постниковского летописца. Ценны и свидетельства новгородских и псковских летописей, которые представляют ряд эпизодов совершенно в ином свете, чем официальное московское летописание.
От царского архива XVI в. до нашего времени дошли только отдельные фрагменты, но среди сохранившихся дел есть настоящие жемчужины, как, например, челобитная Ивана Яганова, тайного осведомителя великого князя при удельном Дмитровском дворе, написанная на имя юного Ивана IV в первой половине 1534 г.53 В том же ряду нужно упомянуть комплекс документов, относящихся к переговорам великой княгини Елены Глинской и митрополита Даниила с удельным князем Андреем Ивановичем весной 1537 г., накануне Старицкого «мятежа»; часть этих грамот остается неопубликованной54.
Тайны московского двора живо интересовали соседей Русского государства, поэтому немало сведений о политической жизни России 30 – 40-х гг. сохранилось в источниках иностранного происхождения. Они, в частности, проливают новый свет на персональный состав опекунского совета при юном Иване IV в первые месяцы после смерти его отца, Василия III, и прямо говорят об особой близости правительницы Елены Глинской с боярином кн. И. Ф. Овчиной Оболенским, о чем русские источники предпочитают деликатно умалчивать55. Весьма информативны также показания перебежчиков о расстановке сил при московском дворе летом 1534 г., отложившиеся в архиве тогдашнего литовского гетмана Юрия Радзивилла56.
Разумеется, многие слухи о событиях в Московии, которые пересказывали друг другу польские и литовские сановники и которые узнавал от своих виленских корреспондентов прусский герцог Альбрехт57, на поверку оказываются недостоверными. Но и они представляют несомненный интерес для исследователя как источник для изучения настроений и ожиданий, существовавших в русском обществе в тот или иной момент на протяжении 1530 – 1540-х гг.
Ключевое значение для исследования центрального правительственного аппарата и его функций имеют официальные акты. Их систематическое изучение применительно к описываемой эпохе было начато С. М. Каштановым; им же в 1958 г. впервые опубликован хронологический перечень иммунитетных грамот 1506 – 1548 гг.58 В результате усилий нескольких поколений ученых за полвека, прошедшие со времени публикации этого перечня, были выявлены, каталогизированы и частично изданы многие десятки грамот периода «боярского правления»59. Эта работа была продолжена в ходе настоящего исследования; в итоге на сегодняшний день удалось учесть более 500 жалованных и указных грамот, выданных от имени Ивана IV в 1534 – 1548 гг. (каталог этих документов помещен в Приложении I к данной книге).
Хотя все официальные акты издавались от государева имени, исследователь может по упоминаниям в тексте, особенностям формуляра и пометам на обороте грамоты установить, какое должностное лицо на самом деле распорядилось выдать данный документ. Это дает возможность судить о роли того или иного сановника в повседневном управлении, а также о распределении функций между ведомствами (например, между Казной и дворцами)60.
Особенно велики информативные возможности так называемых несудимых грамот, которые предоставляли землевладельцам иммунитет от суда местных властей (наместников и волостелей) и подчиняли их суду только высшей инстанции. Наблюдения над формуляром грамот этого типа позволяют уточнить юрисдикцию разных должностных лиц (бояр, казначеев, дворецких), а также внести ряд коррективов в привычные представления о губной реформе конца 30 – 40-х гг. XVI в.
Для просопографических штудий, т.е. изучения карьер бояр, дворецких, казначеев и дьяков исследуемого периода, важнейшим источником наряду с актовым материалом служат разрядные книги61, в которых отмечались воеводские назначения и довольно точно (по сравнению с другими источниками) указывались придворные чины. Ценную информацию о положении того или иного сановника при дворе можно почерпнуть в посольских книгах, в которых помещались списки лиц, присутствовавших на дипломатических приемах62. Для уточнения даты смерти интересующих нас лиц первостепенное значение имеют записи в монастырских вкладных книгах, особенно в Троицкой книге, в которой фиксировались точные даты вкладов, в том числе – поминальных63.
В своей совокупности охарактеризованные выше источники составляют надежную основу для изучения поставленных в данном исследовании проблем64.
Часть I
КРИЗИС ВЛАСТИ И БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ В 1530 – 1540-Х ГГ
Глава 1
ЗАВЕЩАНИЕ ВАСИЛИЯ III И УЧРЕЖДЕНИЕ ОПЕКИ НАД МАЛОЛЕТНИМ ИВАНОМ IV
Великий князь всея Руси Василий Иванович умер в ночь с 3-го на 4-е декабря 1533 г. Его старшему сыну и наследнику Ивану (будущему Ивану Грозному) было в ту пору три года от роду; второй сын Юрий едва достиг годовалого возраста. Кому же государь вручил перед смертью бразды правления и доверил опеку над своей семьей?
Завещание Василия III не сохранилось. Исследователи приложили немало усилий, пытаясь выяснить его последнюю волю. Имеющиеся летописные свидетельства оставляют простор для различных интерпретаций событий поздней осени 1533 г.
Воскресенская летопись, памятник официального московского летописания 40-х гг. XVI в., кратко излагая предсмертные распоряжения Василия III, основную роль в них отводит митрополиту Даниилу и великой княгине Елене: благословив крестом сначала старшего сына, а затем младшего, государь «приказывает великую княгиню и дети своя отцу своему Данилу митрополиту; а великой княгине Елене приказывает под сыном своим государьство дръжати до возмужениа сына своего»65.
В памятнике середины 1550-х гг., Летописце начала царства (долгое время его текст был известен исследователям в более поздней редакции в составе Никоновской летописи), высоким слогом описывается передача Василием III опеки над детьми и всей полноты власти великой княгине Елене, которая сравнивается с киевской княгиней Ольгой (в крещении – Еленой): «А приказывает великой княгине Елене свои дети и престол области державствовати скипетр великия Руси до возмужения сына своего, ведаше бо ея великий государь боголюбиву и милостиву, тиху и праведливу, мудру и мужествену, и всякого царьского разума исполнено сердце ея… яко во всем уподобися великой и благочестивой царице Елене – изспрародительницы русской великой княгине Ольге, нареченной во святом крещение Елене. И князь великий полагает на ней все правъление великого государства многаго ради разума по подобию и по достоинству и богом избранну царьского правления»66.
В 1560-х гг. панегирик Елене, которой якобы великий князь завещал «державствовати и по Бозе устраяти и разсужати» до возмужания сына «вся же правления Росийскаго царствия», был включен в Степенную книгу67, а позднее (в еще более пышной и пространной форме) – в Царственную книгу68.
Эта возникшая под пером московских книжников середины XVI в. версия событий создавала иллюзию естественного и непосредственного перехода от великого княжения Василия III к правлению его жены; при этом драматический период конца 1533 – первой половины 1534 г., когда Елена должна была делить власть с назначенными мужем опекунами, как бы вычеркивался из истории.
Однако в распоряжении исследователей есть и другие свидетельства о событиях декабря 1533 г. Так, по сообщению сравнительно ранней Псковской I летописи (составлена в конце 1540-х гг.), Василий III «приказа великое княжение сыну своему большому князю Ивану, и нарече его сам при своем животе великим князем; и приказа его беречи до 15 лет своим бояром немногим»69.
Кроме того, еще В. Н. Татищеву70 был известен другой, гораздо более подробный рассказ о последних распоряжениях великого князя: вошедшая в состав ряда летописей Повесть о болезни и смерти Василия III содержала обстоятельное, день за днем, описание совещаний, происходивших у постели умирающего государя, с перечислением всех присутствовавших там лиц. При этом положение великой княгини, каким оно показано в Повести, разительно отличается от характерной для официального летописания 1540 – 1550-х гг. трогательной картины передачи власти умирающим государем своей мудрой супруге.
Однако источниковедческое изучение Повести началось только в XX в. Историки конца XVIII – XIX в. подробно цитировали этот памятник при описании последних дней жизни Василия III, но при этом не сомневались в том, что сразу после смерти Василия III опека над его сыновьями и бразды правления перешли в руки вдовы великого князя, Елены Васильевны Глинской71. Эта уверенность основывалась не столько на анализе конкретных летописных свидетельств о предсмертных распоряжениях государя, сколько на общих соображениях о традиции передачи власти в Древней Руси.
От внимания С. М. Соловьева не укрылось то обстоятельство, что в цитируемой им летописной Повести нет прямых указаний на передачу власти умирающим своей супруге. Но ученый нашел этому объяснение, ссылаясь на Русскую Правду и «важное значение матери» в княжеских семьях в последующий период: «…следовательно, – писал Соловьев, – по смерти Василия опека над малолетним Иоанном и управление великим княжеством естественно принадлежали великой княгине – вдове Елене. Это делалось по обычаю, всеми признанному, подразумевающемуся, и потому в подробном описании кончины Василия среди подробных известий о последних словах его и распоряжениях не говорится прямо о том, чтоб великий князь назначил жену свою правительницею…»72 Тем не менее косвенное подтверждение своей точки зрения историк нашел в словах летописца о наказе, данном Василием III незадолго до смерти ближайшим советникам (кн. М. Л. Глинскому, М. Ю. Захарьину и И. Ю. Шигоне), – о великой княгине Елене, как ей без него быть и как к ней боярам ходить. По мнению С. М. Соловьева, «последние слова о боярском хождении мы должны принимать, как прямо относящиеся к правительственному значению Елены, должны видеть здесь хождение с докладами»73.
Лишь на рубеже XIX – XX вв. исследователи уделили более пристальное внимание Повести о смерти Василия III как источнику сведений о не дошедшем до нас завещании великого князя. Основываясь на тексте этого памятника, В. И. Сергеевич высказал предположение, что государь назначил правителями «десять советников, приглашенных к составлению духовной и к выслушиванию последних приказаний великого князя»74. Так возникла версия о существовании особого регентского совета при малолетнем Иване IV.
Эту версию подробно развил А. Е. Пресняков в статье о судьбе не дошедшего до нас завещания Василия III. В основе этой работы, не утратившей до сих пор своего научного значения, лежит тщательный источниковедческий анализ летописных текстов о кончине великого князя. Вопреки утверждениям Никоновской летописи, считает исследователь, Василий III не возложил на жену «все правление великого государства»; в своих предсмертных распоряжениях он указал «подробную программу ведения дел» и определил состав лиц, которым завещал наблюдение над выполнением своих предначертаний75.
Тогда посла стряпчего своего Якова Мансурова и дияка своего введеного Меньшого Путятина к Москве тайно по духовные грамоты деда своего и отца своего, а на Москве не повеле того сказати ни митрополиту, ни бояром. Яков же Мансуров и Меньшой Путятин приехаша с Москвы вскоре и привезоша духовные деда его и отца его, великого князя Иоанна, тайно, от всех людей и от великие княгини крыющеся…76
В послевоенные десятилетия изучение летописной Повести и содержащейся в ней информации о последних распоряжениях Василия III было продолжено. Свое мнение по этому вопросу высказали А. А. Зимин, И. И. Смирнов, Х. Рюс, П. Ниче, Р. Г. Скрынников, С. А. Морозов, А. Л. Юрганов и другие историки. За исключением Рюса, вернувшегося к высказанной в свое время С. М. Соловьевым точке зрения о передаче Василием III власти непосредственно великой княгине Елене77, остальные исследователи полагают, что сразу после смерти государя власть перешла к созданному им опекунскому (регентскому) совету. Однако до сих пор ученые не могут прийти к единому мнению ни о численности этого совета (по разным оценкам, в него входило от двух до десяти человек!), ни о его персональном составе. Разбор высказанных точек зрения и приведенных исследователями аргументов будет приведен ниже. Но для того, чтобы понять, как текст одного источника мог послужить основой для столь различных мнений ученых, необходимо подробнее изучить сам памятник – Повесть о смерти Василия III.
1. Повесть о смерти Василия III: вопрос о первоначальной редакции
Детальный анализ летописной Повести о смерти Василия III, ее литературной композиции и основных редакций проведен С. А. Морозовым78. Повесть представляет собой выдающийся памятник русской литературы XVI в., а вместе с тем – ценнейший источник для изучения обстановки при московском дворе в момент перехода престола от Василия III к его малолетнему сыну Ивану.
Великий князь заболел внезапно в конце сентября 1533 г. во время поездки на охоту на Волок Ламский. Автор повести подробно описывает физическое и душевное состояние государя с момента появления первых признаков болезни до последних минут жизни великого князя. Действие Повести разворачивается как бы в двух планах: с одной стороны, для летописца очень важен религиозный аспект происходящего; он подчеркивает благочестие умирающего государя. Забота о спасении души, приготовлении к монашескому постригу, различная реакция приближенных Василия III на это намерение государя (часть присутствующих его одобряет, другая часть пытается этому воспрепятствовать) – одна из важнейших сюжетных линий рассказа. С другой стороны, неизвестный нам по имени автор Повести (ни одну из предпринятых до сих пор попыток установить авторство этого произведения нельзя признать убедительной)79 обнаруживает прекрасное знание придворной среды, для которой так много значила близость к особе государя. Поэтому летописец так скрупулезно отмечает, кто сопровождал великого князя во время его последней поездки, с кем советовался государь, кому какие распоряжения отдавал. Это внимание к персоналиям было продиктовано, вероятно, столкновением местнических интересов придворной верхушки в критический момент передачи верховной власти. И именно местнический интерес, стремление подчеркнуть близость тех или иных лиц к умирающему государю скрываются, на мой взгляд, за редакторской правкой в дошедших до нас текстах Повести.
По данным Морозова, всего на сегодняшний день известно 15 списков Повести. Однако только три из них – в составе Новгородской летописи по списку Дубровского, Софийской II летописи и Постниковского летописца – отражают раннюю редакцию этого памятника. Несколько летописей содержат сокращенный текст Повести (Воскресенская, Никоновская, Летописец начала царства, Степенная книга). Остальные сохранившиеся тексты воспроизводят (с той или иной степенью переработки) пространную редакцию памятника по списку Дубровского80.
Оставляя в стороне позднейшие переделки и сокращения памятника, сосредоточим наше внимание на ранней редакции Повести. Она известна в двух версиях: одна из них отразилась в Новгородской летописи по списку Дубровского (далее – Дубр.), другая – в Софийской II летописи (далее – Соф.) и Постниковском летописце (далее – Пост.). По мнению Морозова, тексты Повести в Соф. и Пост. восходят к общему протографу, который более полно отразился в Пост.81
Какая же из двух указанных версий ближе к первоначальной редакции и точнее передает суть событий, происходивших осенью 1533 г.?
А. А. Шахматов считал более ранней и первичной по отношению к Соф. версию Повести в составе Новгородского свода (списка Дубровского)82. По осторожному предположению А. Е. Преснякова, ни один из сохранившихся списков точно и полностью не передает первоначального текста памятника83. А. А. Зимин принял точку зрения А. А. Шахматова о том, что текст «сказания» о смерти Василия III, написанный современником, сохранился в Новгородском своде, а позднее в Соф. подвергся редактированию; однако при этом ученый сделал оговорку, отметив, что и этот отредактированный вариант (т.е. Соф.) «сохранил черты первоначального текста», утраченные в Дубр.84
Морозов полностью поддержал мнение Шахматова о первичности текста Повести в Дубр., по сравнению с Соф. и Пост., и привел новые доводы в пользу этой точки зрения85. Я. С. Лурье с некоторой осторожностью («возможно») также согласился с таким взглядом на соотношение основных списков интересующего нас памятника86.
В опубликованной более десяти лет назад статье автор этих строк, не проводя самостоятельного исследования текста Повести, присоединился к указанному мнению Шахматова и Морозова87, однако в ходе дальнейшей работы над темой у меня появились серьезные сомнения в обоснованности этой точки зрения.
Между тем в литературе существуют и иные представления о соотношении двух основных версий ранней редакции Повести. В частности, Х. Рюс и Р. Г. Скрынников независимо друг от друга пришли к выводу о том, что обращение великого князя Василия к князю Д. Ф. Бельскому с «братией», которое читается только в Дубр., является более поздней тенденциозной вставкой88. По мнению Скрынникова, текст Повести наиболее точно воспроизведен в Постниковском летописце, составленном очевидцем – дьяком Постником Губиным Моклоковым89.
Тогда же князь велики посла к Москве по старца своего по Мисаила по Сукина; болезнь же его тяшка бысть; и посла по боярина своего по Михаила по Юрьевича. Старец же его Мисаило и боярин его Михаило Юрьевич вскоре к нему приехаша…90
Как уже говорилось выше, имеющиеся в нашем распоряжении тексты не позволяют с уверенностью судить об авторстве Повести. Едва ли дьяк Федор Постник Никитич Губин Моклоков мог быть «очевидцем» последних дней жизни Василия III, так как в источниках он упоминается только с 1542 г.91: вероятно, в 1533 г. Постник был еще слишком молод, чтобы входить в ближайшее окружение великого князя. К тому же, как показал Морозов, так называемый Постниковский летописец представляет собой выписку из летописи, а не законченное целостное произведение92.
Вместе с тем указанный Рюсом и Скрынниковым пример тенденциозной вставки в тексте Повести по списку Дубровского, несомненно, заслуживает внимания. Важно также учесть наблюдения Н. С. Демковой, отметившей «литературность» текста Повести в Дубр., стремление его составителя «сгладить элементы непосредственной фиксации речей и действий исторических лиц, присущие начальному авторскому тексту», лучше сохранившемуся в ряде фрагментов Соф. и Пост.93
Для проверки высказанных учеными предположений относительно первоначальной редакции памятника обратимся к текстам Повести в составе трех указанных выше летописей. При этом основное внимание будет сосредоточено на тех эпизодах, которые относятся к составлению завещания Василия III и к установлению опеки над его малолетним наследником.
Существенные различия между текстами Повести обнаруживаются уже при изложении первых важных распоряжений государя, осознавшего опасный характер своей болезни: Василий III, находившийся в селе Колпь, тайно послал стряпчего Якова Мансурова и дьяка Меньшого Путятина в Москву за духовными грамотами, по одной версии (Соф./Пост.) – своего отца (Ивана III) и своей; выслушав грамоты, свою духовную великий князь велел сжечь; по другой версии (Дубр.), государь посылал «по духовные грамоты» деда (т.е. Василия II) и отца, каковые и были тайно к нему привезены. Ср.:
* ПСРЛ. Т. 34. С. 18; Т. 6. С. 268.
** Цитирую по новейшему изданию: Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского (ПСРЛ. Т. 43) / Подгот. текста О. Л. Новиковой. М., 2004. С. 226.
Эти разночтения стали предметом продолжительной научной дискуссии. А. А. Шахматов обратил внимание на то, что в Соф. (Пост. тогда еще не был введен в научный оборот) сначала сообщается о сожжении в пятницу Василием III своей духовной, а затем говорится о том, что в субботу великий князь велел Меньшому Путятину тайно принести духовные грамоты «и пусти в думу к себе к духовным грамотам дворецкого своего тферскаго Ивана Юрьевича Шигону и дьяка своего Меншого Путятина, и нача мыслити князь велики, кого пустити в ту думу и приказати свой государев приказ»94. Но если работа над составлением завещания началась только в субботу, то, по мнению Шахматова, предшествующее сообщение Соф. о сожжении великим князем своей первой духовной грамоты является позднейшей вставкой, а первоначальную редакцию Повести точнее передает текст Дубр.95
А. Е. Пресняков попытался примирить обе версии рассказа: он предположил, что по приказу Василия III на Волок были доставлены духовные грамоты его деда (Василия II), отца (Ивана III) и его собственная, а затем все три были уничтожены. «Такое деяние, смутившее позднейших летописателей, – считает ученый, – побудило их сперва ограничить известие [имеется в виду версия Соф. – Пост., где упоминается только о сожжении одной грамоты – самого Василия III. – М. К.], а затем и вовсе его выкинуть из текста»96. Однако эту попытку объединить противоречащие друг другу известия нельзя признать удачной.
Как показал А. А. Зимин, нет никаких оснований считать, что завещания Василия II и Ивана III были уничтожены97. Эти духовные грамоты до нас дошли (первая – в подлиннике, вторая – в списке начала XVI в.)98. Зимин считал, что первоначален именно текст Соф. и что уничтожена была первая духовная грамота Василия III, составленная в конце 1509 г.99 Что же касается аргументов Шахматова, то Зимин отводил их на том основании, что духовная Василия III вполне могла быть уничтожена еще в пятницу на тайном совещании великого князя с М. Путятиным и И. Ю. Шигоной, до начала субботнего обсуждения вопроса о завещании с боярами100.
Морозов, комментируя данный эпизод, поддержал точку зрения Шахматова и привел еще один довод в пользу первичности версии Дубр.: по его наблюдениям, в текстах Соф. и Пост. духовные грамоты, которые великий князь распорядился привезти, упоминаются неизменно только во множественном числе, даже после сообщения о сожжении прежней грамоты Василия Ивановича. На этом основании исследователь пришел к выводу, что данный текст в протографе Соф. и Пост. восходил к редакции Повести, отразившейся в Дубр.101 Считая упоминание о духовной Василия III и об ее уничтожении редакторской вставкой, Морозов, однако, посчитал необходимым сделать оговорку о том, что он не оспаривает ни факт существования первой духовной Василия III, ни возможность ее уничтожения в 1533 г.; просто, по его мнению, эта информация осталась неизвестной составителю текста Повести в Новгородском своде (Дубр.), но могла быть доступна редактору протографа Соф. и Пост.102
Получается, если принять точку зрения Морозова, что составитель первоначальной редакции Повести, отразившейся, по мнению ученого, в Дубр., не знал точно, за какими именно грамотами посылал в Москву Василий III; позднее редактор-составитель протографа Повести в Соф. и Пост. каким-то образом проник в тайну, известную только самому узкому кругу приближенных великого князя, и внес соответствующую правку в текст. С такой интерпретацией невозможно согласиться.
Во-первых, соотношение двух летописных версий упомянутого эпизода могло быть обратным тому, которое предположили Шахматов и Морозов. Дело в том, что в Соф. и Пост. слово «грамоты» во множественном числе употреблено применительно к духовным Ивана III: великий князь послал стряпчего Якова Мансурова и дьяка Меньшого Путятина «по духовные грамоты отца своего и по свою»; и ниже: Мансуров и Путятин «привезошя духовные отца его и ево»103 (выделено мной. – М. К.). Можно предположить, что речь шла не только об известной нам в списке начала XVI в. духовной Ивана III 1504 г.104, но и о каком-то другом документе, например – духовной записи, составленной в дополнение к завещанию. Практика подобных записей-дополнений к духовной грамоте существовала в XV – начале XVI в.105 Можно предложить и другой вариант объяснения. Дело в том, что наряду с завещанием Ивана III до нас дошел целый ряд грамот (данная, отводная, разъезжие), которыми оформлялись сделанные великим князем в конце жизни пожалования своим младшим сыновьям Юрию, Дмитрию, Семену и Андрею на дворы в Москве, а также Юрию – на города Кашин, Дмитров, Рузу и Звенигород106. Естественно предположить, что весь этот комплекс грамот, касавшихся разграничения великокняжеского «домена» с владениями удельных князей, был затребован Василием III в 1533 г. вместе с завещанием его отца. Возможно, летописец обобщенно назвал все грамоты 1504 г., составлявшие вместе с собственно завещанием Ивана III его наследие, «духовными» отца великого князя Василия. Если это предположение верно, то отпадает основной аргумент Морозова, на котором строится тезис о вторичности версии Пост./Соф. по отношению к Дубр.
Во-вторых, умолчание составителя Дубр. о судьбе первого завещания Василия III едва ли можно объяснить неосведомленностью летописца, как это представляется Морозову. Скорее мы имеем здесь дело с целенаправленной и тенденциозной редакторской правкой: желая скрыть факт сожжения великим князем своей первой духовной, составитель Дубр. предпочел вообще не упоминать о ее существовании, а чтобы слово «грамоты» по-прежнему можно было употреблять в тексте во множественном числе, добавил ссылку на духовную деда великого князя (хотя осенью 1533 г. обращение к завещанию Василия II выглядело бы странным анахронизмом: этот документ к тому времени давно уже утратил актуальность).
О возможных мотивах подобного умолчания вполне убедительно писал еще А. Е. Пресняков: «деяние, смутившее позднейших летописателей» – так, по его мнению, уже приведенному мною выше, должен был восприниматься факт уничтожения великим князем своей духовной. В этой связи заслуживает внимания предположение Н. С. Демковой о том, что хроника болезни и смерти Василия III создавалась как подготовительный материал для будущего жития; причем соответствующая литературная стилизация особенно характерна для текста Повести в составе Дубр. Именно этот текст, как отмечает исследовательница, был включен в Великие Минеи-Четии митрополита Макария107.
Таким образом, есть основания полагать, что редакция интересующего нас эпизода в Дубр. – это пример подобной правки, имевшей целью устранение из текста чересчур реалистичных деталей, не соответствовавших канону житийной литературы. Другие подобные примеры будут приведены ниже.
Как только духовные грамоты были доставлены на Волок к великому князю, состоялось первое отмеченное летописцем совещание («дума») государя с наиболее доверенными лицами: в ночь с субботы на воскресенье 25 – 26 октября («против Дмитриева дня») Василий III советовался с дьяком Г. Н. Меньшим Путятиным и дворецким И. Ю. Шигоной о том, кого еще пригласить к составлению духовной. Летописец перечисляет бояр, бывших в то время с великим князем на Волоке: князья Дмитрий Федорович Бельский, Иван Васильевич Шуйский, Михаил Львович Глинский, дворецкие кн. Иван Иванович Кубенский и Иван Юрьевич Шигона108.
И вы, брате, постойте крепко, чтоб мой сын учинился на государьстве государь и чтоб была в земле правда; да приказываю вам своих сестричичев, князя Дмитрия Феодоровича Белского з братиею и князя Михаила Лвовича Глинского, занеже князь Михайло по жене моей мне племя, чтобы есте были вопче, дела бы есте делали за один; а вы бы, мои сестричичи князь Дмитрей з братьею, о ратных делех и о земском строение стояли за один, а сыну бы есте моему служили прямо; а ты б, князь Михайло Глинской, за моего сына князя Иванна, и за мою великую княгиню Елену, и за моего сына князя Юрья кровь свою пролиял и тело свое на раздробление дал109.
Приведенный эпизод одинаково изложен во всех трех летописях, далее, однако, начинаются разночтения. В Пост. и Соф. затем рассказывается о посылке по приказу великого князя в Москву за боярином Михаилом Юрьевичем Захарьиным, который вскоре приехал на Волок. В Дубр. же говорится о посылке за старцем Мисаилом Сукиным и боярином М. Ю. Захарьиным; ср.:
* ПСРЛ. Т. 6. С. 268; Т. 34. С. 19.
** ПСРЛ. Т. 43. С. 226.
Обращает на себя внимание тот факт, что в Пост. в известии о приезде на Волок боярина М. Ю. Захарьина глагол стоит во множественном числе прошедшего времени («приехашя»), как будто речь шла о прибытии нескольких лиц. Подобная непоследовательность в употреблении глагольных форм, по наблюдению С. А. Морозова, характерна для текста Повести по списку Пост. и встречается как раз в тех местах, где текст первоисточника подвергся редакторской правке; в Соф. эти глагольные формы приведены в соответствие c существительными, т.е. следы правки устранены110. Действительно, в данном случае мы, по-видимому, имеем дело с редакторской правкой в Пост./Соф., в результате которой известие о приезде на Волок к великому князю старца Мисаила Сукина было устранено из первоначального текста Повести. Что старец Мисаил действительно был на Волоке с великим князем, явствует из последующего упоминания, которое читается не только в Дубр., но и в Пост./Соф.: «Еще же бе князь велики на Волоци, приказал отцу своему духовному протопопу Алексию да старцу Мисаилу Сукину, чтобы есте того не учинили, что вам мене положити в белом платье…»111 (выделено мной. – М. К.).
В следующем совещании – о том, как великому князю ехать к Москве, – участвовали все бояре и дьяки, сопровождавшие государя. Поскольку бояре, находившиеся с Василием III на Волоке, были уже перечислены выше, летописец в Соф. и Пост. говорит о них обобщенно: «И нача мыслити князь велики с бояры своими, которые с ним», зато дьяков называет поименно: Елизар Цыплятев, Афанасий Курицын, Меньшой Путятин, Третьяк Раков112.
А. Е. Пресняков, а вслед за ним С. А. Морозов усмотрели здесь редакторскую правку составителя версии Пост./Соф.: по мнению названных ученых, в первоначальном тексте Повести список бояр, сопровождавших великого князя, был приведен полностью дважды (до и после приезда М. Ю. Захарьина) – так, как читается в Дубр. и других списках, – а редактор Пост./Соф. сократил этот перечень, впрочем, без какого-либо политического умысла113. Однако с неменьшей вероятностью можно предположить обратное соотношение этих редакций, а именно что к первоначальному тексту ближе вариант Пост./Соф., в то время как в Дубр. сделана позднейшая вставка.
Присмотримся внимательнее к изложению данного эпизода в списке Дубр. Помещенный там текст гласит: «…и нача мыслити князь велики з бояры, а тогда бысть у него бояр: князь Дмитрей Федорович Белской, и князь Васильевич [так! – М. К.] Шуйской, и Михаил Юрьевич, да князь Михайло Лвович Глинской, и дворецкие его князь Иван Иванович Кубенской, Иван Юрьевич Шигона, и дьяки его Григорей Меншой Путятин и Елизар Цыплятев, Афонасей Курицын, Третьяк Раков»114. Летописец продублировал содержавшийся выше список бояр, сопровождавших Василия III на Волоке, и добавил к этому перечню приехавшего из Москвы М. Ю. Захарьина, но при этом почему-то пропустил имя князя Ивана Васильевича Шуйского, указав только отчество и родовое прозвание. Этот пропуск трудно объяснить, если считать, что составитель Дубр. просто копировал имевшийся у него оригинальный текст Повести. Едва ли в данном случае имела место механическая описка, поскольку, как мы увидим в дальнейшем, составитель Дубр. путал между собой двух братьев Шуйских – Ивана и Василия. Поэтому наиболее вероятным представляется следующее объяснение приведенного пассажа. Вполне возможно, что в первоначальном тексте действительно стояла фраза: «И нача мыслити князь велики с бояры своими, которые с ним». Но составитель или редактор Дубр., проявлявший, как явствует из его текста, особое внимание к придворной иерархии, посчитал такое общее упоминание бояр недостаточным: действительно, при такой редакции текста не совсем ясно, принял ли участие в совещании срочно приехавший из Москвы боярин М. Ю. Захарьин. Составитель Дубр. постарался устранить всякую неясность в этом важном (по местническим соображениям) вопросе и повторил уже известный список бояр, добавив к нему М. Ю. Захарьина; но не зная точно, какой из братьев Шуйских участвовал в той «думе» на Волоке, он написал его просто без имени.
Результатом упомянутого совещания стал «приговор» великого князя с боярами о поездке на богомолье в Иосифо-Волоколамский монастырь. Помолившись в этой обители, государь направился к столице, делая частые остановки из-за мучившей его болезни. В селе Воробьеве великого князя посетили церковные иерархи во главе с митрополитом Даниилом, а также бояре, остававшиеся осенью в Москве (кн. Василий Васильевич Шуйский, Михаил Семенович Воронцов и казначей Петр Иванович Головин), и многие дети боярские115.
При описании этого эпизода составитель Дубр. вновь не избежал ошибки: в числе бояр, приехавших к великому князю из Москвы в Воробьево, он назвал вместо князя Василия Васильевича Шуйского его брата Ивана, который на самом деле сопровождал государя в течение всей долгой поездки116.
Далее в Повести подробно описывается въезд тяжело больного государя в Москву, в Кремль. Там в «постельных хоромах» Василий III отдал последние распоряжения о судьбе престола и управлении страной своим ближайшим советникам.
Летописец поименно перечисляет бояр и дьяков, которых призвал к себе великий князь по приезде в Москву 23 ноября: кн. В. В. Шуйский, М. Ю. Захарьин, М. С. Воронцов, казначей П. И. Головин, тверской дворецкий И. Ю. Шигона, дьяки Меньшой Путятин и Федор Мишурин. Им государь стал говорить «о своем сыну о князе Иване, и о своем великом княжении, и о своей духовной грамоте, понеже бо сын его млад, токмо трех лет на четвертой, и как строитися царству после его»117. Дьякам Меньшому Путятину и Ф. Мишурину было приказано писать великокняжескую духовную.
В этом месте составитель Дубр. вновь прибегнул к редакторской правке. Ему, очевидно, было важно показать, что Федор Мишурин занимал значительно более низкое место в дьяческой иерархии, чем Меньшой Путятин, и поэтому сообщение о писании духовной приобрело в Дубр. следующий вид: «И тогда князь велики приказа писати духовную свою грамоту дьяку своему Григорию Никитину и [так! – М. К.] Меньшому Путятину, и у него велел быти в товарыщех дьяку же своему Федору Мишурину»118 (выделено мной. – М. К.). Этот местнический подтекст совершенно отсутствует в соответствующем известии Пост./Соф.: «И тогда князь великий приказа писати духовную грамоту диаком своим Меньшому Путятину да Федору Мишурину»119. В этом сообщении обоим дьякам отведена одинаково почетная роль, они изображены занимающими равное положение при дворе.
Во время многомесячного отсутствия государя в столице оставалось несколько бояр – «ведать Москву», как говорили в более поздние времена. Из текста Повести можно понять, что эту функцию исполняли тогда кн. В. В. Шуйский, М. С. Воронцов, казначей П. И. Головин и, вероятно, М. Ю. Захарьин, но последний, как уже говорилось, был срочно вызван к государю на Волок, когда болезнь Василия III приобрела опасный для жизни характер и встал вопрос о составлении нового великокняжеского завещания.
С возвращением Василия III в Москву единство государевой думы было восстановлено, но при этом не обошлось без драматических коллизий. В приведенном выше списке из семи доверенных лиц, приглашенных к составлению великокняжеской духовной, не нашлось места для князей Д. Ф. Бельского, И. В. Шуйского, М. Л. Глинского, И. И. Кубенского и нескольких дьяков, сопровождавших Василия III в поездке и участвовавших в совещании на Волоке. Отголоски придворной борьбы (местнической по своей природе) за право быть рядом с умирающим государем и присутствовать при составлении его завещания слышны в словах летописца: «Тогда же князь велики прибави к собе в думу к духовной грамоте бояр своих князя Ивана Васильевича Шуйского, да Михаила Васильевича Тучкова, да князя Михаила Лвовича Глинского. Князя же Михаила Лвовича Глинского прибавил потому, поговоря з бояры, что он в родстве жене его, великой княгине Елене»120.
Примечательно, что включение в «думу к духовной грамоте» кн. И. В. Шуйского и М. В. Тучкова не потребовало каких-либо объяснений, зато в отношении кн. М. Л. Глинского понадобилась особая мотивировка (родство с великой княгиней). Очевидно, приближение ко двору литовских княжат вызывало раздражение в среде старинной московской знати, которое великому князю приходилось преодолевать121. Чуть ниже мы разберем еще один упоминаемый в Повести эпизод, который проливает свет на свойственную придворной среде неприязнь к «чужакам».
Боярин жо его [Василия III. – М.К.] Михайло Юрьевичь, поговоря с митрополитом и з братьею великого князя и з бояры, и повеле во Арханьгиле ископати гроб, подле отца его великого князя Ивана Васильевича… и, поговоря с митрополитом, Михайло Юрьевич послаша по постел[ни]чиво Русина Иванова сына Семенова, снем с него меру, и повеле ему гроб привести камен122.
Итак, круг ближайших советников, допущенных к составлению великокняжеского завещания, был окончательно определен: в него вошло десять человек. Им Василий III стал «приказывати о своем сыну великом князе Иване, и о великой княгине Елене, и о своем сыну князи Юрьи Васильевиче, и о своей духовной грамоте»123.
Далее в Повести рассказывается о приготовлениях великого князя к принятию монашеского сана; причем в списке Дубр. настойчиво подчеркивается роль старца Мисаила Сукина в этих приготовлениях124.
В воскресенье, 30 ноября, великий князь, причастившись, призвал к себе митрополита Даниила, братьев своих – князей Юрия и Андрея и всех бояр. Он обратился к ним с речью: «Приказываю своего сына великого князя Ивана Богу и Пречистой Богородици, и святым чюдотворцем, и тебе, отцу своему Данилу, митрополиту всеа Русии. И даю ему свое государьство, которым меня благословил отець мой государь князь великий Иван Васильевич всеа Руси»125. Своим братьям государь дал такой наказ: «А вы бы, моя братия князь Юрьи и князь Андрей, стояли крепко в своем слове, на чем есмя крест целовали, и крепости промежь нами, и о земском бы есте строении, и о ратных делех противу недругов моего сына и своих стояли общо, была бы православных хрестьян рука высока над бесерменством»126. Наконец, от бояр, детей боярских и княжат великий князь потребовал верной службы своему наследнику: «…как есте служили нам, так бы есте ныне и впредь служили сыну моему Ивану и на недругов все были заодин, и хрестьянства от недругов берегли, а служили бы есте сыну моему прямо и неподвижно»127.
А с нею [Еленой. – М. К.] шли бояре князь Василей Васильевич Шуйской, Михайло Семенович Воронцов, князь Михайло Лвович Глинской, князь Иван Федорович Овчина, боярыня же тогда бысть с великою княгинею князя Федора Мстиславского княгиня Анастасия, племянница великого князя, да княжь Иванова Даниловича Пенково княгини Марья, да боярыня Ивана Ондреевича жена Челядина Олена, да Василия Ондреевича жена Огрофена, да Михаила Юрьевича жена Феодосия, да Василья Ивановича жена Огрофена, да княжь Васильева жена Лвовича Глинского княгини Анна128.
Затем, отпустив митрополита и своих братьев – удельных князей, государь обратился с новой речью к находившимся у него «всем боярам» (летописец называет кн. Дмитрия Федоровича Бельского «з братьею», князей Шуйских и Горбатых, Поплевиных и кн. Михаила Львовича Глинского): «Ведаете сами, кое от великого князя Володимера киевского ведетца наше государьство Владимерьское и Ноугородцкое и Московское. Мы вам государи прироженные, а вы наша извечныя бояре. И вы, брате, постойте крепко, чтобы мой сын учинився на государстве государем…»129 До этого места речь государя одинаково передается в сохранившихся списках Повести, но далее начинаются существенные различия между версией Пост./Соф., с одной стороны, и Дубр. – с другой:
* ПСРЛ. Т. 34. С. 21; Т. 6. С. 271.
** ПСРЛ. Т. 43. С. 228.
Как видим, по одной версии, великий князь «приказал» боярам, т.е. поручил, рекомендовал им как своего верного слугу кн. М. Л. Глинского. По другой версии, той же чести удостоились еще и кн. Д. Ф. Бельский с братьями. Различна и аргументация: в одном случае аргументом служит «прямая» служба Глинского; во втором – родство с государем всех упомянутых лиц: Глинский – дядя жены, Бельские – «сестричичи» великого князя (они были сыновьями двоюродной сестры Василия III, княгини Анны Васильевны Рязанской130).
Понятно, что в летописном рассказе не следует видеть протокольной записи речи Василия III к боярам: несомненно, она подверглась литературной обработке. Однако вопрос заключается в том, какая из двух приведенных версий отражает первоначальную редакцию Повести?
А. Е. Пресняков с доверием отнесся к версии Дубр. и других списков той же группы131. А. А. Зимин полагал, что содержавшееся в Новгородском своде 1539 г. (т.е. в списке Дубр.) упоминание об особой роли, которую отводил Василий III князю Д. Ф. Бельскому, было позднее изъято из летописей, составленных в годы правления Шуйских132. Того же взгляда на соотношение версий Соф./Пост. и Дубр., в том числе и применительно к данному эпизоду, придерживался С. А. Морозов133.
С критикой подобных представлений, утвердившихся в научной литературе, выступили Х. Рюс и Р. Г. Скрынников. Немецкий ученый справедливо обратил внимание на то обстоятельство, что кн. Д. Ф. Бельский, судя по тексту Повести, не участвовал в совещаниях у постели умирающего государя; он не вошел в состав бояр, приглашенных к составлению духовной Василия III. На этом основании Рюс заключил, что пассаж о братьях Бельских является позднейшей вставкой в летописный рассказ134.
К тому же выводу, но по другим причинам пришел Скрынников. По его мнению, текст Повести в списке Дубр. в результате редакторской правки частично утратил смысл: группе бояр, список которых в летописи начинается с кн. Д. Ф. Бельского «с братиею», великий князь «приказал» самого же кн. Д. Ф. Бельского «с братиею»!135
К этим аргументам можно добавить еще некоторые наблюдения, свидетельствующие, на мой взгляд, о вторичном и тенденциозном характере версии Дубр. Наказ великого князя боярам в изложении Пост./Соф. пронизан единой логикой: основная мысль – стремление государя избежать розни среди бояр, поэтому он призывает всех – и «здешних уроженцев», и «приезжих» князей – сплотиться вокруг наследника престола и верно служить ему; Глинского Василий III «приказывает» боярам именно потому, что тот – «прямой» слуга.
Логика речи государя в рассказе Дубр., напротив, не ясна: призыва к преодолению розни там нет, а наказ боярам, «чтобы были вопче» и дела делали «заодин», странно диссонирует с настойчивым подчеркиванием родства и Бельских, и Глинского с великим князем: такой «аргумент» в тревожной обстановке ноября – декабря 1533 г. способен был только еще больше настроить представителей старинной знати Северо-Восточной Руси (Шуйских, Горбатых и др.) против «чужаков», занявших по милости государя первые места у трона.
Удивляет также то обстоятельство, что Василий III, по версии Дубр., представил боярам весь клан князей Бельских, в то время как из Глинских (а о них обо всех можно было сказать, что они великому князю по жене «племя») упомянул только князя Михаила Львовича. Но все эти странности и несообразности получают объяснение, если предположить, что этот пассаж в Дубр. является редакторской вставкой в текст Повести, появившейся в начале 1540-х годов, когда братья Дмитрий и Иван Бельские пользовались большим влиянием при московском дворе136. Местнические интересы этого клана, возможно, и побудили составителя Дубр. вставить в летописную Повесть пассаж, свидетельствующий об особом будто бы благоволении умирающего Василия III к кн. Д. Ф. Бельскому «с братией».
Что же касается «материала», использованного для этой вставки, то он мог быть заимствован из других эпизодов той же Повести: так, слова Василия III о родстве с Глинским («по жене моей мне племя») напоминают мотивировку, использованную великим князем для введения Глинского в «думу», созванную для составления духовной грамоты137, а наказ князьям Бельским («о ратных делех и о земском строение» стоять «заодин») очень близок, по сути, к наставлению, данному государем своим братьям Юрию и Андрею138.
В среду, 3 декабря, в последний день жизни великого князя, он призвал к себе бояр – тех же, что присутствовали при составлении его духовной: князей Ивана и Василия Шуйских, М. С. Воронцова, М. Ю. Захарьина, М. В. Тучкова, кн. М. Л. Глинского, И. Ю. Шигону, П. И. Головина и дьяков М. Путятина и Ф. Мишурина. «И быша у него тогда бояре, – говорит летописец, – от третьяго часа до седмаго, и приказав им о своем сыну великом князе Иване Васильевиче и о устроении земском, и како быти и правити после его государьства»139.
Текст Дубр. в этом месте явно вторичен по отношению к Соф. и Пост.: переписчик допустил механическую ошибку, пропустив в списке бояр М. Ю. Захарьина, а в заключительной фразе, видимо не разобрав одного слова, написал: «…како бы правити после его государьства»140.
То, что указанный пропуск имени одного из бояр носил механический характер, а не выражал какой-то политической тенденции, явствует из последующего текста, который читается одинаково и в Дубр., и в Пост./Соф.: «И поидошя от него [Василия III. – М. К.] бояре. А у него остася Михайло Юрьев [Захарьин. – М. К.] да князь Михайло Глинской, да Шигона и бышя у него до самые нощи. И приказав о своей великой княгине Елене и како ей без него быти, и как к ней бояром ходити. И о всем им приказа, как без него царству строитись»141.
В заключительных эпизодах летописной Повести мы вновь находим следы редакторской правки. Так, при описании прощания Василия Ивановича с женой – великой княгиней Еленой в тексте Соф. и Пост. приведены некоторые реалистические подробности: «И хоте [великий князь. – М. К.] ей наказывати о житье ея, но в кричанье не успе ю ни единого слова наказати. Она же не хотяще итти от него, а от вопля не преста, но отосла ея князь велики сильно, и простися с нею, и отдаст ей последнее целование свое…»142 Все выделенные мною экспрессивные детали были исключены при изложении этого эпизода в Дубр. Взамен там появилась более короткая и сдержанная фраза: «Тогда же великая княгини не хотяше идти от него, но отсла ея князь велики, и простися с нею князь велики, и отдасть ей последнее свое целованье…»143
Приведенный пример еще раз демонстрирует уже отмеченную нами выше редакторскую манеру составителя Дубр., стремившегося приблизить текст «Сказания» о смерти Василия III к образцам житийного жанра144.
Некоторые подробности описания похорон великого князя, скончавшегося в ночь на 4 декабря 1533 г., различаются в Пост./Соф. и Дубр. Так, по одной версии, распоряжение об устройстве гробницы в Архангельском соборе было отдано М. Ю. Захарьиным, по другой – боярами:
* ПСРЛ. Т. 21. С. 24; Т. 6. С. 275.
** ПСРЛ. Т. 43. С. 231.
В обеих версиях (и в Пост., и в Дубр.) можно заметить несогласованность глаголов с существительными: в первом случае с существительным множественного числа («бояре») дважды употреблен глагол («повеле») в единственном числе, во втором случае – наоборот: рядом с подлежащим в единственном числе («Михайло Юрьевич») стоит сказуемое во множественном числе («послаша»). Таким образом, обе версии сохранили следы редакционной правки. Если учесть, что согласованность глагольных форм с существительными наблюдается только в Соф., а там все распоряжения исходят от «бояр», то можно предположить, что именно этот список сохранил первоначальный текст данного фрагмента Повести. Выше уже было отмечено особое внимание составителя Дубр. к фигуре боярина М. Ю. Захарьина, и подчеркивание его роли на похоронах великого князя является, по-видимому, еще одной вставкой, характерной для этой версии памятника.
Различается в двух версиях и список бояр и боярынь, сопровождавших великую княгиню Елену на похоронах мужа:
* ПСРЛ. Т. 34. С. 24; Т. 6. С. 276.
** ПСРЛ. Т. 43. С. 232. Тот же перечень содержится в Синодальном списке Повести (ОР ГИМ. Синод. собр. № 963), см.: Тихомиров М. Н. Краткие заметки о летописных произведениях в рукописных собраниях Москвы. М., 1962. № 121. С. 121.
Трудно сказать, как выглядел этот список в первоначальной редакции Повести о смерти Василия III. Ясно, что на похороны государя пришли все бояре, князья и дети боярские, находившиеся в начале декабря 1533 г. в Москве. Поэтому оба варианта перечня, дошедшие до нас в сохранившихся списках Повести, заведомо не полны, и эта избирательность отражает чьи-то местнические интересы. Текст Пост./Соф. не упоминает в свите великой княгини князя И. Ф. Овчину Оболенского, в то время как в Дубр. пропущено имя боярина кн. И. В. Шуйского. Можно предположить, что первоначальный текст заканчивался имеющимся в обоих вариантах упоминанием боярыни Анастасии, жены кн. Ф. Мстиславского («боярыня же тогда бысть с великою княгинею»); следующий затем в Дубр. список боярынь, вероятно, является более поздней припиской, сделанной на основе местнических памятей времени правления Елены Глинской.
Суммируя сделанные выше наблюдения, можно сказать, что ни один из сохранившихся списков Повести о смерти Василия III не отражает целиком первоначальной редакции этого памятника. И версия Пост./Соф., и Дубр. несут на себе следы редакционной правки. Особой тенденциозностью отличается правка текста в Дубр. Во-первых, составитель устранял чересчур, по его мнению, реалистические подробности и даже факты (например, упоминание о сожжении предыдущей духовной Василия III), если они не соответствовали канонам житийной литературы. Во-вторых, руководствуясь местническими интересами, редактор стремился принизить роль одних лиц (например, дьяка Ф. Мишурина) и, наоборот, подчеркнуть доверие великого князя к другим лицам (старцу М. Сукину, братьям Бельским и др.).
О том, что редактор Дубр. не был очевидцем описываемых в Повести событий и плохо знал придворную среду начала 1530-х годов, свидетельствуют многочисленные ошибки в именах и титулах упоминаемых лиц. Так, как уже отмечалось выше, составитель Дубр. постоянно путает братьев-князей Ивана и Василия Шуйских; кроме того, дворецкий И. Ю. Шигона и боярин М. В. Тучков иногда ошибочно именуются в этом списке «князьями»145. Поэтому Дубр. не может служить основным и уж тем более единственным источником для изучения событий поздней осени 1533 г.
Правка встречается и в списках Пост. и Соф., но ее направленность не вполне ясна. Возможно, в отдельных эпизодах редактор стремился затушевать важную роль в событиях или близость к государю некоторых лиц (например, М. Сукина и М. Ю. Захарьина). В других случаях можно предполагать сокращение текста без какой-либо политической тенденции.
То, как распределены «свет и тени» в Повести по списку Дубр. (подчеркивание старшинства дьяка Меньшого Путятина перед Ф. Мишуриным, особое внимание к боярину М. Ю. Захарьину и кн. Д. Ф. Бельскому с «братией»), указывает на начало 1540-х гг. как на вероятное время появления этой версии. Списки Пост. и Соф. сохранили, по-видимому, более ранний текст, возникший, возможно, в начале правления Елены Глинской.
Вместе с тем поскольку многие ключевые эпизоды Повести одинаково изложены и в Пост./Соф., и в Дубр., то обе версии можно считать вариантами, или видами, одной (ранней) редакции памятника, представленной тремя списками. Любые наблюдения над текстом Повести должны обязательно основываться на сопоставлении всех трех списков.
2. Состав опекунского совета: летописные свидетельства и гипотезы историков
Охарактеризовав интересующий нас памятник в целом, остановимся подробнее на тех эпизодах летописной Повести, которые послужили исследователям источником для предположений о составе опекунского (или регентского) совета, созданного Василием III при своем малолетнем наследнике.
Чаще всего историки обращались к описанному в Повести совещанию о составлении великокняжеской духовной, начавшемуся сразу по возвращении Василия III в Москву 23 ноября 1533 г. Напомню, что в том совещании («думе») приняли участие 10 человек: князья Василий и Иван Васильевичи Шуйские, М. Ю. Захарьин, М. С. Воронцов, казначей П. И. Головин, тверской дворецкий И. Ю. Шигона, кн. М. Л. Глинский, М. В. Тучков и дьяки М. Путятин и Ф. Мишурин.
В. И. Сергеевич, как уже говорилось, первым из исследователей увидел в перечисленных 10 советниках правителей, назначенных Василием III на период малолетства его сына. Ученый предположил, что в духовную грамоту «было внесено и постановление о правительстве», причем участники совещания подписались на документе в качестве свидетелей. Но грамота эта не сохранилась: «Очень можно думать, – писал Сергеевич, – что действительное правительство, захватившее власть по смерти царя [так автор называет Василия III. – М. К.], не соответствовало предположенному, а потому и был повод захватившим власть скрыть и уничтожить ее»146. Вопросы, поставленные Сергеевичем: о составе правительственного совета при юном наследнике и о содержании не дошедшего до нас завещания Василия III, – оставались предметом дискуссии историков в течение всего недавно закончившегося XX столетия.
А. Е. Пресняков поддержал процитированное выше мнение Сергеевича об уничтожении завещания Василия III в ходе борьбы за власть, вспыхнувшей после смерти великого князя147. Что же касается последних распоряжений великого князя, то для их выяснения исследователь привлек не один фрагмент летописной Повести (как Сергеевич), а два: помимо известия о «думе» государя с боярами по поводу составления духовной, внимание историка привлекло упоминание о «приказании», данном Василием III незадолго до смерти трем лицам: Захарьину, Глинскому и Шигоне. Им государь приказал «о своей великой княгине Елене, и како ей без него быти, и как к ней бояром ходити, и о всем им приказа, как без него царству строитися»148.
В результате изучения текста Повести Пресняков пришел к выводу о двойственном характере распоряжений Василия III. Одной группе бояр во главе с князьями Шуйскими (тем самым десяти советникам, которых имел в виду Сергеевич) великий князь «приказал» о своем сыне Иване и «о устроенье земском»; по определению Преснякова, эта группа – «душеприказчики, которым надлежит блюсти выполнение всех заветов умирающего великого князя». «Нет основания, по-видимому, первую группу назвать в точном смысле слова советом регентства, но роль, ей предназначенная, близка к такому значению», – считал историк149. Второй группе из трех доверенных лиц государь поручил особую опеку над положением великой княгини. Тем самым ее статус также оказывался двойственным: с одной стороны, Василий III, по мнению Преснякова, отвел известную роль Елене в опеке над сыном и в управлении страной (ср. слова летописца о хождении к ней бояр); с другой стороны, он отнюдь не передал великой княгине всей полноты власти, поручив особым лицам контроль над ней и над исполнением его распоряжений150.
О двойной опеке писал и С. Ф. Платонов, выделив «коллегию душеприказчиков», к которой он отнес князей Бельских, Шуйских, Б. И. Горбатого, М. С. Воронцова и др. (т.е. по существу всех бояр) и особую тройку опекунов, призванных охранять великую княгиню151.
И. И. Смирнов по вопросу о персональном составе регентского совета пришел к тем же выводам, что и Пресняков152.
А. А. Зимин на разных этапах своего творчества неоднократно обращался к проблеме регентства и реконструкции пропавшего завещания Василия III. Так, в статье 1948 г. историк привел неопровержимые данные, свидетельствующие о том, что (вопреки предположению Сергеевича и Преснякова) духовная великого князя не была уничтожена сразу после его смерти, а существовала по крайней мере еще в 70-х годах XVI в.: прямые ссылки на нее имеются в завещании Ивана Грозного. Основываясь на этих упоминаниях и некоторых монастырских актах 1530-х годов, Зимин попытался реконструировать те пункты не дошедшей до нас духовной грамоты Василия III, которые касались имущественных распоряжений великого князя. В частности, ученый предположил, что своему брату князю Андрею Ивановичу Старицкому государь завещал Волоцкий удел, однако правительство Елены Глинской не собиралось выполнять этот пункт духовной Василия III и потому «скрыло» его завещание153.
Что же касается вопроса о регентстве, то Зимин считал (опять-таки вопреки мнению Сергеевича и Преснякова), что «в своем завещании Василий III не упоминал ни о каком регентском совете, это было предметом его последующих устных распоряжений». В доказательство этого тезиса историк ссылался на Повесть о смерти Василия III, а также на завещания его деда и отца, которые послужили прообразом духовной 1533 г. и в которых нет ни слова ни о каких опекунских советах: «Такие распоряжения в подобного рода документы не вносились», – подчеркнул исследователь154.
В работах последующих лет Зимин пришел к выводу о том, что Василий III поручил ведение государственных дел всей Боярской думе, а при малолетнем наследнике назначил двух опекунов – князей М. Л. Глинского и Д. Ф. Бельского155.
Указанные выше предположения и выводы Зимина обладают неодинаковой доказательной силой. Первый тезис – о том, что духовная Василия III не была уничтожена в годы боярского правления, – совершенно бесспорен. Иван IV ссылался на этот документ в своем завещании: «А что отец наш, князь великий Василей Ивановичь всея России, написал в своей душевной грамоте брату моему, князь Юрью, город Угличь и все поле, с волостми, и с путми, и с селы…»156 Кроме того, духовная грамота великого князя Василия упоминается в целом ряде актов 30-х и начала 40-х гг. XVI в. Например, в жалованной грамоте Ивана IV Иосифо-Волоколамскому монастырю на село Турово (май 1534 г.) передача села этой обители мотивировалась волей покойного государя: «…что написал отец наш князь великий Василей Ивановичь вс[е]я Руси… в духовной грамоте»157. Аналогичная ссылка имеется в «памяти» Ивана IV подьячему Давыду Зазиркину от 24 мая 1535 г., которому было велено ехать для отвода земель в село Тураково Радонежского уезда, «что написал то село отец нашь князь великий Василей Иванович всеа Руси в своей духовной грамоте к Троице в Сергиев монастырь»; тот же подьячий должен был передать, также по завещанию Василия III, село Романчуково Суздальского уезда Покровскому девичьему монастырю158. Наконец, опубликованная недавно А. В. Маштафаровым духовная грамота Ивана Юрьевича Поджогина 1541 г. содержит упоминание о пожаловании ему Иваном IV «по приказу» отца, великого князя Василия Ивановича, более 20 деревень в Тверском уезде159.
Однако эти свидетельства, подтверждая первый из вышеприведенных тезисов Зимина, не позволяют согласиться со вторым его утверждением – о том, что правительство Елены Глинской якобы «скрыло» завещание ее покойного мужа. Процитированные мною документы 30-х и начала 40-х гг. XVI в. показывают, что содержание духовной Василия Ивановича не держалось в тайне, что многие его распоряжения имущественного характера были выполнены. Да и трудно себе представить, как можно было «скрыть» грамоту, составленную и утвержденную в присутствии десяти влиятельных бояр, дворецких и дьяков и, вероятно, подписанную митрополитом Даниилом.
Еще одно суждение Зимина – о том, что распоряжения о регентстве не вносились в духовные грамоты, а излагались устно, – заслуживает, на мой взгляд, серьезного внимания, но нуждается в более тщательном обосновании. В частности, ссылка исследователя в подтверждение своей гипотезы на духовные Василия II и Ивана III, как справедливо заметил И. И. Смирнов, не может быть принята, поскольку в обоих названных случаях завещатели, имея взрослого сына-наследника, не нуждались в создании регентства. В свою очередь, Смирнов, настаивая на противоположном тезисе (о включении пункта о регентском совете в духовную грамоту Василия III), ссылался на грамоту Василия I, «приказавшего» своего малолетнего сына определенной группе лиц, и на слова С. Герберштейна, сообщившего в своих «Записках» о том, что опекуны малолетнего Ивана IV были упомянуты в завещании Василия III160.
Наконец, предположение Зимина, согласно которому опекунами сына-наследника Василий III назначил князей Глинского и Бельского, на поверку оказывается слабо обоснованным и не имеет серьезной опоры в источниках. Прежде всего эта гипотеза опирается на проанализированный нами выше фрагмент летописной Повести о смерти Василия III, который читается только в Дубр. и зависимых от него более поздних вариантах этого памятника. Как уже говорилось, есть серьезные основания считать помещенное там «приказание» кн. Д. Ф. Бельского «с братией» остальным боярам поздней тенденциозной вставкой в текст Повести.
Но даже если допустить, что в этом источниковедческом споре прав Зимин и упомянутые слова Василия III действительно читались в первоначальной редакции Повести, то и в этом случае с предложенной ученым интерпретацией невозможно согласиться. Как справедливо отметил С. А. Морозов, «приказание» Бельского «с братией» боярам в данном контексте означало лишь поручение названных лиц «заботам» думцев161. О предоставлении кому-либо опекунских полномочий в том эпизоде речи не было. Непонятно, кроме того, почему Зимин, основываясь на упомянутом отрывке, причислил к опекунам, помимо Глинского, только Д. Ф. Бельского: ведь кн. Дмитрий в тексте Повести всюду фигурирует вместе со своей «братией», – получается, что тогда всех троих братьев Бельских следовало бы считать опекунами!
Исследователь летописной Повести о смерти Василия III С. А. Морозов пришел к выводу о том, что регентами-опекунами малолетнего Ивана IV были назначены кн. М. Л. Глинский, М. Ю. Захарьин и И. Ю. Шигона. Из текста диссертации Морозова можно понять, что ученый основывался на летописном рассказе о последних совещаниях Василия III с боярами 3 декабря 1533 г. К сожалению, автор не раскрыл логику своих рассуждений и не привел аргументов, которые позволили бы предпочесть его точку зрения ранее высказанным взглядам других исследователей на эту дискуссионную проблему162.
Оригинальную трактовку интересующего нас вопроса предложил Р. Г. Скрынников. В 1973 г. он выдвинул гипотезу о существовании уже в XVI в. «семибоярщины», которая впервые возникла в 1533 г. как регентский совет при малолетнем наследнике престола; в состав этого совета, по мнению историка, вошли князь Андрей Старицкий и шестеро бояр (князья Василий и Иван Шуйские, М. Ю. Захарьин, М. С. Воронцов, кн. М. Л. Глинский, М. В. Тучков)163.
На слабую обоснованность этой гипотезы уже обращалось внимание в литературе164. Действительно, по ссылкам на Повесть о смерти Василия III можно понять, что Скрынников строит свои выводы на основе эпизода составления великокняжеской духовной в присутствии ряда доверенных лиц. Этот пассаж анализировался многими исследователями, начиная с Сергеевича; дело, однако, заключается в том, что, как уже говорилось, там перечислено десять участников совещания: цифра «7» получается у Скрынникова путем произвольного исключения из числа опекунов лиц, не имевших боярского чина (казначея П. И. Головина, дворецкого И. Ю. Шигоны, дьяков Меньшого Путятина и Ф. Мишурина), и необоснованного расширения состава комиссии за счет старицкого князя, которого на самом деле на это совещание не пригласили.
Предположение об участии кн. Андрея Старицкого в «думе» о духовной Василия III основано, видимо, на неверном прочтении следующего места летописной Повести165: «И того же дни [как больной государь был доставлен в Москву, т.е. 23 ноября. – М. К.] приеде к великому князю брат его князь Андрей Иванович. И нача князь великий думати з бояры. А бояр у него тогда бысть… [перечисление]. И призвал их к собе. И начат князь велики говорити о своем сыну о князе Иване…»166
Как видим, между первой фразой (о приезде князя Андрея к брату в столицу) и последующим текстом нет прямой связи. Вполне возможно, что Андрей Иванович находился где-то рядом с происходящим, в соседних палатах. Но о его приглашении в государеву «думу» о наследнике и о духовной грамоте в тексте не сказано ни слова. Участники этого совещания указаны совершенно определенно: «нача князь великий думати з бояры», «а бояр у него [Василия III. – М. К.] тогда бысть», «и призва их к собе» и т.д. Подобным же образом рассказ о заседании, состав которого расширился до 10 человек, перебивается ниже сообщением о приезде другого брата государя, Юрия: «И тогда же приеде к великому князю брат его князь Юрьи Иванович вскоре на Москву». После чего рассказ о «думе» продолжается: «И нача же князь велики думати с теми же бояры и приказывати о своем сыну великом князе Иване…»167 (выделено мной. – М. К.).
Чтобы развеять все сомнения, связанные с возможным участием удельных князей в решении вопроса об устройстве правления при малолетнем наследнике престола, обратимся к другому эпизоду Повести, где описываются последние совещания у постели умирающего государя, происходившие 3 декабря. Здесь говорится о том, что после причащения великий князь «призва к себе бояр своих», и перечисляются те же 10 человек, которые участвовали в «думе» о духовной. «И бышя у него тогда бояре от третьяго часа до седмаго». Выслушав наказ государя о его сыне Иване, устроении земском и управлении государством, бояре ушли («И поидошя от него бояре»). Остались, как мы уже знаем, трое (Захарьин, Глинский и Шигона), которые просидели у великого князя «до самыя нощи». И только после того, как они выслушали «приказ» Василия III, «как без него царству строитись», явились братья государя Юрий и Андрей и стали «притужати» умирающего, «чтоб нечто мало вкусил»168. Больше к обсуждению государственных вопросов Василий III, судя по тексту Повести, не возвращался. Таким образом, предположение о том, что великий князь обсуждал с братьями судьбу престола и, тем более, назначил одного из них опекуном своего сына, противоречит свидетельствам нашего основного источника.
Несмотря на прозвучавшую в литературе критику тезиса о существовании «семибоярщины» уже в XVI в., Скрынников в работах 1990-х гг. продолжал настаивать на своей версии, по-прежнему называя опекунский совет, созданный Василием III при своем малолетнем сыне, «седьмочисленной комиссией». А поскольку это определение не соответствовало, как мы уже знаем, реальному количеству лиц, упомянутых в цитируемой Скрынниковым летописной Повести, то историк нашел остроумный выход, объявив старицкого князя и шестерых бояр «старшими членами» опекунского совета, а казначея Головина, дворецкого Шигону и дьяков Путятина и Мишурина – «младшими»169. Искусственность данного построения очевидна.
А. Л. Юрганов предпринял попытку разрешить загадку регентства не на основе источниковедческого анализа сохранившихся известий о событиях конца 1533 г., а исходя из реконструируемой им традиции оформления великокняжеских завещаний. По его наблюдениям, бояре подобного рода документы только подписывали в качестве свидетелей, но опекунами они быть не могли: опекунские функции являлись прерогативой лиц более высокого ранга – членов великокняжеской семьи, удельных и служебных князей, а также митрополитов. На этом основании Юрганов пришел к заключению, что опекунами малолетнего Ивана IV были назначены Елена Глинская, митрополит Даниил, кн. Глинский и кн. Андрей Старицкий170.
Обращение к завещательной традиции вполне оправдано при изучении интересующей нас проблемы и, как я постараюсь показать ниже, может дать «ключ» к пониманию некоторых мест летописной Повести, о которых продолжают спорить историки. Однако информацию о конкретных лицах, назначенных в конце 1533 г. опекунами наследника престола, невозможно вывести «аналитическим путем» из завещаний предков Василия III; здесь ничто не может заменить прямых показаний источников.
Версия Юрганова очень уязвима во многих отношениях. Лежащий в ее основе тезис о том, что Василий III во всем покорно следовал традиции, труднодоказуем и едва ли верен. Да и сама трактовка этой традиции вызывает определенные сомнения: из чего, например, следует, что служилый князь мог быть опекуном? Ведь прецеденты такого рода неизвестны. А главное – гипотеза Юрганова противоречит показаниям источников: ни Елена Глинская, ни митрополит, ни удельные князья не были приглашены к составлению духовной; не им, а ближайшим советникам, согласно летописной Повести, великий князь дал последний наказ о сыне, жене и о том, «како без него царству строитися». Наконец, имеется свидетельство псковского летописца о том, что Василий III еще при жизни нарек старшего сына Ивана великим князем и «приказа его беречи до 15 лет своим бояром немногим»171. Одно это свидетельство разом подрывает (тут я согласен со Скрынниковым172) всю концепцию Юрганова.
Трудно признать удачной и недавнюю попытку А. Л. Корзинина при помощи нескольких цитат из Повести о смерти Василия III решить давнюю научную проблему – определить состав регентского совета при Иване IV. Исследователь не стал разбирать аргументы своих предшественников, ограничившись кратким перечислением высказанных ранее точек зрения (при этом работы С. А. Морозова, Х. Рюса, П. Ниче вообще оказались неупомянутыми). Источниковедческий анализ летописной Повести и сравнение разных списков и редакций данного памятника он подменил беглым пересказом этого произведения и привел несколько цитат из текста по Постниковскому летописцу. Искомый перечень членов регентского совета историк усмотрел в перечисленных летописцем десяти советниках, которым Василий III в последний день жизни, 3 декабря, «приказал» о своем сыне Иване и об устроении земском. Сам этот вывод далеко не нов: многие исследователи со времен В. И. Сергеевича видели в этом «приказании» намек на учреждение «правительства», или регентского совета. Новым можно признать лишь следующий аргумент А. Л. Корзинина: особое значение ученый придал словам летописца о том, что великий князь, в частности, приказал боярам, «како бы тии правити после его государства»173. В слове «тии» исследователь увидел указательное местоимение и понял всю фразу как поручение боярам правления после смерти Василия III174. На самом деле словечко «тии», которое читается только в издании Пост., появилось в результате ошибки публикаторов летописи, неправильно разбивших текст на слова175. Правильное чтение содержится в опубликованном списке Соф., относящемся к той же редакции памятника: здесь говорится, что великий князь приказал боярам «о своем сыну великом князе Иване Васильевиче, и о устроении земском, и како быти и правити после его государьства»176 (выделено мной. – М. К.). Как видим, «наблюдение» Корзинина основывается на ошибке (или опечатке) в издании Повести по одному из списков. Пренебрежение приемами текстологического анализа приводит к подобным курьезам.
Итоги многолетних попыток исследователей проникнуть в тайну пропавшего завещания Василия III убеждают в том, что при нынешнем состоянии источниковой базы ясный и убедительный ответ на вопрос, кому великий князь доверил власть и опеку над сыном, вряд ли может быть получен177. Дальнейшая дискуссия по данной проблеме будет плодотворна лишь при условии введения в научный оборот новых материалов. Ниже я приведу информацию о московских событиях конца 1533 г., которая сохранилась в источниках польско-литовского происхождения. Но и возможности нового прочтения летописной Повести о смерти Василия III нельзя считать исчерпанными. Этот замечательный памятник остается главным источником наших сведений о ситуации при московском дворе в момент перехода престола к юному Ивану IV. Но для правильной интерпретации содержащейся там информации исследователям необходим контекст. Поскольку одной из основных сюжетных линий Повести является составление великокняжеской духовной грамоты, таким контекстом может стать завещательная традиция в Московской Руси XV – первой трети XVI в.
3. Духовная грамота Василия III и завещательная традиция XV – первой трети XVI в
Сравнение последних распоряжений Василия III, как они изложены в летописной Повести, с завещаниями его предков показывает, что этот великий князь (вопреки мнениям некоторых исследователей) вовсе не хранил верность древним традициям. В обычае московских великих князей было поручать опеку над детьми своим женам – великим княгиням и братьям. Так, Василий I, который тоже оставил престол малолетнему сыну, «приказал» его великой княгине. В свою очередь, опеку над женой и сыном он поручил тестю – великому князю литовскому Витовту и «своей братье молодшей», – князьям Андрею и Петру Дмитриевичам, Семену и Ярославу Владимировичам178. Аналогичный пункт имелся и в духовной Василия II: «А приказываю свои дети своей княгине. А вы, мои дети, живите заодин, а матери свое слушайте во всем, в мое место, своего отца». И далее: «А приказываю свою княгиню, и своего сына Ивана, и Юрья, и свои меншие дети брату своему, королю польскому и великому князю литовскому Казимиру, по докончалной нашей грамоте…»179
Изменение традиции можно заметить в духовной Ивана III: своих младших детей он «приказал» старшему сыну и наследнику Василию; его же он назначил своим душеприказчиком180. К тому времени (1504 г.) ни братьев, ни супруги великого князя, Софьи Палеолог, уже не было в живых, а о том, чтобы поручать опеку над детьми зятю – великому князю литовскому Александру, с которым лишь за год до того закончилась очередная война, не могло быть и речи.
Василий III не «приказал» детей ни жене, ни родным братьям: как было показано выше, составление великокняжеской духовной велось в тайне от них. Между тем в летописной Повести есть эпизод, который позволяет высказать предположение о том, кому по завещанию государь поручил опеку над сыном-наследником.
В речи Василия III, с которой он обратился к митрополиту, своим братьям и всем боярам 30 ноября (выше я уже цитировал этот отрывок в связи с вопросом о первоначальной редакции памятника), говорилось: «…приказываю своего сына великого князя Ивана Богу и Пречистой Богородици, и святым чюдотворцем, и тебе, отцу своему Данилу, митрополиту всеа Русии»181 (выделено мной. – М. К.).
Возможно, эта официальная формулировка была внесена и в духовную Василия III. Великий князь с доверием относился к митрополиту Даниилу. Примечательно, что в сохранившейся духовной записи Василия Ивановича (июнь 1523 г.) государь назначал его своим душеприказчиком и оставлял жену на его попечение182.