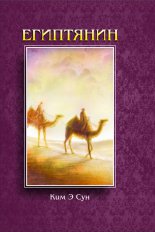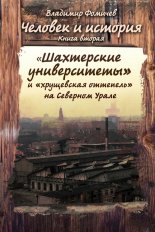Малахитовый бегемот. Фантастические повести Смирнов Алексей

Бороздыня и Греммо существовали.
Более того: разворачиваясь перед Бровановым в сновидении – весьма убедительном и проработанном благодаря капельнице, – они в ту самую минуту и вправду беседовали, причем не где-нибудь, а в кабинете Греммо, в четырех помещениях от Брованова, если следовать по коридору направо, в том же этаже.
И выглядели они точно такими же, какими предстали ему, и держались похоже. И пепельница стояла такая же.
Однако дальше начинались расхождения.
Для Бороздыни не было никакой надобности представляться Греммо, они знали друг друга давно. Ни о каких охранниках, не знакомых якобы с Бороздыней, не могло быть и речи. Все незнакомцы отсекались на подступах, и в полукилометровом радиусе не могло находиться ничего постороннего. За этим следили особые механизмы, обученные не только электронному наблюдению, но и блокированию территории при помощи дверей, ворот, электрического тока, лазерной паутины, колючих сетей и ежей. А если все перечисленное не помогало – стрелявшие на поражение.
Не могло быть в кабинете заведующего и никаких историй болезни, могущих быть разорванными надвое. Стол Греммо вообще стоял девственно чистым, если не считать пепельницы. Иван Миронович – сморщенный, сгорбленный, табачного цвета и содержания – стоял посреди кабинета и курил в ладошку, а Бороздыня расположился в кресле по-свойски, без церемоний, привычный к обстановке.
– Я боюсь, он сожрет карандаш, – признался Бороздыня.
– Вынем, – рассеянно отозвался Греммо.
– Иван Миронович! Посерьезнее! Как вы собираетесь его вынимать? Он, может, не перенесет наркоз.
Заведующий встряхнул головой, собрался, уставился в Бороздыню.
– Егорушка! Это же наши карандаши, они съедобные. Ты что? И он не замечен в суицидных настроениях. Он больше одержим каким-то Деревом-Цветом…
– Ну, покажите.
Греммо обогнул стол. Ящик отпирался электронным ключом, подобно автомобилю. Иван Миронович прицелился, стол угодливо пискнул. Заведующий запустил руку внутрь, вынул листы: одни были косо исписаны, другие – криво изрисованы.
Иван Миронович вздохнул:
– Я сомневаюсь, что это осмысленное послание – скорее, побочный продукт нездоровья.
Бороздыня рассматривал хитросплетение линий, напоминавших в совокупности перекати-поле.
– Вы его, часом, транквилизаторами не накачиваете?
– Минимально. Чтобы поспал.
– Лучше совсем отменить, они мешают экспрессии.
– Егорушка, позволь мне самому решить, – визгливо окрысился Иван Миронович. – Не суйся не в свое дело. Ты сыщик, а я узкий специалист. Не мешай готовить пространство.
– Саперная работа, Иван Миронович.
Греммо презрительно покосился:
– Это ты мне говоришь? Нейрохирургу?
– Вы пока не в курсе…
– Я не в курсе? – Греммо раздраженно вернулся к столу, порылся в ящике, выдернул снимки, свернутые в рулон. Содрал резинку, развернул. – Ты прав, Егорушка, пора посвятить меня в подробности обстоятельств. Объясни мне, будь ласков, что это такое.
Палец Ивана Мироновича уперся в светлое пятно, засевшее в сокровеннейшей глубине исследуемого черепа.
– Никогда не встречал такого очага, – продолжил Греммо. – Тебе он ничего не напоминает? Похож на фигуру! На человека. Сидящего. И сидящего весьма вольготно! Я никогда не встречал таких паразитов!
Бороздыня мрачно рассматривал снимок. Заведующий, не дожидаясь разъяснений, начал читать:
– Т1-взвешенное изображение, аксиальная проекция… с подавлением сигнала от жировой ткани, после введения контраста… В области правого внутреннего слухового прохода отмечается усиление слегка гетерогенного образования неправильной формы… Посмотри, Егорушка. Вот вроде как голова, а это ноги. На голове как будто цилиндр, Егорушка! А это что такое? Нацеленное в сосцевидный отросток? Похоже на трость!
– Цилиндр и есть, – сквозь зубы пробормотал Бороздыня. – Сукин сын.
4
Брованов стоял на задворках старой клиники. Ее строения напоминали октябрьские поганые грибы, угодившие в развернутый март. Приземистые, местами состарившиеся до сиреневой синевы, местами – непоправимо желтые, они были разбросаны в радиусе полукилометра. Территория вымерла, наступили сумерки. Ноздреватые сугробы разваливались, проседали; обнаруживались их внутренние скелеты – перепрелые доски, ржавый лом, ошметья войлока и пакли.
Брованов переминался у входа в подвал, всматривался в проем. Железные ворота были распахнуты настежь. Кто-то шевелился в темноте, переворачивался на подстилке; мутный фонарь, упакованный в проволочный кокон, освещал свалявшуюся шерсть.
Брованову было известно, что в подвале ютятся прокаженные с ускоренным обновлением тканей. Годы, которые уходят на это у здоровых людей, сокращались до нескольких недель. Брованов сравнивал естественное обновление с машинописью в десяток копий. Единая генетическая программа пропечатывалась тем бледнее, чем толще была стопка бумаги. Чем старше, тем хуже кости и кровь; высокий внечеловеческий замысел в условиях материи вырождается с каждой новой копией. В подвале происходило иное: обновление сопровождалось замещением; что-то отваливалось навсегда, что-то преобразовывалось в животное. Со временем местная публика превращалась в беспородных собак. Брованова ждала та же участь, но он пока не чувствовал в себе ничего страшного и воображал себя единственным нормальным среди дегенератов. Ему казалось, что он затесался в их компанию по роковой случайности. Что-то держало его на территории; уйти он не мог. Он тоскливо наблюдал за преобразованием.
Он не понимал, с чего началось, но откуда-то знал, что первой нарушается речь. И еще он заметил, что превращения происходят не плавно, а рывками. Только что плавали руки, ходили ноги, и вот уже экземпляр лежит на подстилке, лишенный тех и других; взамен из туловища вырастают, подергиваются короткие кротовые лапки. Все это совершалось в мертвом молчании.
Олтын-Айгуль уже превратилась. Связь с ней оборвалась.
Брованов увидел ее в круге света, когда она куда-то шла по подвалу. Олтын-Айгуль передвигалась на четырех конечностях; это еще не были лапы – прежние руки и ноги, но только выпрямленные, как лыжные палки, без прогиба в суставах. Лицо Олтын-Айгуль, повернутое в фас и так зафиксированное, серьезное на грани улыбки, довольное, напоминало выражением строгую учительницу, наведшую порядок. Сверкнули очки, проплыли поджатые губы. Нет, конечности выглядели не совсем обычно: они продолжались в остроконечные копытца, но не раздваивались. Олтын-Айгуль, отвратительно голая и сытая, процокала по каменному полу и скрылась в катакомбах.
Она, конечно, не сознавала себя. Теперь ей недоставало хвоста. Его отсутствие воспринималось как уродливый недостаток.
Брованов скосил глаза: он не заметил, как две почти законченные собаки подобрались к нему и вот уже некоторое время как вгрызались в его стопу. Он ничего не почувствовал, кроме гадливости; отпрянул, выдернул ногу. Собаки отшатнулись, у одной свисал из пасти черный слоистый лоскут, образованный язычком ботинка и бурой кожей. В стопе осталась прореха, черневшая мертвыми мышцами. Недособака села. Давясь и не спуская с Брованова круглых глаз, она стала быстро заглатывать лоскут. Тот втягивался в горло бесшумными рывками. В собачьей морде сохранялись человеческие черты – надбровья, мочки ушей, губы. Брованов отвел ногу и врезал собаке по черепу. Нога бесшумно провалилась; разломанные кости переставились, как в анимации, срослись, покрылись рыжей шкурой; по морде собаки пробежала мгновенная рябь, и вот превращение завершилось. Собака пошла прочь, остаток добычи торчал из пасти подобно сигаре. Второе существо, когда Брованов о нем вспомнил, успело скрыться. Брованов пригнулся, вступил в подвал, пошел на свет и попал в помещение, богатое трубами и окаменевшими вентилями. На полу валялся тощий матрас, Олтын-Айгуль угадывалась где-то поблизости. Она была отвратительна Брованову, но он хорошо помнил, что никогда не сможет от нее избавиться.
Из темного угла выдвинулось сосредоточенное очкастое лицо – на уровне колена Брованова. Волосы Олтын-Айгуль были туго зачесаны и стянуты ремешком в колючий пучок. Она выжидающе таращилась на Брованова. Он беспомощно оглянулся в сыром и холодном подземелье, не зная, куда податься с освещенного пятачка.
5
– Иван Миронович, – сказал Бороздыня, и этим обращением подчеркнул исключительность секрета. – Я выписал вам допуск. Оформил его. – Он расстегнул папку. – Распишитесь. Но после этого, случись что нехорошее, вы буквально исчезнете. Вас разложат на атомы, и я не шучу. Это больше, чем просто кремация.
Иван Миронович приблизился боком. Длинная лампа под потолком зловеще мигала, за дверью прошуршали колеса каталки.
– Егорушка, – Греммо покачал головой, – я этих бумаг подписал больше, чем ты знаешь слов…
Он выдернул ручку, клюнул бумагу, оставил на ней мерзкую загогулину.
– Не бзди, Егорушка. Рассказывай смело, ничего тебе за это не будет.
Бороздыня криво усмехнулся, погрузился в кресло. Ему не хватало сигары и шляпы, он был похож на частного сыщика из черно-белого американского кинофильма.
– Это, Иван Миронович, международный террорист по прозвищу Шуб.
Греммо прищурился:
– Это ничтожество Брованов – международный террорист?
– Нет, не Брованов…
Заведующий махнул рукой:
– Ладно, дальше. Шуб – это приступ?
– Да… приступ шизофрении… или сдвиг. Террорист – на снимке…
Иван Миронович взял снимок со стола.
– О чем ты, Егорушка? Намекаешь, что мне пациента подменили?
– Нет, пациента не подменили. Но все-таки террорист на снимке. Это он самый и есть, нацеленный в ваш отросток… Вы ведь и сами говорите: голова, ноги.
Греммо озадаченно рассматривал контрастированный мозг. Бороздыня не стал дожидаться новых вопросов и быстро сказал:
– Эта свинота додумалась до транслирования себя непосредственно в чужую голову. Через обычную гарнитуру. Оцифровался, скопировался, распаковался в черепе. Живьем. Только размером поменьше – он бы и вовсе до атома сократился, но технология новая, не успел доработать. Мы ему времени не оставили.
Заведующий переводил взгляд со снимка на Бороздыню, туда-сюда; Иван Миронович медленно закипал. Бороздыня вдруг сунул палец в ухо и начал яростно выскребывать там что-то – действие, пришедшее в вопиющее противоречие с его гнетущей дородностью, неожиданно резвое. Греммо нехорошо прищурился:
– Еще одного шпиона поймал?
– А? – очнулся Бороздыня.
– Еще один, спрашиваю? В голову заполз?
– Да нет, ухо чешется…
– Не пришлось бы проверить, с какой-такой радости!… Что за басни ты мне рассказываешь? Ты сам себя послушай: распаковался в черепе, живьем!
– Мы точно не знаем, насколько живьем и в какой форме, – уточнил Бороздыня. – Очевидно, он подогнал себя под новые условия. То есть мы понятия не имеем, чем он там дышит и питается. Это, в частности, нам тоже хочется выяснить, но для этого придется его аккуратненько вытащить и допросить…
– Егорушка! Человечество еще не додумалось до таких фокусов!
– Человечество не додумалось, да, но этот додумался, потому что нелюдь… Он гениальный биотехнолог, Иван Миронович. Начинал мирно: выращивал для страны биологическое оружие – вирусы, микробов. А потом увлекся опасными идеями. Решил для себя, что нужно разрушить мировой порядок – неважно, чьими руками. Начал помогать всякой сволочи, всем подряд, лишь бы взрывать. Он, Иван Миронович, вообще-то считает себя великим государственником и цитирует классиков – в том пункте, что надо разрушить старую машину и построить новую. Для эффективного тотального управления… Новую он и построил, программу свою. Цифровальную машину. Нам она, как вы догадываетесь, тоже не помешает – да что лукавить, она нам отчаянно нужна.
Иван Миронович курил в ладошку, бросал на Бороздыню быстрые взгляды исподлобья.
– Не верю ни единому слову. Человек не сможет скрещиваться с машиной еще тысячу лет…
– Через тысячу лет, Иван Миронович, последователи Шуба переведут человечество в кванты и разошлют по галактикам… Может быть, это и хорошо, но пока он занят вещами попроще. Например, изготавливает жидкую взрывчатку огромной разрушительной силы. Тоже на биологической основе, органическую. Нам и с нею неплохо бы разобраться… короче, вопросов к нему – не перечесть!
– А кто же такой тогда этот наш пациент? Которому я делал снимок?
Греммо выглядел растерянным. Он начинал верить Бороздыне – точнее, ведомству, которое они олицетворяли вдвоем, но полностью поверить не мог.
Бороздыня презрительно скривился:
– Да это просто какая-то сволочь, подвернулась кстати. Просто сосед… Я вам расскажу, Иван Миронович, как было дело. Чистое кино.
6
Шуб, вооруженный паяльником, сидел в кухне и переделывал материнскую плату. Щуплый, он сильно смахивал на крысу, а еще больше – на Геббельса; ему бы пошел наряд из цилиндра, просторных панталон и сюртука, в этом виде он бы сгодился на роль порочного влюбленного, поющего о девушке своей мечты. Жидкие волосы Шуба были мало что прилизаны с зачесом назад, но еще напомажены какой-то гадостью. Чувства Шуба были привычно обострены. Он развлекался микросхемами, которые казались ему не сложнее пасьянса: коротал время в ожидании звонка от заказчика. Ему недоставало круглой суммы, по получении которой он мог бы сменить адрес и полностью переключиться на собственное дело. Оно сводилось к миниатюризации готового устройства. Сидя в девятом этаже многоэтажки, Шуб не мог видеть машин, подруливших к подъезду, равно как не имел оснований выделить шум, ими произведенный, из общего далекого и ровного гула. Однако он отложил паяльник и подошел к окну. Отвел занавеску и моментально уверился в худшем. Времени у него оставалось в обрез.
Прихватив гарнитуру, Шуб выскочил на лестничную площадку и позвонил в соседнюю дверь. Из-за нее донеслось ворчание, переросшее в шарканье; хрустнул замок. Высунулся сосед: долговязый литератор Брованов – тихий пьяница, мистик и порядочная бездарность, не востребованная обществом.
Шуб, умело скрывая лихорадочное нетерпение, оскалил мышиного цвета зубы. Разжал ладонь:
– Купи гарнитуру, сосед. Даром отдаю.
Брованов помотал головой:
– Не, спасибо. Мне не нужна…
Он не понимал, с кем связался. Спорить было бессмысленно, Шуб уже вывел его на площадку.
– Да ты не знаешь, о чем речь… пойдем, покажу!
Брованов не успел и глазом моргнуть, как переместился в самое террористическое гнездо. Еще секунда – и гарнитура охватила его ухо, тогда как Шуб расположился за клавиатурой. Одно рукой он настукивал пароли, другой прицеплял себе к черепу нечто похожее на микрофон, шнуром уходившее в процессор. В дверь позвонили.
– Звонок, – пробормотал Брованов.
– Это ангельская труба, – возразил Шуб и ударил по клавише ввода.
Трубный зов, оставшийся без ответа, не повторился. За дверью решили, что трезвонить далее незачем. Громыхнул взрыв, за ним следующий; двойная дверь повалилась в прихожую, впуская густые клубы белого дыма. Из тумана выскочили воины, вооруженные до зубов, упрятанные в каски, бронежилеты, респираторы и очки.
– На пол все! – заревел самый первый.
Но Брованов и без того лежал на полу. Он повалился за несколько секунд до вторжения и теперь пускал ртом изумленные пузыри. Шуба не было видно, зато из кухни доносились изобличающие звуки некой возни. Автоматчики бросились на шум и поспели вовремя: Шуб уже раскорячился за окном, готовый перелететь на соседний балкон. Ему бы позволили, благо он был нужен живым, не выдерни Шуб гранату. Очередь сорвала его с подоконника вместе с цветочным горшком, и Шуб взорвался по дороге к земле, на высоте четвертого этажа.
Вернулись к Брованову, тот оставался в прострации. Добиться от него не удалось ничего, литератор не понимал, где находится и что происходит. Командир группы собрался вызвать скорую, но тут из спальни выскочил Бороздыня – он занимался там обыском – и вовремя пресек гуманизм. За Бровановым прикатила совсем другая машина, внутри оборудованная по последнему слову медицинской мысли, зато снаружи больше напоминавшая броневик для перевозки золота. Его повезли не сразу, сначала пришлось перевязать ему рану, образовавшуюся на месте уха, потому что гарнитура тоже взорвалась, едва до нее дотронулись.
7
Олтын-Айгуль здорово изменилась.
Это вообще был кто-то другой, прежнее имя сохранилось условно. Она стала ниже ростом, похудела, волосы выцвели и сплелись в пару школьных косичек. Школьным выглядело и короткое платье с передником. Одновременно повысился градус испорченности, которая к досаде и страху Брованова сочеталась с алчностью и высокомерием. Олтын-Айгуль насмешливо смотрела на него, ее терпение было на исходе. Они находились в спальном помещении туристической базы. Олтын-Айгуль стояла среди циновок: голова издевательски склонена набок, руки скрещены на груди. Брованов понимал, что еще немного – и она покинет его ради кого-то состоятельного. Он взволнованно ходил по проходам и рассыпал обещания, заверяя Олтын-Айгуль в готовности заплатить за праздник. Денег осталось в обрез, но пока их еще хватало. Она почти поверила, когда распахнулись двери и в помещение хлынули неизвестные путешественники – пропитанные лесными запахами, кострами, собственными соками и не сразу обратившие внимание на чужаков. Брованов заметался в досаде, ища уединения, тут кто-то и возмутился, намекнув обоим, что места мало, что тесно, что лучше бы им убраться.
– Нам пора на экскурсию, – уверенно объявил Брованов. Он притворялся, уверенности не было, но Олтын-Айгуль неожиданно повиновалась и вообще вдруг сделалась не очень заметной, даже и вовсе не важной.
…Они гуляли по старому пионерскому лагерю, сплошь изрытому свежими траншеями; колоссальные ели, поваленные, топорщились корнями, похожими на лосиные рога. В мокрой и пасмурной зелени копошились мошки. Гуляющих было много, и все они выстраивались – сгонялись – в очереди, которые формировались по количеству пропускных пунктов, где правили военные. Брованов тревожно оглядывался на внушительные комья земли; очередь продвигалась быстро, прапорщик в камуфляже напоминал дорожного регулировщика. Его однополчане, засевшие в стеклянной будке, сноровисто колотили печати в бумаги. Брованов взял Олтын-Айгуль за руку, его беспокойство усиливалось.
– Поторапливайтесь, – прапорщик вручил им пропуска.
Несомненно, он их выделил. Они числились в ведомости.
– Нас ведут, – негромко сказал Брованов. – И уже давно. Все время.
Пейзаж расплылся и стал неопознаваемым. Они шагали вперед, к ним присоединились еще двое: всклокоченная собака и неизвестный тип – ушибленный, молодой, угрюмый. Он молчал и старался не отставать, болтаясь где-то на периферии зрения. Олтын-Айгуль, напротив, бодрилась и сыпала шутками, понять которые Брованов не успевал, они сливались в единый ненарушаемый ручеек смеха. Брованов знал, что обратный путь будет длиться очень, очень долго. Они приблизились к основанию огромной башни, уходившей в облака; башню оплетали спирали виадуков. Башня высилась под углом и была, пожалуй, не столько башней, сколько огромным деревом, крона которого терялась в стратосфере. Спирали расширялись, переходя в продолговатые утолщения – станции, которые тоже оборачивались вкруг дерева ободами, но затем вновь сужались. Станции сверкали разноцветными металлическими огнями. Компания вступила в ствол и моментально оказалась на третьем уровне. Ствол был источен тоннелями, по которым неслись поезда; полупустые платформы дышали дезинфекцией. Повсюду горели табло с непонятными надписями, сидели и прохаживались люди. Обозначались подъемы и спуски, колодцы и шахты, иные заброшенные и весьма опасные на вид. Компанию вынесло на подиум, где был установлен длинный стол. Судей за ним сидело человек десять.
– Распишитесь! – велел председатель, а Брованов не расписался.
– Вы разве не хотите знать, кто против вас играет?
Брованова пронзило: вот! Сейчас обнаружится тайный противник, уже давно идущий по пятам, о котором Брованов смутно догадывался.
– Мы явим противодействующие силы… – Председатель растворился, от него остался голос, и голос сочувствовал Брованову, что и подтвердилось: – Играют трое, а мой голос за вас… Против вас сыграют дважды, а на третий – ударьте! Это легко. Мы покажем вам одного… Знакомьтесь – Бенкендорф!
И недруг, доселе скрытый, нарисовался.
Ясно было, что это не человек, а просто он назывался так для удобства. Рослый, злой детина лет тридцати пяти, одетый в сине-красный мундир, пританцовывал, скалил зубы и угрожал ударить Брованова детскими качелями. Бенкендорф выполнил пируэт, показывая себя. Никто ему не мешал, все наблюдали и ждали. Бенкендорф разминался. Он выбросил ногу в рейтузине и описал ею внушительную дугу. Подпрыгнул, развернулся и выписал новую – два маха, помнил Брованов, дайте ему сыграть два раза. Бенкендорф самозабвенно плясал – открытый, незащищенный. Брованов ударил в ответ, и тот изумленно опрокинулся навзничь. Оказалось, что это легко, вообще ничего не стоит, Брованов мог бить вполсилы, в четверть силы. Он знал, однако, что дальше придется труднее. Это было всего лишь первое, ознакомительное соприкосновение.
– Он самый легкий, – кивнул председатель.
Озабоченные, серьезные, Брованов и Олтын-Айгуль отправились в странствие. Им предстояла длительная борьба, победой в которой назначено участие в дереве. Это было Дерево Цвет, которому надлежало раскрыться в финале. Путь в небеса обещал быть тернистым. Олтын-Айгуль уже не смеялась; собака, высунув язык, деловито бежала рядом; молчаливый молодой человек болтался чуть позади – теперь Брованов не сомневался, что это союзник; он много слабее, но в какой-то момент пригодится.
8
Глядя на свернувшегося калачиком Брованова, Бороздыня испытал прилив ярости. Шуб находился в полутора шагах, но дотянуться до него не было никакой возможности. По досадному свойству человеческой психики форма и содержание слились для Бороздыни в неразличимое целое. Он ничего не мог с этим поделать, замаскированный Шуб уверенно подминал под себя носителя, отождествлялся с ним и выходил на передний план.
Брованов дремал на койке. Локтем он прижимал очередное сочинение. Греммо подкрался и осторожно вытянул бумажный лист. Быстро пробежал глазами.
– Бенкендорф – тебе, Егорушка, о чем-нибудь говорит это имя? – спросил он негромко.
Бороздыня пожал плечами.
– Это Александр Христофорович, граф, начальник Третьего Отделения. С чего вдруг о нем?
– Это я у тебя хочу спросить. Взгляни.
Морща лоб, Бороздыня вчитался в написанное. Иван Миронович похлопал Брованова по плечу:
– Брованов! Проснитесь, обход.
Тот нахмурился, замычал, с усилием перевернулся на спину. Коротко всхрапнул и снова затих, а из уголка рта потекла густая слюна.
– Брованов!
Заведующий отвесил ему шлепок, приподнял веко. Глазное яблоко потерянно поплыло, но вот вернулось и мутным зрачком уставилось на Греммо.
– Просыпайтесь, довольно валяться!
– Какая-то белиберда, – Бороздыня встал рядом. – Снова Дерево Цвет и какие-то невнятные намерения.
– Плюс Бенкендорф, – напомнил Иван Миронович. – Его не было. Это что-то новое.
– Он проснулся. Потом обсудим…
Брованов и вправду пробудился – по крайней мере, наполовину. Он не шевелился и следил за обоими мутным насупленным взглядом.
– Узнаете меня? – осведомился Греммо.
Брованов прикрыл глаза. Это могло означать что угодно. Иван Миронович вынул неврологический молоточек.
– Давайте немного соберемся. Вы можете, я вижу. Смотрите на молоток. Голова неподвижная, только глазами. Сюда…
Молоточек уехал влево, и Брованов не без труда покосился на него.
– Отлично! Теперь сюда…
Но силы Брованова истощились, он вновь задремал, и больше Иван Миронович ничего не сумел от него добиться. Тогда Греммо принялся поднимать и опускать ему руки и ноги, колотить по ним молотком, колоть иглой.
– По идее, у него должно шуметь в правом ухе, – пробормотал заведующий. – Правый фациалис уже отказывает…
– Что отказывает? – встрепенулся Бороздыня.
– Лицевой нерв… к сожалению, я не могу заставить его зажмурить глаза и оскалить зубы, но складочка уже поехала. Что вполне ожидаемо при такой локализации очага…
– Иван Миронович, попроще.
– Шуб! – повысил голос Греммо. – Твой Шуб, Егорушка, со всеми удобствами разместился в области, где у людей проходят нервы… лицевой, слуховой… Спасибо, что его не раскидало шире. Пациент соответственно реагирует.
– Давайте не здесь, – Бороздыня заговорил недовольно. – Откуда нам знать, как он реагирует? Он может придуриваться. Лежит в забытье, а сам отлично нас слышит.
Греммо оскорбился:
– По-твоему, Егорушка, я не умею отличить сопор от симуляции?
Егорушка опасливо оглянулся:
– Я не о нем… Шуб, может быть, нарочно там окопался, чтобы подслушивать.
Иван Миронович крякнул, приготовился сказать что-то ядовитое, но передумал.
– Хорошо, пойдем отсюда от греха…
Бороздыня завис над Бровановым, как будто ждал, что Шуб выскочит из уха и подастся в бега. Брованов лежал расслабленный, будто лишенный костей. Его рот немного скособочился и уподобился каплевидной щели. Дыхание было ровным, но ровным нехорошо; спокойствие выглядело как обреченное ожидание. Испарина подсыхала. Над бровью кружила муха, непонятно откуда взявшаяся вопреки электронным запорам и потайным пулеметным гнездам. Бороздыня принюхался.
– Чем от него так гнусно пахнет?
– Ацетоном, – буднично отозвался Греммо. – Твой квартирант своротил ему регуляцию сахара. Это, я думаю, беда поправимая.
– Регуляция сахара, – мрачно повторил Бороздыня. – Только ли ее? Хорошо бы его связать. Как вы, Иван Миронович, не боитесь так запросто к нему подходить, браться за него? Наверное, я плохо расписал этого дьявола, который внутри.
Заведующий усмехнулся.
– Ты за меня не волнуйся, Егорушка. Хочешь, померимся, на руках? Я тебе фору дам. Никогда не суди по внешности. А гражданина привяжут, когда будут капать капельницу.
Они покинули палату
Иван Миронович рассердился и еле сдерживался, хотя Бороздыня хрюкнул, что означало раскаяние. Желтоватые щеки разрумянились; вкруг лысины встопорщилась пегая шевелюра. В соседстве с массивным Бороздыней он выглядел уморительной зверушкой. Но Бороздыня припомнил легенду, гулявшую в недрах ведомства: предание гласило, что Греммо однажды, в стремлении помешать буйному пациенту сбежать и выдать государственную тайну, ненароком сломал тому ногу, когда осуществлял захват. Сломал ее в шейке бедра, и там нога переставала быть ногой, потому что стоял протез, так что Иван Миронович переломил никакую не кость, а титановый стержень. Бороздыня подозревал, что все это вранье – может, протез и стоял, но какой-то другой, уж никак не титановый; наверняка доктора нажились на операции, вставили что-нибудь подешевле, а то и вовсе ничего подобного не было. Но ему вдруг расхотелось мериться силами с Иваном Мироновичем. Черт его знает.
9
Вскоре Греммо успокоился, взял себя в руки. В кабине лифта он посмотрел на спутника снизу вверх и доброжелательно улыбнулся.
– Ладно, Егорушка, хватит мне пачкать мозги. Тут такая секретность, что шита белыми нитками. Время гениальных одиночек давно прошло. Без помощи со стороны твой террорист никак не мог соорудить такую штуковину.
Бороздыня вздохнул, повел плечами, которым было тесно в наутюженном халате.
– Что рассказывать, Иван Миронович, коли сами знаете. К чему вам это? Меньше знаешь – крепче спишь.
Кабина звякнула. Заведующий вышел в проем, обернулся.
– Анамнез! Правильно собранный анамнез – залог успеха. Мне нет никакого дела до ваших разработок, но пациент – вот он, передо мной, и в голове у него завелся патологический очаг. Чем больше я буду знать об этом очаге, тем лучше для дела.
Бороздыня потер ладони.
– Ладно. Конечно, мы приложили к этому руку… Это наша затея. А куда денешься? – Его голос наполнился горечью. – Страна-то пропадает. Государство дышит на ладан. Лагеря не помогут, современные технологии – это вам не Беломорканал. Как заставить, если не через прямой контроль умов? Мы разработали метод, и наш герой был ведущим специалистом. Но его перекупили!
Иван Миронович облизнулся.
– Кто?
– Да те, кто обычно! Словно не знаете!
Они остановились перед ведомственным кафетерием. Греммо азартно подбрасывал на ладони ключ от личного кабинета.
– Тогда, наверное, Бенкендорф – это его оперативный псевдоним? Вроде как охранитель?
– Да ничего подобного – расстроенно скривился Бороздыня. – Я впервые слышу о нем… Очевидно, он просто бредит.
– Еще бы ему не бредить! Но этот бред меняется… Он становится, – Греммо со вкусом прищелкнул пальцами – кинематографическим, как у нас выражаются. Он делается более структурированным.
Мимо прошел огромный, тучный доктор в просторных одеждах и на ходу приветствовал Ивана Мироновича. Протиснулся в кафетерий, на миг заполнив дверной проем. Бороздыня проводил его взглядом.
– Не надо бы нам здесь маячить, пойдемте возьмем по салатику.
– Перекусим, – не стал противиться Греммо.
Бункеры бункерами, а столовые остаются прежними. Эстетика, рождающая цитадели, выдает себя в шаблонах общественного питания. Собеседники встали в очередь, сняли пластиковые подносы, поставили их на стальные округлые рельсы, покатили вперед – приобретая по ходу салаты, муссы, суфле; поспешая щипцами нахапать хлеба, создавая заторы перед кофейными и чайными машинами. Капитан поваренных войск налил им бульона из поварешки, уронил в макароны по шершавой котлете и поджал губы, когда оба отказались от компота. Для сухофруктов не существует званий и допусков.
Бороздыня нес свой поднос, образовав с ним единое монолитное целое; Иван Миронович преувеличенно балансировал и притворялся рассеянным обеспокоенным чудаком. Сели в углу, друг против друга, и Бороздыня зашептал, почему-то оборачиваясь на огорченный компот:
– С этим государством, с этими людьми управится лишь душегуб планетарного масштаба. Прямое мозговое руководство, гаджетизация населения.
– Только душегуб и справится, – кивнул заведующий. – Егорушка – а на хрена оно вообще нужно, такое государство, с которым справится только душегуб?
Бороздыня закашлялся, посмотрел на Греммо исподлобья. Тот беспечно уплетал оливье.
– Вернемся к теме… Структурированный бред – это как?
– Упорядоченный, – ответил Иван Миронович с набитым ртом. – Проработанный. В этих отчетах начинают прорисовываться события. Они фантастичны, но в них появились причинно-следственные связи. Это довольно странно. Обычно бывает наоборот: чем дальше заходит процесс, тем бессвязнее построения.
– И что это может означать?
Иван Миронович покончил с салатом и взялся за суп.
– Скоро узнаем. Не исключено, что поток сознания управляется вашим террористом.
Бороздыня проглотил настолько крупный кусок булки, что горло у него вздулось огромным горбом – на секунду.
– Так я и думал. Можем ли мы ожидать нападения?
Иван Миронович высосал из ложки лапшу.
– Можем, Егорушка. Если мозги не развалятся. Ваш молодчик должен действовать аккуратно и не бродить по чужим извилинам в грязных галошах.
– На снимке он держится скромно и смирно…
– Он, Егорушка, позирует. Издевается над тобой.
В кармане у Греммо затрезвонило. Он отложил ложку, выцарапал телефон, послушал, хмыкнул.
– Скажи ему спасибо, Тамарочка. И никуда не пускай. Впредь в одиночку к нему не ходи, бери пару. Шокером его, если что.
Иван Миронович отключился и болтанул ложкой в тарелке.
– Что там? – осведомился Бороздыня.
– Наш герой вызвался помогать. Вынести капельницу.
– И как это понимать?
Заведующий закатил глаза:
– Что ж… Самостоятельный вынос отработанной капельницы – почетная обязанность каждого гражданина.
– Я серьезно, Иван Миронович.
– А что серьезно? Серьезно то, что он сравнительно оклемался. И снова взялся за свою писанину.
Бороздыня отставил глубокую тарелку, придвинул мелкую, разрушил котлету.
– Пусть пишет – что такого?
Греммо поднял палец:
– Шуб угнездился в участке, отвечающем за важные функции. И если пациенту стало лучше, то это означает одно: Шуба там больше нет. Я думаю, он перебрался в другое место. Или хотя бы подобрал свои грабли. При таком мастерстве нам будет не так-то легко его вынуть – если, конечно, мы хотим, чтобы носитель остался в живых.