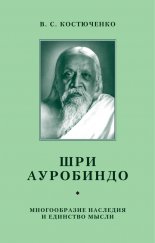Избранные произведения (сборник) Шойхет Александр

Я сижу на нарах и вспоминаю мгновения. За решеткой – небо… Небо везде одинаковое…
Нет, оно разное. Оно по-разному прекрасно. Оно по-разному равнодушно-жестоко… А витки-мгновения наплывают…
Четыре!.. «Папа, – говорит мой сын, – почему ты не читаешь? Почему ты замолчал?»
Вокруг нас тишина – и зеленые стены спальни и зеленая спинка дивана, к которой прижался сын, слушая страшную сказку про лесного оборотня… «Знаешь, – говорю я, – давай я тебе другую расскажу – про золотой град Иерусалим».
И начинаю, совсем как та зловредная бабка в детстве, а потом распаляюсь и фантазирую про град Иерусалим и про то, какие там живут люди, смелые и мудрые, хитровато-веселые и добрые, и…
– Папа, – серьезно говорит мой сын, – а ты сам это придумал, эту сказку…
– Почему?
– А таких городов не бывает…
– А если?
– Мама говорит, что ты все время фантазируешь, что нам от твоих фантазий будет плохо…
– От фантазий не бывает плохо. Спи.
– А мы с тобой поедем в твой город?
– Полетим…
– Тогда хорошо… Я люблю самолеты, – говорит сын и вздыхая засыпает…
Время, время… Какое ты быстрое, когда мы счастливы, какое ты клейкое и стоячее, когда вокруг беда и страх…
Пять!.. Пламя костра, летящие алые языки в темное ночное небо… И тяжелые усталые пальцы перебирают струны, рвутся, спотыкаются в ритме…
- Кожаные куртки,
- Брошенные в угол!..
– Давай другое!..
- В ре-е-чке Каменке
- Бьются камни…
– Долой Якушеву!
- В далеких безводных песках Джемете,
- От чуждого взгляда скрываясь веками…
– Куда же вы торопитесь, «Поручик»?
– У «Поручика» вчера был день рождения.
– Кто мою сигарету с… взял?!
– Якушеву!.. Нет, Визбора!..
– Плесни сюда… Да не сюда, дурак…
– Куда ты меня сажаешь? Я же без купальника!
А Барон сегодня фаллический символ нашел. Не слабец!
– Кто это водку в таз налил?
На концах удлиненных рей!..
– Нашему «шефу» кошмарный сон приснился. Будто падает он на зачищенный скелет, и скелет, и вся керамика вокруг – в порошок!
- Ночь притаилась за окном,
- Туман рассорился с дождем.
- И беспробудный вечер,
- И беспросветный ве-е-чер…
Костер до неба. Ветер свистит с Азова. Запах близких водорослей, брошенных на берег недавним штормом. Люди на берегу отдыхают. От дневной жары. От трудной работы…
Отдыхают в песнях. В темном кошмарном вине. И женщина, уже другая, шепчет:
«И-иде-е-м за ка-а-мни». И в камнях, скользких мокрых баранах, шипит вода. «Вот здесь», – говорит женщина. Кеды, шорты, майка летят в сторону, в песок, все сливается – черное пространство неба, белый песок, мокрые камни, пахнущие йодом, серебристая звездная дорога… Женщина сходит с ума подо мной, ее зубы мучительно скалятся в лунном свете, ее стоны пугают чаек, ее живот и бедра вминаются в меня… И мы, кентавр с двумя торсами, вращаемся в пространстве между небом, морем и землей. Ее короткие светлые волосы перемешаны с морским песком, ее дыхание успокаивается в такт грохоту прибоя, ее руки и ноги разбросаны, как будто она хочет охватить все огромное звездное пространство над нами. Темные волны накатываются на берег. Дальний отблеск костра. Ш-ш-ш-ш! И далеко-далеко гитара. Как будто ветер по струнам.
– Ты слышишь? Я люблю тебя, – шепчет женщина. Она заглядывает снизу в глаза. – Давай уедем с тобой… далеко-далеко…
– Где это? далеко-далеко?
– Т-а-а-м на берегу другого моря… Нет, я серьезно… У меня брат в Калифорнии…
– Я не хочу в Калифорнию.
– Не хочешь?
…Хо-чеш-шь… Хо-чеш-шь… шипит прибой в камнях. Ночь в молочных брызгах звезд.
Алые угли догорающего костра. Люди в штормовках, устало бредущие к палаткам. Тихий звон гитарной струны… Осколки античных сосудов хрустят под ногами…
- …Их дамы не носят колечек в ноздре,
- Мужчины не делают татуировки.
- И хлещут они на вечерней заре
- Напитки без градуировки…
– Джимми, ты идешь? Джи-и-и-и-м-м-и-и!
Когда это было? Вчера? Десять лет назад? А может быть, это еще повторится, только в другой жизни? Нет, не будет другой жизни.
Другая жизнь у меня сейчас, здесь, в этой тюрьме. Мои соседи по камере – уголовники-марокканцы – ко мне относятся почему-то хорошо, снисходительно, жалеют… Оле-ха-даш ми Русия… Что поделаешь, несчастный парень. Ничего не понимает в жизни.
Сел за чужую хаверу. Сумасшедший. Больной. Они угощают лепешками и сыром. Бери, мотек, это вкусно… Их громкая камерная жизнь, их смех и ругань текут мимо меня. Ибо мое время вращается по замкнутому кругу… Шесть! Серая декабрьская пелена над городом, серая оттепель. Серая толпа перед московским Киноцентром, беснующиеся, оскаленные тысячелетней ненавистью пасти. Полосатые платки палестинских студентов и лакированные картузики на льняных кудрях россиян. Впереди мечется человек с мегафоном, что-то визжит и выплевывает в мегафон. Милиция с трудом сдерживает напор славяно-палестинской толпы. Толпа не желает, чтобы был съезд евреев. Позор для первопрестольной! Позор для русского человека! Мало «своих», так со всего мира понаехали, гады. Долой их! Вон их! Так его, так, по башке плакатом! В кррровь жида! «Менты, сионистами купленные! Не пускать их!» – Милиция сочувственно сдерживает негодующих россиян и их палестинских братьев: нельзя, мол, бить, у нас демократия. А толпа налезает, разинув рты, выкатив налитые злобой глаза…
Ж-ж-и-д-д-ы!
За моей спиной, взявшись за руки, молодые крепкие ребята из киевского «Бейтара» запевают на иврите. Я не знаю слов, но мотив сразу захватывает серое пространство, заглушая поросячий визг напирающей толпы.
…Иерушала-и-и-м шель зах-а-а-в!..
Сзади подходят двое из охраны съезда, у одного – красно-черная повязка «анарха», у другого – «жовто-блакитная», руховская. «Вы бы, Павел, отошли назад, в случае чего, все ж возраст у вас», – говорит руховец». У меня возраст?
Хотя для этого мальчика, конечно… Неужели мой возраст уже не для драк? И меня оттесняют ребята из охраны… Так и осталось это мгновенье – нарочитая беспомощность «ментов», звериный оскал толпы и стоящая плотно стенка молодых парней.
Сине-белое, красно-черное, желто-голубое… Это не было возможно никогда раньше.
Это не повторится никогда потом. Но это было!
Семь! На проводах был только один мой русский друг… Нет, мы никогда не были друзьями, но в моей последней экспедиции он почему-то часто оказывался рядом. Как будто чувствовал, что я прощаюсь с прежней жизнью. О таких, как он, вспоминают, когда их нет рядом. Его прозвали Джимми. Наверное, из-за шкиперской бороды… Он бежал за уходящим вагоном и кричал: «Вызов! Вызов мне пришли! Я не хочу здесь оставаться… Иерусалим…
Хоть краем глаза…»
Так и осталось в памяти – темный, уходящий назад перрон и бегущий Джимми…
Я уехал один. Мой выросший сын не уехал со мной. Мои женщины забыли меня.
Я вошел в другой мир одиночкой, и одиночкой крутился в этом новом мире, чтобы выжить. У меня не стало любимой работы. У меня не стало своего угла. Я должен был забыть мой прежний язык, который никто здесь не понимал. Я должен был забыть все мои прежние жизни, ибо здесь это никого не интересовало. Я брался за любую работу и никогда не спорил с моим хозяином. Моим хозяином… Моим хозяином… Я забыл, какого цвета бывает небо, я забыл, как пахнут морские водоросли. Я понял, как солнце бывает жестоким, а вежливая улыбка источает издевку…
Но я не роптал на судьбу. Ведь моя давняя мечта, мой золотой Иерусалим был где-то рядом. Только вот вырваться в него я никак не мог. Работа… работа… работа… Но я знал, что буду в нем, немного разгребусь с делами, со временем…
Восемь! На этот шук я забрел случайно. Говорили: ты что, шук Кармель – это же знаменитое место, это надо видеть, слышать, и купить можно дешево. Мне и надо было немного фруктов, в конце дня даже бесплатно, торгаши выбрасывают с прилавков…
И тут я внезапно увидел пару. Оба были такие белые, сразу заметно, что здесь недавно…
…Но все дело было в нем, в этом здоровенном смуглом торгаше и его товарищах… Все они весело ржали. А ржать было над чем. Очевидно, женщина решила купить белье и спросила о чем-то торгаша, а тот, пользуясь незнанием и беззащитностью этой молодой красивой «руссии», внаглую, открыто лапал ее на глазах растерянно улыбавшегося мужа, делая вид, что примеряет какие-то тряпки. Вокруг хохотали, оскалив белозубые здоровые рты…
И я пошел прямо на него, на этого кабана, не понимая еще, что со мной творится, и голос моего далекого тренера, Сан Юрьича, проорал в ухо: «Нырни! И боковуху раз-з!»
И я-таки нырнул…
Я помню, как вокруг сразу стало тихо, и в этой тишине громадная туша, плавно сшибая с прилавков тряпки, овощи, сласти и прочая, приземлилась в грязь… И это было легкое и замечательное мгновение…
Я сижу и смотрю на небо. Где-то рядом мой золотой Иерусалим. Всего час езды автобусом. Хорошо птицам, у них это без проблем. Но ведь если очень захотеть… Я слышал или читал давно, что возможно. Только надо очень захотеть… Как это называется?
Левитация? Или что-то такое… Господи, помоги мне!.. Только бы посмотреть один раз…
Золотой Иерусалим… Но что это? Ноги мои… Плывут по воздуху?! Я шагаю, черт возьми!
Вот оно, пространство… Мои марокканцы смотрят снизу, и глаза их под покатыми лбами восторженно стынут… А решетки? Ведь их как бы и нет? Нет! И синий воздух вокруг…
Ха-ха! Вот он, дурак, пялится внизу и фуражка свалилась… Не лапай кобуру, бесполезно! Привет миштаре всего мира! Я же натурально лечу! Это уже у Шагала было… А? Значит, не соврал старик… Ух, высота! И не страшно…
Я вижу его, мой золотой Вечный Город! Потому что в этом мире нет ничего невозможного, надо только очень захотеть! Вот оно, мое счастливое мгновение…
Стрельба из пистолета по движущейся цели
…Сегодня, придя со смены, долго не мог успокоиться. Да и было с чего. Чтобы придти в норму, вылакал граненый стакан водки, чего раньше себе не позволял. И никак не мог расслабиться. Все внутри дрожало. Нет, это не был страх, это было что-то другое. Похоже на состояние перед выходом на ринг.
Произошло со мной то, что и должно рано или поздно произойти с любым охранником в Израиле. А именно – безвыходная ситуация, когда по всем законам охраны объекта, неважно, под охраной у тебя отдельный человек или целое кафе со всеми посетителями, ты должен стрелять в террориста и формальное право на стрельбу у тебя есть, но… Вот эти проклятые «но»!
На всех моих зачетах по стрельбе в бат ямском тире (а было этих зачетов за десять лет у меня немало) наш мадрих[12] Симон любил говорить:
– Этот экзамен, что вы каждый год сдаете, – это все ерунда. Вы стреляете по неподвижной мишени! – И он сурово осматривал стоящих перед ним в шеренгу охранников, большей частью пожилых «русских», старавшихся вникнуть в его гортанно-клокочущий иврит. – По неподвижной мишени! И дистанция у вас – двадцать шагов! А вы не можете толком попасть в центр мишени! Что это такое? А в боевой ситуации? Хас ве халила![13] В боевой ситуации ваша цель – террорист, не будет стоять на месте. Он будет – что? Правильно. Он будет двигаться! И он будет двигаться на вас! У террориста, у шахида, какая цель? Проникнуть на объект и взорваться! А какая цель у охранника? Остановить его. Любой ценой. Так что в жизни стрелять вы будете по движущейся цели! А в тире вы не попадаете в неподвижную мишень! Так, хэвре![14] Разбирайте патроны и будете стрелять, пока не посинеете! А то не получите зачета».
Но самое интересное начиналось уже после того, как мы, пожилые охранники, одуревшие и оглохшие от четырехчасовой пальбы в маленьком, душном помещении, и сдавшие этот ежегодный треклятый экзамен, ожидали получения заветной «корочки», подтверждавшей наше право на ношение оружия. Мадрих обычно собирал нас в тесной комнатке-предбаннике и начинал, как он говорил, правовую подготовку.
– Ну, а теперь я дам вам пару практических советов, – говорил он обычно, – Вы знаете, что нельзя применять оружие в закрытом помещении, ибо возможен рикошет пули от каменной стенки. Нельзя открывать стрельбу в месте скопления людей, можно попасть в постороннего человека. Нельзя также стрелять в подозрительного человека, если вы не уверены в том, что этот человек – террорист и собирается взорваться. Вы спросите меня (и часто спрашивают), что делать в этих случаях? По закону вы можете пытаться остановить его окриком, скомандовать – «стой» и «не двигаться». Если не подчинился, тогда стреляй в воздух.
– Ну, а если он и тогда не остановится? – ехидно спрашивал кто-либо из экзаменуемых. – Что тогда делать?
Этот вопрос задавали всегда, на каждом экзамене, ибо это самый больной вопрос израильских охранников. Вопрос, торчавший больным зубом у каждого, кто когда – либо стоял с оружием у входа в школу, банк, супермаркет, кафе, кинотеатр или Центральную автобусную станцию. Что делать, если подозреваемый тобой человек ведет себя нестандартно в стандартной ситуации? У всех на памяти был печально знаменитый случай с «русским» охранником религиозной школы, открывшим огонь на поражение по не реагировавшему на окрик наглецу и загремевшим в тюрьму на десять лет за «непредумышленное убийство».
Наш мадрих, в прошлом «расар»[15] спецназа «Гивати», отвечал всегда четко, нимало не колеблясь:
– Хэвре! Вы отвечаете не только за себя, но и за жизнь охраняемых вами людей. Поэтому действовать надо по обстановке. Что это значит? Это значит, что лучше сидеть живому в тюрьме, чем лежать мертвому на кладбище.
При этом он многозначительно подмигивал нам и добавлял:
– Я вам ничего не говорил. Ясно? Но помните, в боевой ситуации ваша цель будет двигаться! Двигаться на вас. И стрелять вы можете только до расстояния в двадцать шагов! Двадцать шагов до цели! Если будет ближе, то это уже бесполезно. Потому что после двадцати шагов все осколки, все гвозди и шурупы полетят в вас!
И вот с этими, вбитыми в мой мозг «практическими советами» я и стоял на входе в наше здание со странным названием «Африка – Исраэль» сегодня в утреннюю смену и радовался, что мне повезло не работать в ночь, и погода такая не по зимнему теплая, и небо голубое… Все было хорошо. Даже слишком хорошо в это утро.
Я наслаждался утренней тишиной, прозрачно-голубым небом, чистым воздухом утреннего Тель-Авива, до моего слуха доносился шорох колес редких машин и воркотня диких голубей на вымытой легким ночным дождем площади перед нашей «высоткой». Но вот уже первые работники многочисленных офисов потянулись к дверям главного входа, и очень скоро хлынет сюда толпа сотрудников и клиентов, и начнется обычный суматошный день.
Я машинально взглянул на часы. Без десяти восемь… И тут что-то заставило меня внутренне напрячься. Я даже не сразу сообразил, что. Какое-то неуловимое изменение в окружающем пространстве. Некое нервное движение. Первое, что я заметил, точнее, услышал – шедшие к охраняемой мной двери люди почему-то резко затормозили. Изменился ритм шагов. А дальше все развивалось, как в замедленном кино…
Одновременно я увидел… Как шедшие к входу в здание «датишный»[16] в черной шляпе, лапсердаке и смешных чулочках на тонких ногах и роскошных форм секретарша одного из наших адвокатов, в очень смелой мини-юбке, резко затормозили, как бы зависли в утреннем туманном воздухе. А перед моими глазами обозначился девичий силуэт, закутанный в длинное черное одеяние, в темном платке, наполовину закрывавшем лицо… Арабка! И, конечно же, мусульманка! Таких я видел в Нацерете, в последнее время такие все чаще встречаются в Яффо… христианки так не одеваются… Двигается по направлению ко мне. Ее губы что-то шепчут…Что это? Молитва? Она молится. Что ей нужно здесь, в центре Тель-Авива в такое время? Она приближается…Черт! Если молится, значит…Террористка? Рука скользит к правому боку, там, где пистолет… Рукоять сама ложится в ладонь… Сколько осталось до надвигающейся фигуры? Двадцать пять? Двадцать? Как быстро она идет! Надо стрелять! А если показалось? Если она просто идет куда-то… Все! Уже поздно! Пятнадцать… Десять! И вот она стоит передо мной! Темные большие глаза смотрят в упор. Губы шевелятся… Она что-то говорит мне, а я не понимаю. Говори громче! Взгляд ее темных красивых глаз. В них испуг. Немая просьба. И… еще что-то. В их глубине. Страх? Ненависть? Что она говорит? Я не понимаю арабский! Она повторяет. – «Еш кан хевра бишвиль нашим мукот?»[17] Тьфу! Это же иврит! «Нашим мукот». Это какая – то контора по делам избиваемых жен! И застывший было окружающий мир, обрушивается на меня водопадом звуков. Звуков просыпающегося города – шумом машин и автобусов, стуком дверей магазинов, грохотом мусоровозки, криками грузчиков, разгружающих хлеб в соседнем магазине… Она что-то говорит и смотрит на меня огромными тревожными глазами. Нет, милая, такой конторы в нашем здании нет. А где есть? Не знаю. Но мне сказали, что это где-то здесь. Возможно, но не здесь. Адрес есть? Да, улица Генриетта Сольд, двадцатый номер. Это направо и до пересечения с параллельной улицей. А есть здесь кафе? Да, есть, за углом. Спасибо… Иди направо… Уф!
Она уходит от меня какой-то неуверенной походкой, плавно покачивая бедрами. На ходу оглянулась через плечо. Вот свернула за угол. Люди на тротуаре начинают двигаться по направлению к входу в здание. Окружающий мир возвращается в норму. Звуки… Краски… Запахи. Рука моя сползает с рукоятки пистолета. Автоматически проверяю сумки заходящих в здание людей, а сам чувствую, как по спине стекает пот. И всю смену работаю, как в тумане. Все мышцы тела как – будто налиты свинцом. На вопросы отвечаю автоматически. В обеденный перерыв вкуса еды не чувствую.
И только придя домой и став под душ, постепенно оттаиваю от напряжения. Опрокидываю в себя стакан водки. Но доза спиртного не расслабляет. Внутри присутствует ощущение какого-то ледяного стержня. Надо было что-то с этим делать, и я занялся чисткой и жаркой картошки, вспомнив один из советов моей покойной тети Риты: если немедленно не можешь решить назревшую моральную проблему – поработай руками. Работая руками, одновременно вливаю в себя второй стакан. На голодный желудок – нехорошо. Но помогает. Тело расслабляется. В голове появляется философская легкость мыслей.
Ну, и что же хорошего мы видим вокруг себя? И когда наступит всему этому конец? Вот сегодня мы стояли с ней, с этой молодой арабкой, напротив друг друга, и у меня возникло ощущение, что весь остальной мир замер вокруг нас, застыл. И жили в этом мире только мы, два полюса, два антипода, плюс и минус, и ждали… Чего? Что между нами вспыхнет разряд невиданной мощи, уничтожающий все вокруг? Смерти? Вечной жизни? В ее красивых глазах читался страх, надежда, мольба. И еще. Ненависть. К современному красавцу-городу, возникшему на песчаных дюнах сто лет назад. Ко всем этим евреям, виноватым в том, что ее избивает муж и жизнь окрашена только в черные краски. Ко мне, пожилому «русскому» охраннику, преградившему ей дорогу к большому красивому зданию, где работают кондиционеры, и так вкусно пахнет хорошо заваренным кофе и свежими булочками из работающего в этот ранний час кафе.
Кто разрешит этот трехтысячелетний спор между кровными братьями?
Кому из людей это под силу? Или это под силу лишь Творцу этого мира? Мира, в основе которого лежит кровная вражда между братьями. Каин и Авель. Ицхак и Ишмаэль. Иаков и Эсав. И так оно и будет длиться до конца времен. Пока последний человек не исчезнет с лица Земли.
Мои философские мысли прервал назойливый звук скворчащей на сковородке картошки, и я тут же почувствовал волчий позыв моего изголодавшегося желудка. Ну, если голоден, значит, еще поживем! Вывалил жареную картошку в глубокую тарелку, быстро порезал большой сочный помидор, опрокинул в себя третий стакан водки (имею право!) и с наслаждением погрузился в трапезу, ощущая все своим существом, что все же живу. Живу в этом неуютном и малопригодном для жизни мире. Живу вопреки страстному желанию меня уничтожить.
Я вдруг понял коренных израильтян, упрямо идущих в кафе, рестораны и торговые центры через несколько часов после терактов. Вот вы нас взрываете, а мы все равно будем веселиться, наперекор вашей ненависти!
Ничего не поделаешь, надо жить дальше. «Дум спиро – сперо». Я забросил грязную посуду в раковину (мыть не хотелось) и расслабленно рухнул на диван. Автоматически включил «телик». На экране было шумно, по «русскому» каналу показывали очередной «бандитский» сериал со стрельбой и погоней. Актеры ненатурально гримасничали и картинно размахивали «стволами». Вас бы сюда, к нам, в нашу ближневосточную кашу. Я выключил телевизор, и сразу стало тихо. Потолок медленно закружился в вальсе, зазвучала в ушах музыка и, уже погружаясь в сон, вспомнил закутанную в темное одеяние фигурку арабки, ее красивые глаза, смотревшие с укором, припудренный синяк на лице: «А все же хорошо, что я не стал стрелять. По движущейся цели. Не дай Бог, чтобы пригодилось это страшное умение – умение убить человека».
Путешествия странного человека
(рассказы о господине Н., о его удивительных приключениях в России, Израиле и иных местах)
Глава первая
Интродукция
Большинство живущих в этом мире людей уверены, что они живут на свете лишь определенный отрезок времени, а именно: только здесь и сейчас. Более того, есть целые философские направления, которые доказывают доверчивым прожигателям и проедателям жизни, что это именно так и есть, и нет никакого прошлого и будущего, а лишь длящееся настоящее.
Человек просыпается утром, идет в туалет, чистит зубы, варит себе кофе. Потом завтракает и одновременно смотрит в окно, глядя на просыпающийся мир. Потом он едет на работу, нервничает в «пробках», на работе ругается с подчиненными или получает «втык» от начальства, звонит жене или любовнице. Возвращаясь с работы, заезжает в ближайший супермаркет за покупками, забирает детей из школы (если они у него есть), вечер проводит в кругу семьи или же в объятиях подруги, смотрит телевизор и, наконец, засыпает, чтобы назавтра повторить привычный круговорот. И не замечает, как проходит жизнь. Но однажды, особенно если привычная рутина прерывается каким-то странным или трагическим образом (предательство друга, смерть родителей, измена жены с последующими скандалами и неизбежным разводом), что-то ломается в видении человека, в понимании им жизни. И вот он пугается своего открытия и начинает что-то судорожно искать, то ли в себе, то ли в окружающем мире.
Он начинает искать истину. Сначала – в умных книжках, потом – в священных текстах разных религий. Но умные книжки написаны такими же людьми, а священные тексты недоступны пониманию из-за своей метафоричности и архаичности, все это требует особых знаний и подготовки. И тогда человек, с подступающим к горлу отчаянием, пытается вспомнить что-то важное, что открывалось ему когда-то в детстве, в юности или… когда? И внезапно к нему приходит понимание, что его жизнь – это путешествие. Что он всего лишь скиталец, странствующий в разных мирах, проплывающих мимо, и ничто, к сожалению, не повторяется. Мир детства… мир отрочества… юность… молодость… зрелость.
Что же было там необычного? Ведь было же что-то, что осталось навсегда в памяти… Как путешественник, что привозит из дальних странствий какой-то сувенир, игрушку из цветного стекла, розовую морскую раковину или резную деревянную маску и ставит их на полку, так и от путешествий во времени остаются следы. Воспоминания… Сны… И странное, горькое ощущение чего-то Несбывшегося.
Ведь каждому, даже самому на вид примитивному и грубому человеческому существу свойственны, особенно в начале жизни, мечты о своем будущем. Ребенок или юноша грезит о подвигах… О доблести, о подвигах, о славе… О любви к прекрасной женщине… О невероятных приключениях…
И плывет человек по океану жизни, из страны в страну, из мира в мир. И уносит с собой обрывки событий, воспоминаний, фантазий… Но все складывается не так, как мечталось, и нет времени исправить, и прошлое растворяется, как след от винта за кормой корабля. И горькое ощущение того, что могло случиться, но… не сбылось…
И только на пороге старости, на грани сна и яви, тихими шагами вступает в свои права и сверкает радужными красками то недостижимое, непостижимое и таинственное, как гавань неоткрытой человечеством земли – Несбывшееся.
Израиль. Бат-Ям.
(август 2004 года)
Некий пожилой господин (будем называть его для краткости – господин Н.) проснулся с довольно тяжелой головой в пустой квартире от того, что луч закатного солнца, пробившись сквозь жалюзи, вонзился ему в правый глаз. Еще находясь во власти сна, он недовольно заворочался, силясь уйти от неприятных золотистых иголок, пронзавших плотно зажмуренные веки, но эти бесполезные усилия привели лишь к тому, что он окончательно проснулся. Отбросив ногой простыню, полежал несколько минут спокойно, приходя в себя, медленно возвращаясь в действительность. В комнате было душно, (кондиционера в съемном жилище не было), а напольный вентилятор помогал мало, гоняя нагретый воздух безо всякого толка. Употребив некоторое усилие, пожилой господин все же отодвинулся от нахального закатного луча в более прохладную часть своего ложа и попытался вспомнить, что же ему приснилось перед пробуждением.
Ему уже давно не снились сны. Пожалуй, с самого отъезда в Израиль. А тут, вдруг… Сон же был какой-то тревожно-скверный. Господин Н. пытался вспомнить детали, н-но… перед мысленным взором вяло раскручивалась некая серая муть. Потом… в этой мути забрезжило нечто… Густозеленая ветка над головой… Ветка качается под ласковым прохладным ветерком. Ветка клена, растущего рядом с верандой… Он лежит на раскладушке, над ним деревянный потолок… лампочка свисает на скрученном шнуре… сбоку налезает густая зелень ветвей клена и, сквозь листья, – кусочек голубого летнего неба. И голоса… Знакомые, родные голоса. Нет, он не видит их лиц. Но они рядом. Вот тетя Рита поет арию из классической оперетты. Серьезная женщина, а любит почему-то веселые оперетты: «… Ча-астица черта в нас заключена подчас!..» – она всегда поет, когда работает в саду. Голос бабушки Фимы… давно забытый голос из прошлого:
– Вставай, Сенечка… совсем заспался… Вставай завтракать! Я испекла твои любимые рогалики! Поднимайся!..
И вот он уже за столом. Грубый деревянный стол накрыт в саду. Свежая белая скатерть с вышивкой по краю… А на столе красивые синие чашки для чая, желтое деревенское масло в масленке толстого синего стекла, залитое холодной водой, мягкий финский сыр на тарелке, открытая баночка со сливовым джемом, домашние пирожки с капустой и, конечно же, бабушкино кулинарное чудо: горячие румяные рогалики, посыпанные сахарной пудрой и измельченным грецким орехом. И вот он тянется ручкой к этим аппетитным рогаликам, хочет взять с тарелки… но какая-то странная, незнакомая тетя, непонятно откуда взявшаяся за этим семейным столом, выхватывает тарелку с бабушкиными рогаликами у него из-под носа и смеется, нехорошо скалится железными зубами (у нее полный рот этих сверкающих зубов) и говорит вкрадчиво:
– А ну-ка, дотянись, ма-альчик. Потрудись сначала, побегай!
И он, чувствуя себя совсем маленьким и беспомощным, зовет бабушку, маму, тетю Риту, но их почему-то уже нет за столом, а какие-то чужие люди вокруг… И все хохочут над ним, скалят зубы, кривят рожи:
– Догони, догони!
И он, слабый малыш, вскакивает в отчаянии, бросается на тетку с железными зубами… Та, хохоча, убегает от него гадкой рысцой… И вдруг, на бегу, лихо взмахивает блюдом, и рогалики разлетаются во все стороны! Далеко и вверх!
А вокруг уже не сад, а огромное пространство, заросшее кустами и деревьями, и он все бежит, бежит за железнозубой обидчицей, отнявшей у него рогалики… Он бежит все быстрее и быстрее, и вот уже кончился этот громадный дикий сад, и бежит он по грязной, раскисшей от дождей дороге. По сторонам густой лес и столбы с проводами, и холодный ветер подгоняет в спину, и серый дождь больно сечет по затылку, и понимает он, что не догонит злую тетку, и не будет больше у него никаких вкусных рогаликов. А есть отныне вот эта дорога, холодный ветер и дождь…
…Господин Н. еще посидел немного на нагретой солнцем тахте, приходя в себя после тяжелого дневного сна. Помотал головой, отгоняя приснившуюся ерунду.
«Надо же, – подумал он, – столько лет ничего не снилось. А тут… рогалики! Чушь какая-то».
Он посидел на тахте еще некоторое время, повторяя про себя это странно звучащее слово: «Ро-га-лик…» Покатал на языке: «Ро…ро…ро…га…га…лик». Такое жесткое вначале, как рычание потревоженного зверя: «Р-ро-о…».
И следом, радостное, всеобьемлющее, восторженное: «Га-а-а!». Как эхо в горах. И в конце – мирное, закругляющее, и в то же время торжественное: «Лик!».
«Какая глупость, – подумал он. – Что это со мной? Как будто в первый раз слышу. Ро-га-лик… Нормальное слово. Но почему оно кажется мне таким незнакомым? Как слово чужого языка?»
Он еще раз попробовал языком это, показавшееся таким чудным слово, и… тут, что называется, накатило! Сначала сжало спазмом горло, до боли, как при ангине. Он попытался загнать эту внезапную боль в себя, вовнутрь. Но боль разодрала горло, и… заволокло глаза, окружающее пространство расплылось молочным туманом. Он охватил ладонями лицо, удивившись, как оно мокро и небрито, приступ неудержимого, постыдного плача сотряс его плотное, грубое, в складочках жира, волосатое тело.
Боль ушла, стало легко, но он никак не мог остановить этот внезапный, какой-то совершенно детский, плач.
«Господи, что же это со мной? – спрашивал себя господин Н., пытаясь унять сотрясавшие тело приступы рыданий. – Откуда это? Почему?» – все повторял он, стискивая ладонями лицо, как бы силясь загнать непрошеные слезы обратно, внутрь крепкого коренастого тела, так верно служившего ему долгие годы. Он гордился тем, что был совершенно непробиваемым все это время, пока жил в эмиграции. Пятнадцать лет толстокожесть спасала его от постоянных обманов, мелких обид и крупных подлостей этого нового, чуждого ему мира. Да и в прежней, доэмигрантской, жизни он был достаточно закален против обрыдлой, подлой действительности…
Детство закончилось рано. Так уж случилось, что родители его ушли из жизни неожиданно быстро. Он даже не успел осознать внезапный момент своего одиночества. Вырастила его тетка, мамина родная сестра. Своих детей у тети Риты не было, муж умер вскоре после войны. Вот от нее-то будущий господин Н. и научился этой спасительной непробиваемой жесткости.
– Не ной! – поучала его тетка. – Нечего нюни распускать! Кому ты будешь нужен такой рассопленный? Запомни – слабых не любят! Над ними все потешаются, и никто им не помогает! Нос тебе разбили? Утрись и пойди сам разбей! Жидочком обозвали? Двинь как следует! А-а, он сильнее тебя? Возьми палку, камень в руку и бей в ответ. А мне жаловаться не смей. И этих слез, чтобы я не видела!
Тетя Рита не была, разумеется, ни черствой, ни злой, просто она работала хирургом в Басманной больнице, оперировала по восемь часов в день, и ей было не до сантиментов. Да и три года, проведенные на войне в полевом медсанбате, не способствовали смягчению ее характера. Она часто срывалась на будущего господина Н., который в детстве отзывался на имя Сенечка (тетя Рита звала его сурово, по-мужски, – Семен), порой бивала ремнем, но, благодаря ее жесткому воспитанию, он и приобрел дубленую шкуру, не раз выручавшую его в житейской борьбе. Потом, когда суровой тетки не стало, он часто вспоминал ее с благодарностью за науку выживания, и раз в году, 9го мая, приезжал на Донское кладбище помянуть покойницу и дать кладбищенскому сторожу десятку, чтобы поухаживал за могилой. Мать с отцом и старики его были похоронены в другом месте, замурованы в серую стенку колумбария, и, хотя от их пребывания в его жизни в памяти осталось лишь размытое временем ощущение тепла и доброты, к ним он ездил все-таки реже: серая бетонная стена с маленькими округлыми фотографиями отталкивала своей равнодушной безнадежностью. Было что-то нелюдское в таком способе погребения. А вот на могилку к тетке Рите он ездил охотно, подолгу сидел возле поросшего молодой травой холмика с серой мраморной плитой, пил водку из металлической плоской фляжки, смотрел на врезанную в серый камень фотографию тети Риты в военной форме с капитанскими погонами и двумя белыми медалями на гимнастерке.
Перед самым отъездом в Израиль он навестил свою бывшую семью: жену Светлану и двоих, уже достаточно взрослых, детей, Стаса и Таньку. Привез им «наследство» от деда с бабушкой: роскошные старые альбомы по искусству, книги по истории государства Российского, собрания сочинений русских классиков (теперь таких не достанешь!), старый потрепанный альбом семейных фотографий и, как он тогда выразился, «историческую память» от отца, Сергея Ивановича, которого сам помнил плохо: два ордена Красного знаени и кучку обгорелых документов (на военном заводе, где тот работал, произошел взрыв, и он, в прямом смысле, сгорел на работе). От мамы, Доры Исааковны, фамильный стетоскоп, пожелтелую фотографию в металлической рамке и маленькую шкатулку из какого-то южного дерева, в которой лежало ее обручальное кольцо, ожерелье темного балтийского янтаря и медали «За взятие Праги» и «За победу над Германией». А от тети Риты – ту самую, любимую ею, гимнастерку с капитанскими погонами и боевыми наградами. Бывшая супруга Светлана как-то по-бабьи всплакнула, отпрыски вытянулись и посерьезнели при виде «наследства», а господин Н. тогда довольно сурово произнес:
– Ну, вот. Уезжаю. Извините, если что было не так… И…п-рошу… навещайте могилы деда с бабкой… ну и бабку Риту тоже. – И дети, разумеется, согласно покивали, а Светлана успокоила, мол, конечно, как же, не волнуйся, помянем обязательно, а ты нам пиши, как там устроишься.
И потом, когда он уже собрался уходить, вдруг сказала:
– А может, не стоит сейчас уезжать? Смотри, все же у тебя сейчас сдвинулось с мертвой точки: и работа появилась приличная, и рассказ твой в «Искателе» напечатали, и… вообще… страна меняется…
В светкиных глазах тогда стыло запоздалое раскаяние и какое-то совершенно русское, тоскливое бабье одиночество. Но господин Н., захваченный в ту пору каким-то всеобщим сумасшедшим еврейским порывом к бегству из еще совсем недавно стабильной России, пробормотал что-то маловразумительное насчет «родины предков», «национальной памяти» и, похлопав своих довольно рослых отпрысков по плечам и чмокнув бывшую «половину» по-братски в щечку, отбыл из Шереметева в Вену.
…Господин Н. сидел на остывающей от дневного жара тахте и вспоминал все это совершенно некстати, так как именно сегодня у него не было ночной смены, и он должен был встретиться со своей дамой, провести с ней хороший вечер, а если повезет, и дочка этой дамы не приедет на «соф шавуа»[18] из армии, то и не менее хорошую ночь. Даму же эту, с хорошим русским именем Валентина и вполне славянской внешностью, господин Н. очень ценил, ибо она, в отличие от прежних подруг, попадавших в его постель, относилась к нему по-человечески. Да-да, именно так про себя он называл ее отношение. Такие слова, как «люблю», «обожаю» и проч. он давно уже отверг, как лживые и ничего не означавшие. Такие слова можно говорить, не задумываясь, чтобы получить свое. Он и сам их произносил когда-то своим подругам, и ему их говорили в ночной темноте, после страстного шепота и любовных стонов.
Но вот когда Валя-Валечка звонила ему на «мобильник» и своим молодым, совсем девичьим голоском узнавала не принести ли ему на работу (он работал охранником в «высотке», в центре Тель-Авива) домашних котлет или сырников, или просто так, весело спрашивала «Как дела, мужичок?», внутри у господина Н. оттаивал привычный ледок, становилось уютно на душе, и он бодрым голосом отвечал что-то вроде «Ничего, Валюха, дела, как сажа бела, пока дышу надеюсь», и прочее в таком же духе.
«Да, ничего не скажешь, повезло мне с Валей, думал господин Н., – по сравнению с предыдущими моими «ляльками», что российскими, что местными, израильскими…»
Прежние его дамы, включая и жену Свету, видели в нем сначала крепкого, накачанного парня, с коим хорошо в постели, затем, если «дело выгорало», надежного мужа-добытчика или же толкового и непритязательного любовника. Он был, что называется, положительным, никогда не спорил из-за денежных трат своих дам и в постели не требовал противоестественных услуг. Но именно эта его положительность и приводила в итоге к тому, что дамы внезапно начинали капризничать, скандалить и требовать от господина Н. бог знает чего. Все это заканчивалось весьма печально: либо г-ну Н. указывали на дверь, либо он сам, не выдержав мелочных скандалов, уходил, оставляя даму в растерянном недоумении.
Но с Валентиной все вышло иначе. И знакомство их было совсем не романтичным. Его приятель, бухарский еврей Миша, с коим вместе охраняли торговый центр в Тель-Авиве, как-то предложил ему посетить некий «институт здоровья», а попросту говоря, подпольный бордель.
«Почему же «подпольный? – удивится знакомый с местными реалиями читатель. – Ведь в Израиле такие заведения функционируют вполне открыто».
Нет, дорогой мой читатель, речь не идет о многочисленных «махонах бриюта»[19], что светятся разноцветными лампочками в районе старой автобусной станции, или темных переулках квартала Флорентин[20], где трудятся нелегалки из стран СНГ или же представительницы южной Азии.
В дорогих районах большого Тель-Авива существуют десятки частных квартир, где принимают гостей в свои обьятия жрицы любви совсем другого сорта. Каким образом туда смог проникнуть лихой «бухарец» Миша, так и осталось загадкой. На все расспросы господина Н., Миша лишь разнообразно и хитро подмигивал и неизменно отвечал:
– «Паслюший, Шимон, какой тэбэ разныця? Кырасывый бабы есть? Есть! Выпывка есть? Есть! Сто долларов платы – ымеешь удаволствия всу ночь!
Что ж, в его нынешней холостой одинокой жизни выбирать не приходилось, да и в тайном «частном» борделе все же работают женщины другого уровня, и меньше шансов заразиться всякой дрянью. Тем более, что господин Н. к тому времени уже пол-года, как разругался со своей прежней подругой и жил один. «Сто долларов – четыреста пятьдесят шекелей, – прикинул он про себя, – десятая часть месячной зарплаты. Ну, да ладно. Если пару раз в месяц сходить для здоровья к одной и той же девочке, девятьсот шекелей… Многовато, но ничего, подежурю пару-другую суббот, компенсирую». В Израиле он стал скуповат и привык считать деньги, чего раньше, в России, за ним не водилось. Он снимал «полуторную» квартиру один, за 400 долларов в месяц. Многовато для одиночки, и район – так себе, но брать компаньона на сьем не хотел категорически, так как и в молодости-то плохо сходился с людьми, а уж, разменяв «полтинник», и подавно не хотел делить жилплощадь с чужим человеком.
Он часто вспоминал их первую встречу где-то в районе Университета, на частной квартире, где, казалось, каждый угол был пропитан томительным и обещающим многое восточным развратом. И… она появилась, возникла перед ним в полумраке маленькой комнаты, где темно-бордовые тона мебели и стен и крутящийся под потолком блестящий шарик только подчеркивали белизну ее сильных, полных округлостей. Черные чулочки с блестками, прозрачная распашонка, наклеенная улыбка яркого полного рта, бьющий в глаза макияж – все эти атрибуты готовой к безудержному сексу проститутки, не могли заслонить от внимательного взгляда господина Н. ее больших серых славянских глаз и разлитой в них какой-то, специфически российской, тоски. Вот эта грусть и смутила его тогда, пришедшего в этот тайный притон, разогретого коньяком, распаленного желанием доступной «любви». Но этот ее серый тоскливый взгляд, ее скуластое, совершенно российское лицо, это русое густоволосье, рассыпавшееся по полным сильным плечам… Все это так не вязалось с черным прозрачным нарядом и размалеванным ртом шлюхи… И вместо того, чтобы завалить ее на тахту, господин Н. внезапно смутился, как старорежимный гимназист шестого класса, и окончательно приуныл, почувствовав, что его «верный друг» увял, и взбодрить его вряд ли удастся. Но она, Валечка, поняла, почувствовала тогда его состояние, и так нежно, деликатно поговорила с ним о каких-то пустяках, убрала в комнате лишний свет, выключила дурацкую музыку, и в полумраке, шурша чулочками, так настроила г-на Н. на нужную волну, что он внезапно бешено овладел ей и тут же, опустошенный, рухнул рядом, а она счастливо смеялась и утешала его:
– Ну… вот видишь… все же хорошо… все в порядке, мужичок…
А потом… нет, в тот раз больше ничего не было. Лежали на тахте, она обнимала его, прижималась лицом к груди. Он стал приходить к ней на эту квартиру, уже не считаясь с тратами, все более, от раза к разу, чувствуя себя сильным мужчиной, как в прежние, «доэмигрантские», времена. Потом (как-то так само собой вышло) они стали встречаться вне «дома свиданий». Сидели вечерами в маленьких кафе в районе тель-авивской набережной, рассказывали друг другу свою жизнь. Впрочем, рассказывал в основном господин Н., Валентина больше помалкивала. Зато она умела слушать. Прежние подруги господина Н. предпочитали говорить сами.
Из ее скупых рассказов он узнал лишь, что жила она в Саранске, с мужем разошлась за пару лет до эмиграции, работала в каком-то КБ старшим инженером. Когда рухнул Союз, и жизнь стала совсем непереносимой, уехала со старухой-матерью и тринадцатилетней дочкой в Израиль. Здесь мыкалась, как и многие женщины-одиночки, убирала квартиры и офисы, вечерами падала от усталости, денег на съем квартиры, на учебу дочки и прочее не хватало… Случайная подруга предложила эту «работу» по обслуживанию богатых клиентов.
– Ты что, Валька? Такая баба шикарная, местные мужики на блондинок западают, а ты будешь здесь унитазы драить, да плевки вытирать?! Лучше уж богатым старичкам передок подставлять за хорошие «бабки»!
Выхода, как ей тогда казалось, не было, и она согласилась.
Оба избегали разговоров на эту скользкую тему, и господин Н. не устраивал ей «разборок» типа «как же ты могла…» и т. д., но как-то, во время очередной их встречи в уютном ресторанчике с видом на море, Валентина мягко положила свою крупную теплую ладонь на его руку и сказала:
– Знаешь… Я ушла оттуда. Совсем. Может быть, я опять ошибаюсь, но мне почему-то показалось, что у нас с тобой это всерьез и надолго. Не волнуйся, если ты не захочешь, я не буду навязываться. Конечно, тебе решать… Но туда я уже не вернусь.
И ее слова, сказанные так прямо и просто, и открытый, теплый взгляд ее серых глаз, и голос ее, согревающий душу… Он, сам не ожидая от себя, произнес:
– В нашей фирме нужна уборщица… Всего два офиса убрать – часа на четыре работы, хозяин платит сорок шекелей в час, пять дней в неделю, плюс проезд оплачивают, три шестьсот в месяц, ну, и моих четыре с половиной чистыми… Проживем, Валя, не волнуйся!
Она потом часто вспоминала это, сказанное им, «проживем, Валя». Да, с Валентиной ему крупно повезло, она оказалась не просто женщиной в его вкусе, она оказалась еще и доброй женщиной, что в нынешнем мире, так легко погрязшем во взаимной ненависти, в этом новом мире всеобщей продажности, является музейной редкостью.
И вот к этой доброй женщине господин Н. как раз и собирался сегодня в гости. Он приготовился, купил в «русском» магазине шоколадный торт «Прага», бутылочку вишневого ликера (она очень любила этот ликер). И еще один интимный подарок: две пары черных чулок. Специально ходил в торговый центр Дизенгоф и долго выяснял там у продавщиц, какой размер подходит Валюхе, она же крупная, с широкими бедрами, не то что нынешние тощие «плоскодонки». Купил «экстралардж», наверное, подойдет…
Он бросил взгляд на быстро вечереющее небо, наскоро ополоснулся под теплым душем, побрился новым лезвием, побрызгался дорогим дезодорантом, приберегаемым для особых случаев, осмотрел себя бегло в зеркале. Лицо показалось ему каким-то босым и помятым, под глазами набрякли мешочки, на лбу довольно резко рисовались морщины…
«Ч-черт, какое все у меня стало старое лицо, – с досадой подумал господин Н. – Ведь еще совсем недавно ничего этого не было… Время, время…»
Однако, надо было торопиться, солнце уже падало за серые громады домов, и синие сумерки растекались по углам его убогой квартирки. Господин Н. заторопился, втискиваясь в свежестиранные джинсы, облачился в новую рубашку синего цвета, застегивая джинсы, с досадой отметил, что потолстел в поясе («черт знает, что такое, и морщины на лице, и брюхо выросло!»), в прихожей пробежался щеткой по «парадным» полуботинкам (одевал только в таких случаях, на работу предпочитал кроссовки), быстрыми аккуратными движениями упаковал в большой пластиковый пакет сверток с чулочками, торт и бутылку ликера, выключил свет, дважды повернул ключом в замке и шустро выскочил из дому.
Возле автобусной остановки купил в киоске газету «Новости недели» (он любил эту газету за несложные кроссворды и интересные дайджесты) и (какая удача!) пяток красных роз в прозрачной обертке. Валентина, как и всякая женщина, любила цветы и, наверняка, будет рада. Автобус подкатил неожиданно быстро и, войдя внутрь, господин Н. удовлетворенно отметил, что есть много свободных мест. Он уселся у окна, пристроил увесистый пакет на свободное сиденье рядом и с удовольствием смотрел на проплывающие мимо бетонные туши домов, окутанные сонной зеленью больших раскидистых деревьев. Воздух из кондиционера приятно холодил лицо, и… вообще, все складывалось удачно в этот вечер. И все же что-то неприятно царапало в душе, не давало покоя.
«В чем же дело? – спрашивал он себя. – Почему так нехорошо? Неужели из-за этого дурацкого сна? Ну, подумаешь…
Кусочек далекого детства… Бабушка… накрытый в саду стол. Рогалики… Стоит из-за этого расстраиваться? Тетка Рита, наверное, просто бы посмеялась надо мной. Или резко бы одернула. „Слюнтяйство, Сенечка, рефлексия. Делом надо заниматься“. Так, кажется, она говорила. И правильно. Нечего зря душу травить».
Автобус между тем выехал на набережную, и господин Н. увидел верблюжий горб цвета червонного золота, быстро тонущий в густой синеве моря, и малиновые краски закатного неба. Ему захотелось немного подышать морским воздухом, и он сошел на остановку раньше. Ее дом находился через два квартала. Господин Н. посмотрел на часы. До их встречи оставалось еще полчаса, и он решил прогуляться вдоль набережной. Надо было успокоиться, привести мысли в порядок, ведь ему предстоял вечер с Валентиной. Он сел на одну из скамеек. Мимо прогуливались пожилые пары, в основном это были «русские», проходили шумные стайки местной молодежи, внизу шумело близкое море, выбрасывая белую пену на песок пляжа, подмигивали в подступившей темноте разноцветные огоньки кафе и ресторанчиков, словом, кипела вечерняя жизнь приморского города, но господин Н. не замечал этого. Тоска снова сжала горло. В груди собрался знакомый противный комок, грозивший взорваться приступом плача.
«Господи, что же это со мной сегодня? Надо взять себя в руки, это никуда не годится. Подумаешь, из-за какого-то слова… Рогалик… „Возьми рогалик, Сенечка… Тебе вкусно? На здоровье… расти большой и умный…“ Стоп. Надо немедленно прекратить… Как там говорила незабвенная тетя Рита? „Если хочется плакать, быстро представь себе что-нибудь очень смешное и глупое. Например, пожилого соседа, сидящего на унитазе «орлом»…“»
Господин Н., окаменев от напряжения, всматривался в морской горизонт, на котором исчезали последние, темно-рубиновые сполохи заката. Но вот и они погасли, и в захватившей все пространство темноте переливались огоньки пляжных кафе, а глубоко внизу скалилась прибойной пеной черная масса Средиземного моря. Смешное и глупое на память не приходило, но огромное морское пространство, слившееся с темным бархатом неба, мерцающие в вышине звезды и теплый ветер, дующий с моря, все это успокоило расходившиеся нервы. Он посидел еще несколько минут на скамейке, глубоко вдыхая легкий морской воздух. Взглянул на светящийся циферблат наручных часов. До встречи с Валентиной оставалось четверть часа. Как раз успеть дойти до ее дома, если не торопиться. Господин Н. встал и пошел по прогулочной дорожке в сторону новых «высоток», где жила Валентина.
«Хорошо, что у него есть еще немного времени, чтобы стереть с лица и с души все следы недавнего огорчения. Валя умна и сразу почувствует плохое настроение. Женщина она, конечно, хорошая и очень добра к нему. Но даже она не должна видеть его минутных слабостей. Для нее он должен оставаться сильным мужчиной. Оптимистом. А воспоминания… Бог с ними, с воспоминаниями».
Господин Н. быстро пересек улицу и пружинистой походкой направился к ее дому. Из распахнутых дверей ближайшего кафе доносилась веселая музыка. Голос популярного в этом сезоне израильского певца летел вдоль улицы:
– Тода аль коль ма ше натата!.. (Спасибо, Господи, за все, что ты мне дал!..)
Душа господина Н. окончательно успокоилась. Он думал о предстоящей встрече с Валей. О том, как они будут сидеть, держась за руки, и разговаривать, о том, как она позже будет стелить постель в салоне, и о том, что у них целых два дня отдыха. Все в этом реальном мире стало на свои места, и надо было жить дальше…
Глава вторая
Старый дом в квартале Флорентин
(Лето 2003 года от Р.Х.)
Запись в дневнике г-на Н.
«… Я только что расстался с Софой. Софочка, очаровательная голубоглазая блядесса, была уже «ватикой»[21] (двадцать лет в стране!) и два года выдаивала из меня все мои деньги, а ночами и мою сперму досуха, так что по утрам я вставал на работу опустошенный. Эта была ее тактика. Она говорила:
– Ты, дорогой, принадлежишь только мне. Не смей даже смотреть на сторону. Все твое хозяйство только мое.
И забирала мое «хозяйство» в свою ладонь каким-то похабным движением. По-женски она была права: среди ее подружек было много очаровательных поблядушек критического возраста, которым уже было все равно с кем, лишь бы побольше и почаще. Поэтому Софа ревностно охраняла свой альков. Вставал я на работу рано, в пять утра, трудился на раскопках в Кейсарии, ковырялся в античных развалинах. Было лето, стояла влажная жара, и силы мои стали понемногу таять. Конечно, я не возражал против софиных страстных объятий по ночам, ее изысканных минетов и позы «пьющего оленя», но когда человеку не двадцать пять, а сорок восемь, и он находится не в привычно холодной России, а в жарких субтропиках, то, согласитесь, еженощная поза «пьющего оленя» и регулярный недосып доконают даже Атланта, держателя Земли, не то что пожилого репатрианта, живущего на чужой жилплощади на птичьих правах.
Здешний климат и трудности адаптации нового репатрианта не располагают к сексуальным подвигам. Я стал отлынивать от супружеского долга, что и повлекло за собой скандалы и разрыв в отношениях. А тут еще, как назло, меня вдруг уволили с моей любимой работы, дававшей мне регулярный заработок и, что скрывать, моральное удовлетворение. Все же это была работа от университета, археология, а не уборка мусора или охрана кафе, как у большинства бывших соотечественников в Израиле.
Я попал на пособие по безработице и забегал, как таракан, в поисках мало-мальски приличной работы, чем еще более оттолкнул «ватику» Софочку. Она стала стесняться ходить со мной к своим еще более успешным друзьям.
Однажды, вернувшись с очередных поисков работы, я застал свои вещи собранными в большой узел, а сверху лежала записка: «Дорогой, если ты в течение двух часов не выметешься из моей квартиры, то я приеду с нарядом полиции».
Поскольку она знала местные законы и имела собственного адвоката, а я тогда был еще «оле хадаш»[22] с голым задом, пустым карманом и скверным знанием иврита, то я не стал испытывать судьбу, а тихо съехал вон. Пожив неделю у приятеля, снял однокомнатную квартирку на последнем этаже этого замечательного дома с полукруглым фасадом, выпирающим на самый угол тель-авивской улицы Алия…
Я увидел эту странную женщину на третий день после переезда. Была пятница, канун шаббата, я в тот день не работал. Разбирал коробку с книгами, раскладывал на две маленькие полочки (к чести хозяина надо заметить, что квартирка моя была меблированной) и вдруг услышал характерное шлепанье мокрой тряпки возле своей двери.
Выглянув, увидел женщину неопределенного возраста, ловко управляющуюся со шваброй и ведром. Ступени, ведущие на крышу, (моя комната находилась на последнем этаже) блестели чистотой. Женщина обернулась, сверкнули в полумраке белки глаз и улыбка. С виду она была типичная «мизрахит»[23], одетая, как религиозная женщина: длинная юбка, кофта с длинными рукавами, черная косынка.
– Здравствуй, хабиби![24] Ты новый жилец? – голос у нее был низкий, хриплый, типичный для «восточной» женщины. – Давно переехал?
Лицо ее было скрыто в полумраке коридора, но что-то мне в нем показалось странным. Как будто оно вдруг зарябило и разъехалось полосами, как при помехах в телевизоре. Я помотал головой и видение исчезло. Лицо как лицо, смуглое, с выбившимися из-под косынки локонами и блестящими белками черных глаз. Возраст ее было трудно определить. Я коротко ответил ей, не желая продолжать разговор, и осторожно поднялся по влажным ступенькам к выходу на крышу.
Крыша блестела черным гудроном (недавно прошел дождь), по периметру шла невысокая, метровая, стенка. Я услышал голос женщины, она звала меня, но когда я вновь окунулся в полумрак коридора, то не увидел ее, только шлепала мокрая тряпка где-то внизу.
– Слышишь меня? – ее голос звонко отскакивал от стен. – Ты не особенно гуляй там, на крыше!
– Почему?
– Не спрашивай! Не ходи туда и все. Ни к чему тебе это.
– Не бойся! Не свалюсь, там же стенка, – ответил я женщине, удивляясь ее заботливости, но ответа не получил.
Я спустился на два пролета вниз, но там никого не оказалось. Женщина исчезла вместе со шваброй и ведрами, как будто и не было ее вовсе. Только влажные ступени говорили о том, что мне все это не привиделось…»
Глава третья
(Зима 2006 года)
Вечер поэзии в Тель-Авиве
Однажды, мокрым зимним утром, когда господин Н. только что вернулся с ночного дежурства в одной из тель-авивских «высоток» и медленно приходил в себя после трудной бессонной ночи, в его холостяцкой норе вдруг зазвонил телефон, назойливо, резко и весело.
Господин Н. только что позавтракал (вяло прожевал яичницу), медленно пил горячий цветочный чай и настраивался на то, что сейчас он нырнет с головой под одеяло и будет до-о-лго и со вкусом спать, спать, спа-а-ать… Но в этот раз инстинкт самозащиты не сработал. Обычно в таких случаях господин Н. трубку не брал, а если беспокоила нежная моцартовская мелодия на мобильнике, то не реагировал, а сразу выключал назойливого сверчка. Но то ли оттого, что утро было таким пасмурным, необычным для израильской весны, то ли оттого, что звонок показался таким легким, веселым… Звонил Алекс по кличке «Кобра», поэт и переводчик с энного количества языков и автор историко-лингвистическо-философского эссе о происхождении праславянского языка от иврита и арамейского.
– Здорово! – загудел шмелем в трубку «Кобра». – Не разбудил? А-а, я забыл, что ты с ночной! Слушай, тут должен вечер состояться, поэтический!
– Какой еще вечер? Где?.. – после бессонной ночи господин Н. соображал с натугой, работа в ночную смену превращала мозги в жидкий студень.
– Ха! Ты не в курсе? А Френкель тебе не звонил? А Ровинская? А Ваухер? Тоже нет? Ну-у… Так знай! Завтра. В полшестого. На Каплан, шесть. Вечер поэзии. Поэты Большого Тель-Авива… Альтгауз, Меружицкий, Фулкаш, Ника Дерази… Из Иерусалима приедут наши юные гении… Петя Птиц, Соня Кац…
«Странно… Какие-то птичьи фамилии, – вяло подумал господин Н., – что-то душа не лежит слушать этих птичьих поэтов…»
– Ты там тоже заявлен! – продолжал меж тем «Кобра. – Давай, приезжай!
– Но я не поэт, – удивился господин Н., – я всю жизнь писал прозу, да и то, в основном, статьи на злобу дня…
– Как же, как же! Знаем, как вы плохо играете! – загалдел в трубку Алекс. – А твоя поэма о море? Давай, приходи! Ждем! Пока!
– Так это же верлибр, – вяло возразил госпдин Н., но трубка ответила короткими гудками.
«Черт знает, что такое, – подумал господин Н. с раздражением. – Петя Птиц… Соня Кац… какого хрена мне это надо…»