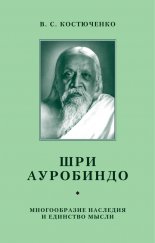Избранные произведения (сборник) Шойхет Александр

И когда автобус уже заворачивал к автобусной станции, добавила с тревогой в голосе:
– Запомни… у нас тут пушки стреляют… на окраине города… И «катюши» падают. Так вот. Если сначала по ушам ударит, а потом эхо пойдет по горам – это наша батарея. А если вначале шелест такой в воздухе, а потом грохот, то чужая ракета упала. Так ты грохота-то не бойся, ты шелест слушай. Понял? Как услышишь, – падай, где стоишь! Ну, счастливо тебе!
Автобус резко остановился. Солдаты с шумом и грохотом посыпались наружу, женщина как-то сразу исчезла, пропала в водовороте зеленых солдатских спин, вещмешков и оружия, господин Н. вылез наружу, стряхивая остатки дорожного сна, и огляделся. Горный массив, усыпанный белыми домиками, резко поднимался к самому небу, за спиной – автобусная станция, непривычно пустая в этот час, а за ней плавно стекающий вниз, в долину, город Кирьят-Шмона, первый приют г-на Н. в Израиле. Прямо перед ним была стоянка такси. Одинокое такси желтого цвета скучало возле пустой будки, и тут же, на скамейке, меланхолично покуривал водитель, толстый пожилой «марокканец» в привычной местной «униформе» – в трусах и в тапочках на босу ногу. Напротив, через дорогу, на веранде маленького кафе, двое в таких же «семейных» трусах и тапочках задумчиво играли в нарды. Этакая утренняя идиллия в маленьком южном городке.
Но в следующее мгновение все это резко прекратилось. «Бабанг! Ба-банг! У-у-у!» – ударило по ушам с неба, и господин Н. внезапно обнаружил себя сидящим на корточках возле низкого каменного бордюра.
На войне люди учатся реагировать быстро. «Ба-банг! Бабанг!» – ревело со всех сторон. Смуглый «марокканец» на скамье продолжал курить трубочку, насмешливо поглядывая на г-на Н.
«А-а… Так это же наша батарея, – вспомнил он слова женщины. – Чего же я так?..» Он резво вскочил, устыдившись слабости, и тут услыхал характерный шелестящий звук, перешедший в тонкий змеиный свист, и вот уже за автобусной станцией, за грядой плотно прижавшихся друг к другу домиков нижнего города, один за другим встали пять черных разрывов, пять черных столбов дыма. Полетели в воздух обломки камня, что-то завизжало совсем близко, «марокканца» в трусах смыло со скамьи, желтое такси взвыло и быстро умчалось. В клубах пыли прогрохотал военный грузовик, набитый солдатами, а господин Н., мгновенно оказавшийся один посреди опустевшего, изувеченного снарядами пространства, стал судорожно набирать номер телефона, оставленного ему сердобольной женщиной.
Аня Верник из местного Центра помощи ответила ему сраз у.
– Ты на машине? – спросила так, как будто знала его всю жизнь. (Дальнейший их диалог напоминал телеграмму).
– Нет, я на автобусе приехал.
– Какие у тебя проблемы?
– Хочу вывезти семью друга. У них машину разбило. Взрывом.
– Где он живет?
– Мошав[37] Бейт – Гилель.
– Где ты находишься?
– Рядом с автостанцией. На остановке такси.
– Вот там и стой. Я сейчас подъеду.
Серая «субару» подкатила к остановке такси минут через пять, и неожиданно яркая, вызывающе одетая женщина, распахнула дверцу.
– Залезай быстро! Сейчас начнется!
Господин Н. втиснулся на сиденье, не спрашивая, что именно начнется, и машина рванула с места, как на гонках. Господин Н. лишь удивился про себя праздничной внешности женщины, ее косметике, провокативной одежде, тонкому аромату духов, веселой зелени ее красивых глаз, ибо все это так не вязалось с запахом гари и беды, пропитавшим фронтовой город.
– Вы Анна Верник?
– Да-а… а что, не похожа?
– Н-нет, просто у вас такой вид…
– Скучать некогда! Много дел! Я вас завезу сначала в Центральное убежище, у нас там штаб. Я постоянно на телефоне. Мы как раз сегодня занимаемся эвакуацией, так что вы нам как бы помогаете. Правительство и местная ирия[38] нас бросили. Вот и крутимся сами. У нас около двух тысяч стариков в городе. В основном «русские», на иврите не говорят! Их надо едой обеспечить, лекарствами, врача вызвать. Вчера договорились эвакуировать тридцать семей в гостиницы Эйлата… Черт! Опять началось!
Господин Н. услышал истошный вой сирены над городом и через секунду взрывы. Один… Другой…Третий… Анна погнала машину еще резвее, та яростно закрутилась в узких улочках и так же внезапно остановилась рядом с белым, в восточном стиле, легким зданием с тенистым двориком и фонтаном. Фонтан не работал.
– Ну, вот, приехали. Это наш «матнас»[39]. Только быстро! А то попадем под «катюшу»…
Господин Н. выскочил из машины следом за Анной, и тут же тряхнуло землю под ногами. Взрыв ударил совсем рядом, за стенами соседних домов, оба прижались к колонне, господин Н. услышал странное веселое чириканье, как будто стайка воробьев пролетела.
Не двигайся! – услышал за спиной голос Анны. – Это шрапнель.
Металлические шарики запрыгали по камням, отскакивали от стен домов.
«Вот она, „начинка“ боеголовок, – подумал господин Н. – Ловко придумано».
Хотя придумано это было уже давно, еще в Первую мировую или раньше, но размышлять было некогда. Анна дернула господина Н. за руку и резво побежала по ступенькам куда-то вниз и за угол. Следующий взрыв догнал их, когда они влетели в бомбоубежище, и рослый смуглый парень в защитной форме резервиста захлопнул за ними тяжелую стальную дверь.
И все последующее время, проведенное господином Н. в Центральном убежище и городе Кирьят-Шмона, потом, по прошествии времени, стало казаться ему кошмарным сном в сумасшедшем доме. Мимо него по убежищу сновали люди в зеленой форме – волонтеры и просто жители брошенного на произвол города, объединенные простым желанием выжить, не свихнуться в этом кошмаре. Какие-то женщины, «русские» и «сабры», кричали что-то по телефонам, кто-то рыдал, кто-то срочно просил помощи… Ввалились трое мужиков в комбинезонах и резиновой обуви, и один из них, по виду старший, перекрыв общий шум, громко спрашивал у Анны, в каком бомбоубежище прорвало канализацию.
– Нам же звонили от вас! – гремел он. – Говорят, говно так и поперло!
По телеящику передали сообщение, что ракеты «Хизбаллы» попали в район дислокации батареи в поселке Кфар-Гилади, есть убитые и раненные.
– Это наша батарея! – кричал пожилой резервист. – Здесь, в полукилометре!
Потом Анна нашла г-на Н. и сказала, что сейчас его отвезут по адресу, но ребятам надо еще заехать в один квартал, развезти старикам порции горячей еды.
– Езжай с ним, – она кивнула в сторону шустрого парня в черном бронежилете. – Алекс знает дорогу.
– Давай, бистро! – Черный, как жук, Алекс схватил его за руку. – Врэмэни нэт!
И они, выбравшись наверх из Убежища, побежали к серебристой «мазде», где ждал их еще один волонтер, по виду совсем старик, загорелый (или кожа такая?), с подносом в руках.
– Где ты, Алекс? – заговорил он на иврите. – Скорее! У нас четверть часа до обстрела.
– До обстрэла нэ успээм, – ответил Алекс. – Этого парня надо вэзти в мошав.
– Лех кибенамат![40] – рявкнул сухой дед. – У него бронежилета нет, как он поедет? – но шустрый Алекс молча посмотрел на деда особым, «кавказским», взглядом, они загрузились в «мазду» и погнали по пыльным улочкам разбитого города.
А потом были воющие над городом сирены, бешеная езда по узким переулкам, свист и разрывы ракет, судорожный бег с горячим подносом по ступеням чудом уцелевшего дома… И старик в таком старомодном, из прежней жизни, синем в полоску костюме с орденскими планками («Я, сынок, на Лениградском фронте воевал, блокаду выдержал, ничего, там страшнее было…»), принимал горячие порции и нарезанный хлеб дрожащими руками, и старуха с бледно-синими губами тянулась с кровати к горячей еде и скрипела что-то невнятное… И снова бег под взрывами к спасительной машине и веселое чириканье «птичек» за спиной, и бешеная ругань старика-«марокканца», и снова пыльная дорога, изрытая воронками («Черт! Совсем, как в кино!»)…
Петину долговязую фигуру он увидел издали, на повороте в мошав, (позвонил с дороги, чтобы встретил), и подумал, как же Петька похудел, куда ж его «украинское сало» подевалось?
Потом были быстрые, на ходу, объятия, сначала с Петькой («Боже мой, как же он похудел, ребра выпирают!»), потом с Надеждой. Господин Н. отметил про себя, что ничего не осталось от прежней резвой фигуристой милашечки Нади. Перед ним суетилась, собирая в дорогу какие-то вещи, растрепанная погрузневшая баба, визгливо огрызавшаяся на мужа. За поваленным взрывом забором виднелись обгорелые фруктовые деревья и искореженный японский джип. Молчаливый рыжий голенастый подросток сидел, сжавшись, на стареньком пыльном диване в углу.
– Рахелька! Собирай вещи! Быстро! Мы сейчас едем… – Надя суетилась испуганной курицей, бросала какие-то тряпки в распахнутый чемодан.
– Дывысь, Сэмэн, шо твориться, – Петя ходил по дому, беспомощно разводя руками-плетьми. – Старался, вот, яблоньки сажал… Курей купили, индюшек… И урожай в этом ходу наикращий був… Эх!
– Оставь, дурак! – кричала Надя. – Едем живо! Себя не жалеешь – нас с Рахелью пожалей! Хрен с ним, с хозяйством! – но Петя только отмахивался.
А потом снова вздрогнула земля, совсем близко, и все инстинктивно упали на пол, кроме рыжей Рахельки, безучастно сжавшейся в комок на краю дивана. В проем распахнутой двери всунулся «кавказец» Алекс, заторопил хозяев:
– Нэ можем ждать, дарагой. Нам еще еду развазит, старики галодные сидят!
Они выскочили наружу, лихорадочно закидывая чемоданы и сумки в багажник «мазды». Растрепанная Надя что-то еще кричала Петру, а он, вяло отмахнувшись тощей рукой, бережно усадил рыжую Рахельку в машину и кивнул господину Н., мол, езжайте, все готово.
И вдруг господин Н. среди всей этой кутерьмы вспомнил, что мучило его все это время:
– Петь, а где Давидик?
На что Петр, тяжело вздохнув, махнул своей тощей «граблей» в сторону ливанских гор:
– Давид наш там… Он же в «Голани», уже третий год. Потому и не могу я уехать… Ну, езжайтэ уж…
Господин Н. хлопнул Петра по мосластому плечу и втиснулся в душное пространство машины, потеснив объемистую Надю.
«Как она располнела все же за это время», – подумал он.
«Мазда» рванула с места, как бы торопясь поскорее убежать от обстрела, вывернулась с проселочной дороги на шоссе. Господин Н. оглянулся и увидел длинную сутулую Петину фигуру. Он махал вслед машине своей тощей граблястой лапой.
«Совсем, как птица марабу», – подумал г-н Н., хотя и в глаза не видал этой экзотической птицы…
И снова они гнали по разбитому шоссе, огибая свежие дымящиеся воронки, и господин Н. видел горящие сады какого-то кибуца, и черные фонтаны взрывов перепахивали землю, и надсадно выли сирены…
Перевели дух уже в Центральном убежище, где было все так же шумно, сновали волонтеры, кто-то матерно ругал по телефону местного мэра, а заодно и правительство Израиля. Двое парней в черных бронежилетах раздавали горячую еду. Надя жадно накинулась на предложенную ей порцию, а рыжая голенастая девочка молча забилась в угол, и на настойчивые уговоры мамы «покушай, деточка», молча покачала головой.
– Это у нее шок, – Анна Верник снова возникла рядом. – Бывает, особенно у детей! Мы сегодня вывозим тридцать пять детей, и все в таком состоянии… А вы не волнуйтесь, в шесть вечера будет автобус. Я звонила в диспетчерскую. Я вас отвезу. В шесть часов обычно «эти» заканчивают обстрел.
К шести вечера действительно ракетный «дождь» прекратился, и Анна доставила их к автобусной станции. Господин Н. выгрузил багаж, помог выбраться заторможенной Рахельке, бросил растрепанной Наде:
– Не торчите здесь, пройдите внутрь станции, там стены защитят, если что… – и обернулся к Анне.
Надо же было поблагодарить ее за все. Посмотрел и снова удивился, какая она ухоженная и красивая среди всего этого бардака и кошмара. Только в глазах ее угнездилась смертная усталость.
– Да, вы не смотрите так! – рассмеялась Анна. – Мы здесь вовсе не герои. Просто кто-то же должен оставаться человеком, чтобы помочь… Ну, счастливо доехать! Ваш автобус будет через десять минут.
Господин Н. ощутил, как отпускает его напряжение, лишь когда автобус, забитый до отказа солдатами разных частей, вышедших из боев в Ливане, развернувшись возле Рош-Пины, вырвался на прямую трассу и покатил по направлению к Афуле. И возле Афулы, уже вне досягаемости ракетных снарядов, бледные, изглоданные ночными боями лица солдат спецназа стали оттаивать, зашелестели разговоры, раздался чей-то смех, шутки, водитель автобуса включил музыку… Надя тоже оживилась, расспрашивала господина Н. о его нынешней жизни, о работе, о Валентине. Господин Н. что-то отвечал машинально, в то же время с удивлением чувствуя, как оживает его организм, как вдруг задрожало правое колено, заныла шея, и голова налилась тупой тяжестью.
«Странное ощущение, – подумал он, – как будто вынули из морозильника, я оттаял и снова могу чувствовать… Ну, вот и окунулся в войну на старости лет…»
Уже в Тель-Авиве, когда автобус ехал по трассе Дерех-Намир, радио передало, что был ракетный обстрел Хайфы, и есть жертвы, но это показалось чем-то далеким, как будто Хайфа была на другом конце Земли. А люди на улицах вечернего Тель-Авива шли по своим делам, чему-то радовались, и горланили стайки молодежи, из открытых окон «легковушек» раздавалась веселая восточная музыка.
«Они совсем не чувствуют войну, – подумал господин Н. – Вот это и плохо. На Севере падают ракеты, гибнут люди, а здесь… Странный все же народ. Или пятьдесят лет постоянных войн приучили их к толстокожести?».
Окончательно господин Н. пришел в себя уже дома, когда распаковали узлы и чемоданы, Надя и Рахель, приняв горячий душ, чинно сидели на диване в махровых халатиках, и Валентина, энергичная, сияющая от того, что ее «мужичок» вернулся с Севера живой и невредимый, раскладывала по тарелкам тушеную картошку с мясом и разливала по чашкам круто заваренный чай с домашним абрикосовым вареньем. И очнувшаяся от постоянного страха рыжая девочка, этот затравленный зверек, вдруг жадно потянулась к горячей еде, виновато оглядываясь на мать, а Валентина накладывала в тарелку добавки со словами:
– Кушай, деточка, наголодалась, натерпелась страху-то, поди…
После ужина женщины смотрели телевизор. Надя совсем оклемалась и стрекотала с Валюхой про какие-то свои бабские дела, а сомлевшую от пережитого Рахельку уложили спать в дальней от салона комнатке, на просторном диване. Господин Н. услыхал, как перед сном она спросила Надю:
– Мам, а обстрелов не будет ночью?
– Нет, что ты, детка. Сюда ракеты не долетят.
– Значит и сирены не будет?
– Конечно, нет. Спи.
Уже за полночь, когда в квартире стало тихо, Валентина с Надей шептались о чем-то в спальне, наверное, обсуждали завтрашний день, а господин Н. все еще сидел в салоне, смотрел по 10 каналу ТВ документальные съемки боев на Севере. Налил себе коньяку, медленно выпивал, вспоминая этот долгий день. В соседней комнатке посапывала Рахелька.
«Плохо… Плохо, когда двенадцатилетний ребенок спрашивает мать перед сном, будет ли ночью обстрел, – мрачно думал господин Н. – В каком скверном мире мы живем, если дети боятся спать по ночам. Надо же, шестьдесят с лишним лет прошло со Второй мировой. И ничего не изменилось в этом поганом мире. Хорошо, что я их забрал оттуда. Поживут, оклемаются… Может, и Петька соберется, приедет…»
Прислушался. В квартире стояла тишина. Господин Н. вспомнил туманное утро, автобус, забитый солдатами, ехавшими умирать, и слова женщины-попутчицы:
– Я вот неделю пожила в Бат-Яме и от тишины оглохла.
«Действительно, – подумал он, – как здесь, у нас, тихо. Надолго ли?».
И уже, когда погружался в сон, возникла странная мысль:
«Хорошо все же было в каком-нибудь десятом веке. Никаких тебе ракет и снарядов… Сходились в чистом поле и рубились, кто кого одолеет. Сила, ловкость, умение. Вот это был честный бой. Хорошо тогда жилось на свете».
На календаре было 30е июля. До конца неудачной войны с «Хизбаллой» оставалось еще две недели.
Глава шестая
Район «Флорентин»
(Февраль 2003 г.)
(из дневника господина Н.)
«…Я встречался с этой странной женщиной еще несколько раз. В очередную пятницу, как всегда, она пришла мыть лестницу. Я не заметил ее прихода. Заснул после ночного дежурства и двух стаканчиков неплохого греческого коньяка. Боже, чем я закусываю коньяк, пусть даже и греческий: соленые огурцы, помидоры, вареные яйца, селедка! Мои московские друзья, наверное, впали бы в тяжелый ступор, увидев этакое извращение. Но… увы, времена, нравы, условия существования… Короче, я забылся тяжелым утренним сном.
Во сне я очутился в экспедиции на берегу родного Черного моря и увидел знакомую панораму: выгоревшие на солнце палатки, болтающиеся на веревках женские трусики и лифчики, мужские, кое-как застиранные, шорты и майки, услышал треск сухих веток в костре и звон гитары, девичий смех и радостные вопли парней и понял – я на месте. В своем привычном мире запаха водорослей, гари полночных костров, свиста ветра в античных развалинах. В мире простых человеческих отношений, где ничего не надо никому объяснять.
И я радостно пошел навстречу своему, такому знакомому, миру. Но эти молодые девочки и ребята почему-то не принял и меня. Они меня заметили, некоторые даже поздоровались. Но не приняли. Но… Я вдруг оказался чужим посреди этого, до скрипа в зубах родного мне мира.
Я пытался заговаривать с ними. Шутил с девочками. Хлопал парней по загорелым плечам. Но их взгляды скользили мимо меня. Я бродил вокруг палаток, спотыкаясь о колья, я слушал гитарный перезвон:
– Никогда вы не встречали в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах!
Этот мир мне больше не принадлежал. И вдруг! О радость! Я увидел деревянный столик, самодельный экспедиционный грубо сколоченный стол. И за ним на таких же, кое-как вкопанных в песок скамейках, знакомых мужиков. И они увидели меня.
– Ба-а, сколько лет, сколько зим! Какие люди без охраны!
Бородатые знакомые лица. Засученные рукава клетчатых «ковбоек». Старая, потертая, залатанная «джинса». Ветераны южных раскопов. Феликс, Боб Лурье, «Барон Жермон», Яков Максимыч… Черти драные!
– Ну, садись, рассказывай! Ты же, говорят, в Израиль подался.
– Ну, да. Подался.
– Ну и как там, в твоем Израиле?
– Ничего, только жарко…
– А ты там работал в археологии?
– Работал, только немного.
– А что ж так?
– Не нужен я там оказался…
– Да-а… а вот нам ты нужен, у нас тут без тебя, сам понимаешь…
– Ну, так я с радостью! Да хоть сегодня! А где Алик Шавырин?
– А ты не беспокойся, Алик скоро приедет. Как же без Алика? Посидим, выпьем, вспомним былое.
Они весело подмигивали мне, переглядывались. Но их лица… Лица их почему-то расплывались, меняли очертания. Или это было виновато полуденное марево?
И вдруг до меня медленно стало доходить. Стоп. Ведь Алик Шавырин, бессменный «босс» Анапской экспедиции, уже лет десять, как умер! Мне об этом в письме сообщил мой сын, работавший у Алика в конце 90х. И потому Шавырин оказаться здесь никак не может. Да и эти… мои старые знакомцы, уже тогда, в 80х, были моими ровесниками, а кое-кто и гораздо старше. И если мне почти шестьдесят, то им уже хорошо к семидесяти. И так молодо выглядеть они никак не могут! Да и живы ли они вообще? И словно отвечая на мой вопрос, они как-то сразу стали меняться, усыхать, их лица стали проваливаться куда-то, скалясь беззубыми ртами, темнея опустелыми глазницами…
А вокруг продолжали звенеть гитары, и некто чернобородый пел густым баритоном:
– Ми-и-и – лая моя, солнышко-о лесное-е, Где-е, в каких краях встре-е-е-тимся с тобо-о-ю…
Я проснулся и резко вскочил, выныривая из сонного кошмара. И долго сидел, тупо глядя в стену. В горле застрял противный острый комок, который надо было немедленно проглотить. И тут я услышал знакомое шарканье мокрой тряпки на лестнице и восточный напев. Это она, таинственная мойщица наших лестниц, женщина с морщинами на смуглом лице и бесстыжими молодыми глазами блудницы. Я выглянул за дверь, и она радостно поздоровалась со мной, как будто мы не виделись целую вечность. Так умеют здороваться только сефарды[41]:
– Мотек шели![42] Как дела? Давно я тебя не видела! Где ты ходишь? Работаешь? Нельзя все время работать! Бог велел нам отдыхать на седьмой день! А где твоя женщина? У тебя нет женщины? Как это может быть? Ты же не «гомо»? Ха-ха-ха! Ну, вот! В Торе сказано: «Нельзя человеку быть одному».
Она осыпала меня словами, одновременно ловко орудуя шваброй и сверкая улыбкой в полумраке коридора, возвращая меня к жизни сейчас, сегодня, в этом времени, в этой стране.
И уже спускаясь по ступеням вниз, к входной двери, шаркая мокрой тряпкой возле дверей чужих квартир, она продолжала говорить, как бы сама с собой, но обращаясь, конечно, ко мне:
– Нет, дорогой мой. Нельзя все время жить прошлым. Вот моя мать… она тоже все время вспоминала свой Йемен… А что там было хорошего в том Йемене? Жара, безводица, голод… И вечный страх перед дикими бедуинами, которые могли сделать с нами, евреями, все, что угодно… А мама вспоминала свою свадьбу и ворчала, что кофе в Израиле не такой, как в Йемене… А пока она вспоминала и ворчала, папа ушел к другой женщине, уехал в Тель-Авив, а мама осталась с нами, шестью детьми в Иерухаме. Она так и не научилась читать и писать, и нас ничему не смогла научить. Вот и моя жизнь не сложилась… А ты не думай, не вспоминай. Что толку вспоминать и жалеть о прошлом? Живи сейчас и радуйся тому, что Господь подарил тебе этот мир…
Она спускалась вниз, и голос ее, такой звонкий вначале, затихал где-то внизу вместе с шарканьем швабры и плеском воды в ведре. Я хотел побежать за ней, остановить, заглянуть в ее мудрые глаза, так таинственно сверкавшие вполумраке коридора… Но, сбежав вниз по лестнице, я увидел лишь пустое ведро и швабру, прислоненную к стене. И влажные, быстро высыхающие ступени лестницы».
Глава седьмая
Этот последний День победы
(воспоминание странного человека в ночь на 9е мая)
Дм. Сухарев
- …Вспомните, ребята,
- Вспомните, ребята, –
- Это только мы видали с вами,
- Как они шагали
- От военкомата
- С бритыми навечно головами…
Ему снился странный сон. Будто сидит он за праздничным столом вместе с мамой, отцом и многочисленными родственниками, и все такие молодые, веселые и красивые, и почему-то в военной форме, с орденами и медалями.
«А-а, сегодня же День Победы, праздник…» – вспоминает он и тут же удивляется, почему его родители, а также дядья и тетки, все еще такие молодые и в старой форме времен прошедшей войны?
Ведь война давно кончилась и форма в Советской Армии уже другая. Он хочет их спросить, зачем это они все так нарядились, но они весело смеются, чокаются друг с другом стаканами с водкой и, глядя на него, говорят маме с отцом:
– Какой у вас парень вырос здоровый, сильный и красивый, просто загляденье! И выучился на инженера! Ну, не зря вы жизнь прожили, не зря! Давайте выпьем за Сергея и Дору! И за нашего Сенечку!
И все они громко шумят и чокаются, и одобрительно кивают, глядя на него. И вдруг он с ужасом понимает, что происходит что-то не то! Ведь он-то уже давно взрослый, а никакой не «Сенечка», родителей его, таких вот, какими он их помнит, в старой военной форме, молодых и энергичных, на свете давно нет. И родственники, все эти шумные дядья и тетки, пьющие водку по-фронтовому, поющие под гитару:
– Го-о-рит све-ечи-и ога-арочек…
Они тоже давно умерли, и он, взрослый (да что там, пожилой мужик!), просто не может сидеть с ними за одним столом, как когда-то, в ушедшем навсегда детстве. И, с внезапно настигшим его ужасом откровения, он резко пробудился, вскочил с дивана в холодном поту, сбрасывая с себя, как паутину, кошмар тяжелого дневного сна…
Сидел на диване, прислушивался к голосам детей, игравших на улице, лаю собак, шуму машин. Посмотрел на стенку, где висел календарь.
«Девятое мая, День Победы. Потому и приснилось…»
Этот день всегда был для него тяжелым. С тех пор, как умерли родители. Отец погиб на оборонном заводе во время взрыва в каком-то очень секретном цеху, когда господину Н. (тогда еще Сенечке) едва исполнилось двенадцать. Мать ушла через два года, буквально сгорела от рака легких в считанные месяцы. Четырнадцатилетнего Сеню растила и воспитывала старшая сестра матери, тетя Рита, фронтовой хирург. Своих детей у нее не было, муж умер почти сразу после войны, и она взяла Сеню к себе. Тетя Рита делала все правильно, кормила Сеню в соответствии с медицинской наукой, заставляла заниматься спортом, одевала хоть и не модно, но чисто, следила, чтобы он не якшался с дурными уличными компаниями и тщательно делал уроки. Но праздники для него с тех пор кончились. А День Победы Сеня, нынешний господин Н., переживал особенно тяжело. Наверное, никак не мог забыть теплых застолий детства, той атмосферы торжественной и печальной радости его родных, чудом уцелевших победителей страшной войны. Но и не только поэтому. День Победы для него был всегда тяжелым еще и потому, что, по какой-то странной прихоти сознания, в этот день вспоминалось почему-то все самое неприятное, тяжелое, постыдное, что случалось в его жизни. И с каждым разом всплывало таких воспоминаний все больше (накапливались с годами), и вырисовывались они перед внутренним взором все ярче, во всей своей босой неприглядности. Конечно, господин Н. гнал от себя черные мысли, срабатывала спартанская школа покойной тети Риты («гони тухлые мысли, Семен, проветривай мозги, как воздух в квартире!»), но возраст, переезд в Израиль и одинокая жизнь эмигранта не способствовали радостному восприятию мира. Особенно это ощущалось вот в такой день. Девятого мая.
В этот день он всегда выпивал, хотя, как старый спортсмен, к алкоголю относился отрицательно, но… выпивал. Вначале соблюдая извечную российскую традицию поминовения умерших, а в последние годы, уже в Израиле, просто глушил в себе в этот день накопившуюся за жизнь черную тоску по Несбывшемуся, гасил всплывавшие в памяти прежние обиды. Надо сказать, Валентина, с которой он жил уже почти три года и, что греха таить, в которой впервые за всю жизнь угадал своего человека, замечала его состояние в День Победы и старалась отвлечь, не допустить его «провалы» (боялась, добрая душа, что вдруг ее любимый «мужичок» начнет, чего доброго, спиваться), а он только посмеивался:
– Ну, что ты, Валя, если уж до такого возраста не спился, то теперь-то уж…
Она успокаивалась, понятное дело, переживала за него, а он старался не показывать ей своей тоски в этот день, выпивал по утрам, когда она уходила на работу.
Но старый российский способ, наверное, ему не годился, легче не становилось, наоборот, воспоминания захлестывали, заставляли вновь переживать уже забытое прошлое, бередить старые раны.
Вот и сейчас совсем некстати вспомнилось. Чтобы отогнать неприятные воспоминания, господин Н. открыл холодильник и, воровато оглянувшись (почему? Валентины все равно не было), налил в картонный стаканчик водки, положил в тарелочку закуски – нарезанный ломтями черный хлеб с соленой рыбкой, потом достал из ящика стола жестяную коробку с фотографиями, вынул несколько старых пожелтевших фото, аккуратно разложил на столе, вгляделся. Каждый год в этот день он проделывал странный ритуал, раскладывал на столе фотографии, чокался с ними, то, чего никогда не было при их жизни, поминал ушедших. Вот и сейчас он всматривался в знакомые лица… Мама и отец в обнимку, оба в военной форме, рядом еще какие-то, совсем молодые, парни с автоматами и медалями на гимнастерках – все на фоне полуразрушенного немецкого фольварка… Дядя Мирон в старой гимнастерке с кубарями в петлицах, выпускник пехотного училища. А вот он же в новой форме, с погонами лейтенанта, на груди медаль «За отвагу», гвардейский значок и нашивка за ранение. Это уже после Сталинграда… Дядя Марик в летном шлеме и кожанке на фоне штурмовика, стрелок-радист… Бабушка вспоминала, что до войны Марик был самым талантливым математиком в школе, побеждал на городских олимпиадах, золотой медалист, поступил на первый курс мехмата МГУ. Осенью 41го, наплевав на «бронь», ушел в летное училище… В 44м его «Ил» сгорел в бою на Яссо-Кишиневской дуге… Тетя Лиля и тетя Рита, обе в гимнастерках с лейтенантскими погонами, в кругу младшего медперсонала и раненных, перебинтованных, искалеченных мальчишек. Один с гармошкой, что-то поет. Все улыбаются. За их спинами разрушенные дома какой-то деревни, виднеется остов сгоревшего танка. Разбитое распятие у края дороги. Польша, 1944й… Дядя Арнольд вместе с экипажем своего танка, сидят на траве, привалившись к броне. Вымотанные боями, перемазанные соляркой, в танкистских шлемах, сдвинутых на затылки. На гимнастерках скупые фронтовые награды. Господин Н. еще мальчишкой научился отличать эти закопченные фронтовые ордена «Красной звезды» и «Отечественной войны» от юбилейных чистеньких побрякушек. Капитан Арнольд Аранович и его боевой экипаж, май 45го., Венгрия. Балатон…
Господин Н. поднял стакан с водкой над разложенными на столе коричневыми фото.
«С Днем Победы вас, мои дорогие… – опрокинул в глотку. – Фу, гадость, наверняка, «паленка», – закусил черным хлебом с соленой рыбой…»
Сидел на диване, ощущая, как растекается хмель по телу. Он не любил ни громких слов, ни сентиментальных речей.
Просто даже ненавидел эти речевки, какие обычно произносят в подобных случаях. Потому что благодарность людям, выжившим и победившим в такой войне невозможно выразить никакими высокими словами. Но вот так, наедине с собой и старыми фото, когда никто не слышит и не видит… Говорил теплые слова ушедшим навсегда, какие никогда не говорил им при жизни. И всякий раз из глубин замутненного алкоголем сознания вырастал один и тот же впрос, мучивший господина Н. еще смолоду: правильно ли живет он на свете? И оправдывает ли он своей жизнью, хотя бы в малой мере, тот пережитый страх ежечасной смерти, голод, ранения, что выпали его родным в середине жестокого века?
«Получается, как ни крути, они спасали меня, еще не родившегося, от уготованной мне судьбы недочеловека, раба, подопытного кролика для «господ-арийцев», живого консерва, мыла, набивки для подушек, абажура для настольных лампочек. А я? Оправдал ли я своей жизнью их надежды на лучшее? Они ползали по грязи под обстрелом, горели в танках, стреляли из «максимов» по пикирующим «мессершмиттам», уходили в тыл врага, не надеясь вернуться, валялись в гнойных бинтах по госпиталям, их допрашивали «смершевцы» за не взятые к юбилейным датам «высоты». А они рассказывали потом обо всем как-то легко, буднично. Да еще и шутили…»
– А как же? – объяснил ему как-то дядя Мирон. – Как же на фронте без шутки? Если не посмеяться при случае, то так и застрелиться недолго. Ведь, бывало, и ужас подкатывал к горлу, и отчаяние. А посмеешься над какой-то глупостью, и легче становится.
«Ну, а я-то что? – спрашивал себя господин Н. – Жизнь как-то незаметно подошла к финишной черте, шестьдесят… В России в этом возрасте уже не живут. А что конкретно сделал в своей жизни? Чего добился? Были у меня в прошлом победы ценой большой крови? Рисковал жизнью, переходя линию фронта, как дядя Ося, диверсант ОМСБОНа[43]. Бежал под пулями к колючей проволоке лагеря смерти, чтобы уцелеть и воевать в одесских катакомбах, как пятнадцатилетний Лесик, бабушкин племянник? Спасал ли кого от смерти, вытаскивая невзорвавшуюся мину из тела раненного сапера, как тетя Рита? Горел в танке, как дядя Арнольд или лежал за «дегтяревым», сдерживая накатывающийся вал наступающих «фрицев» в развалинах Сталинградского тракторного завода, как отец?»
И понимал он, что вопросы-то наивные, и нельзя сравнивать разные времена, и никто из этих людей, его родных, не хотел такой жизни. Героями их сделало время. Но… всю свою жизнь господин Н. чувствовал некую вину, что прожил на свете, в общем-то, довольно спокойно и даже, временами, комфортно. Страха смерти он не испытал. А голод? Ну… положим, было… Сначала в армии, первые полгода, когда был еще «салагой». Тогда «деды» сначала пытались его запугать избиением, но не вышло, он был очень здоров, схватил по гантеле в каждую руку, прижался спиной к стенке казармы и ждал. Напасть «деды» не посмели. Но кто-то (кажется сержант Усик, «западенец» с Ужгорода), прошипел:
– Ну, погодь, жидяра… С голоду сдохнешь…
И его гоняли по «нарядам», да так, что он не успевал пожрать в столовой, а если успевал, доставались какие-то объедки-опивки, даже пайку его хлеба кто-то сжирал. Продолжалось это месяц. Или два? И вот, когда голод стал терзать его кишки, и хотелось лишь одного: ворваться в полковую хлеборезку, вырвать у дежурного сержанта батон горячего хлеба, забиться в какой-нибудь темный угол и жрать, жрать, жрать… И тогда кто-то из втайне сочувствующих ему «черпаков» шепнул тихо, после отбоя:
– Ты зайди к нашему старшине… только после отбоя… так, чтобы свидетелей не было… и… сам знаешь. Ты же хлопец здоровый… главное, без свидетелей…
И он зашел, как и было сказано, тихо и закрыл тяжелую дверь на задвижку, и пошел на сидевшего за длинным столом старшину Маркуляка, и в глазах была какая-то красная мгла. А тот, мордастый, шестипудовый, вдруг все понял, и быстро заговорил, замахал руками, но он схватил стоявший у стенки биллиардный кий и…
Зато всю оставшуюся службу у господина Н. проблем не было, ни со жратвой ни с «нарядами». Но разве это победа? Так, ерунда… Что было дальше? Голодал он вместе с другими участниками экспедиции на острове Вайгач. Две недели просидели на подножном корму, благо было лето. Стреляли чаек и собирали в тундре ягоды. Но это ничего, не ленинградская, все же, блокада… И когда уволили его с работы, по указанию КГБ. Не согласился он сотрудничать тогда с «органами», не стал «стукачом». Ну и помотало его, нигде не мог устроиться на постоянку, работал грузчиком в бакалее, потом истопником, мотался с археологами на Алтай, денег не хватало даже на еду. Но как-то дожил до «перестройки», не сдох, не скурвился в «стукачество», не спился… Трудно было, конечно. Но можно ли считать это победой?
Разумеется, сталкивался и с юдофобией. И при поступлении в институт, и при приеме на работу. Но тогда это, опять же, считалось обычным делом. Железная тетя Рита, заменившая ему отца и мать, уже тяжело больная, говорила ему:
– Постарайся не обращать внимания. Нелюбовь к евреям в России – это, как природное явление. Правда, до войны мы уже забыли, что мы – евреи. Но после войны нам быстро об этом напомнили…
И он старался. Но получалось плохо. Наверное, тут была виной сама тетя Рита. Она всегда говорила:
– Не поддавайся ударам жизни, не мирись с ее пошлыми глупостями. И не обращай внимания на людские мнения. Мало ли кто что говорит? Большинство людей, к сожалению, носят в себе, как хроническую болезнь, как язву желудка, кучу пережитков прошлого. От этого и все наши беды.
Да, еще и его мускулатура тут была виной, его упорные занятия спортом в юности. Когда у человека такая мускулатура, то как-то неприлично глотать оскорбительные намеки. Вот он и не глотал. А его приятель, с коим вместе учились в институте, а потом работали в одном НИИ, Костик Беренбойм, так он не обращал внимания. При Костике могли рассказать «потешный евгейский» анекдот. И Костик смеялся вместе со всеми. При Костике могли где-нибудь в походе, у сладко дымящегося костра, спеть песенку на мотив популярного в то время шлягера «В нашем доме поселился замечательный сосед…»:
- «Только глупые грузины увлекаются овцой
- Все жиды на именины обьедаются мацой…»
И Костик не обижался. А вот господин Н. не мог этого всего слышать и, тем более, шутить вместе со всеми. Однажды, возле такого уютного костерка, он взял да и набил морду одному шутнику-«мэнээсу», в пьяном угаре сокрушавшемуся о том, что «как же это Сталин с Гитлером рассорились в 41м, а то разделили бы Европу по-братски, жидов бы всех извели под корень, и Мировой войны бы не было». Господина Н. потом отдельские дамы успокаивали, мол, пошутил наш Серенька спьяну, а ты, Дрейзин, бросился на человека, такой вечер испортил. «Сереньку» долго приводили в чувство холодной водой, заботливо вытирали кровавые сопли, а на господина Н. смотрели с осуждением. И он ушел из лесу от этого дружного сборища с каким-то облегчением в душе. Прошагал километров десять до ближайшей станции на одном дыхании, бросив на прощание теплой компании:
– Вы такие же фашисты, как и ваш Серенька!
Костик, этот всехний примиритель, еще пытался его остановить, отговорить. Но он ушел от них, ехал в электричке с легкой душой, с мыслью, что наконец-то сделал что-то, и его «фронтовые дядья», уже ушедшие к тому времени из жизни, были бы им, наверное, довольны…
Что еще? Дальше в его жизни было все вроде бы гладко, как у всех прочих. Женился он на русской девочке, по любви женился, и все вначале было нормально, но тетка Рита, узнав, что Светка не еврейка, вдруг как-то поморщилась (это она-то, коммунистка, учившая г-на Н., что нет плохих народов, а есть плохие люди!) и произнесла странную фразу:
– Трудно вам будет вместе… Веры у вас разные.
– Причем здесь веры? – удивился тогда г-н Н. – Мы же все неверующие, атеисты то есть, да и Светка современная девчонка, из интеллигентной семьи, какие тут могут быть предрассудки?
Н-да… Суровая тетя Рита оказалась права. Любовь-морковь, это, конечно, бла-а-ародно, но пошли дети, начались материальные трудности, жили они тогда у Светкиных родителей. И как-то, придя домой с тренировки по регби, развесил свои спортивные треники в ванной (он и дома так делал), вышел на балкон и вдруг услыхал, как теща, Мария Васильевна, (интеллигентная такая дама, кандидат каких-то там наук) сварливо сказала дочери:
– Скажи своему, чтобы вонючие свои штаны и носки в ванне не вешал, он живет в русском доме, а не в свое Жмеринке…
Светка горячо защитила мужа, мол, Сеня – москвич, а вовсе не из какой-то там… мать ей что-то возразила, но г-н Н. уже не слушал. Кровь бросилась в виски, изнутри волнами наплывала, застилая глаза, неподконтрольная ненависть, и к вечернему чаю он не вышел, боялся, что сорвется, а Светку обижать не хотелось. С того самого вечера держался он с родителями подчеркнуто корректно, треники вешал на балконе, на тревожное Светкино «Сень, тычегосмамойнеразговариваешьимолчишь повечерамкаксыч» – не отвечал. Он взялся подрабатывать вечерами грузчиком на комбинате «Красный Октябрь», а когда сорвал спину, то пошел в подпольную «шабашку» по изготовлению мебели, за три года заработал на кооперативную квартиру и перевез Светку с двумя детьми туда. К ее интеллигентным «предкам» приезжал по большим праздникам, сидел за столом, ловя боковым зрением тревожные Светкины взгляды, вежливо улыбался теще и выпивал с тестем, Сан Николаичем, начальником отдела крупного московского НИИ, по праздничной рюмочке. Но на «душевные разговоры» не шел ни в какую, слишком хорошо запомнил про «русский дом и вонючую Жмеринку». Родители ее, наверное, что-то почувствовали и тоже держали дистанцию, а потом и Светка как-то постепенно охолодела, отдалилась. Правда, было еще двое детей, Стасик и Танюшка, которые как-то незаметно и быстро росли. Но и ежедневная тягомотина официальной службы, и подпольные заработки – все это относилось к заурядной бытовухе и никак не могло сравниться с героической жизнью его родных, спрессованной в четыре года кровавой Отечественной войны. И когда случилась вся эта история с КГБ, и выгнали с работы, то Света его срочно бросила, не желая, как она выразилась, «пятнать себя и детей связью с сионистом». Он не сердился на жену, понимал – она просто испугалась. Но он не сломался и в одиночку выжил как-то. Но разве это можно считать героизмом? Его «предкам», пережившим расстрелы 37го, было страшнее…
А вскоре на страну обрушилась «перестройка». Вся жизнь сорвалась с места и завихрилась в какой-то безумной пляске, и он, некогда законопослушный инженер, обремененный семьей, а затем ставший «врагом общества», вдруг влетел в какую-то правозащитную группу, стоял в пикетах против войны в Афгане. Дальше – больше: участвовал в митингах, дрался с «ментами» во время демонстрации памяти жертв сталинских репрессий. Весной 90го, вместе со всей демократической Москвой, впервые выбирал некоммунистический Московский Совет, цеплялся на «Пушке»[44] с «нациками» из «Памяти»[45]. Потом был знаменитый Первомай 90го, когда впервые за 70 лет, на Красную площадь вылилась волна трудящихся с разноцветными флагами демократических партий и национальных движений, и митрополит Московский с громадным крестом, проходя мимо Мавзолея, крикнул Горбачеву:
– Христос воскресе, Михаил Сергеевич!
…А потом всеобщая эйфория свободы закончилась и вдруг, как по команде, исчезло из магазинов все, даже черный хлеб, и загрохотали по улицам Москвы танки летним утром, и в телевизоре замаячили какие-то, уже забытые, свиные рыла. И тогда он вышел на улицу, вышел, несмотря на испуганные глаза его выросших детей, пришедших к папе в гости, вышел в танковый грохот вместе с другими, отчаявшимися и уставшими от большевистского беспредела людьми. И они шли по улицам цепью, взявшись за руки, к ним присоединялись другие, и так до Красной Пресни, где возле Белого Дома уже возводились нелепые баррикады из перевернутых автобусов. И все эти последовавшие пять суток августа он прожил в каком-то красном тумане, его руки сжимали ствол давно забытого АКМа (кто-то в военной форме сунул ему этот ствол). Он пил водку у ночных костров с такими же, как он, и все повторял про себя слова услышанной когда-то в юности песни: «Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья…» И в затуманенной алкоголем и эйфорией голове его билась единственная мысль:
«Вот оно… наконец-то… и я теперь чего-то стою… я им теперь за все отомщу, за все…», – хотя кому «им» и за что он собрался мстить, так и не мог объяснить.
А потом все разом кончилось. Танки, вызванные путчистами давить бунтовщиков, внезапно присоединились к защитникам Белого Дома, войска братались с народом, Ельцин кричал с танковой брони о победе демократии, потом торжественно хоронили погибших в ночном бою и… Все постепенно расползлось по углам и устаканилось.
Уже в Израиле он часто спрашивал себя: была ли это действительно народная победа? Или же опять кто-то использовал таких, как он, идеалистов в своих целях? И началась какая-то странная новая жизнь. Часть его старых товарищей ловко ввинтилась в депутаты Моссовета, другие бросились «рубить бабло», благо деньги в то смурное время валялись под ногами. Кое-кто из его приятелей-«афганцев», с кем стоял на баррикаде у Белого Дома, подались в «крутые» бандиты, а кто-то просто пытался выжить, продавая шмотки и книги.
И тогда господин Н. решил уехать. Хотя приятели активно звали, кто в депутаты, кто в бизнесмены, а кто и в бандиты. Ему, как еврею, ехать можно было в Израиль, дорожку в Штаты тогда уже перекрыли. Он, конечно, колебался, чужбина все же, хоть и расписывали «родину предков» сохнутовские зазывалы, (прямо райские кущи!), но в это верилось плохо. Господин Н. по натуре был скептик и не мог представить, чтобы коренной израильский еврей уступил какому-то репатрианту, хоть и десяти пядей во лбу, престижную работу, пентхауз с видом на море и роскошный лимузин. И, слушая очередного сладкогласого «соловья» на собрании в Еврейском культурном центре, совсем некстати вспоминал Маяковского:
- «Будете доить коров в Аргентине,
- Будете мереть по ямам африканским…»
Но помог подлый случай. На вечере в районном Доме культуры им. Горбунова. Дискуссионный клуб «Соотечественники». Встреча представителей демократической общественности с гражданами. Это было очень модно в те времена. Набилось народу в зал «под завязку». На сцене, осененной трехцветными знаменами (красно-бело-синие и черно-бело-золотые с двуглавым орлом – колера), шумно дискутировали представители демократов и русские «почвенники». И вот в разгар горячего спора, куда следует идти России после отмены коммунизма и после Беловежских соглашений, на сцене вдруг появился некий невзрачный гражданин, скверно одетый и явно алкогольного вида, в котором господин Н. сразу узнал своего соседа по лестничной клетке Витю Климашина. С этим Витей он часто сталкивался в парадном, на улице, в районном «Универсаме», ездил с работы в одном автобусе. Витя был вполне безобидным работягой завода им. Хруничева, частенько выпивал, но не бузил, а, подчиняясь командам жены, ядреной русской красавицы с замашками комдива, покорно уходил отсыпаться.
На этот раз Витя был непривычно трезв и, агрессивно взмахнув тощей лапкой, пронзительно заверещал:
– Вот мы вас тут целый час слушаем, господа демократы! А что-о мы имеем, мы-ы, рабочие в р-результате ваших действий?! На нас Россия держится! А вы-ы ку-уда-а нас снова тащите?! Была великая страна, а што-о вы с ней сделали? В семнадцатом Троцкие-шмоцкие русским людям геноцид устр-роили, мил-ли-оны сгноили, цер-ркви святые рразрушили! А теперь снова голодом русского человека морите?! Жвачку с кока-колой вместо хлеба?
И зал взорвался хлопками, свистом, выкриками:
– Пр-равильно! Так их, демократов х. вых! До-ло-ой си-о-ни-стов!
И перекрывая свист и топот, хилый Витя (откуда только сила взялась в его петушиной грудке?) заорал, обращаясь к бородатым патриотам, восседавшим в правой части длинного стола:
– Братья! Да што ж вы с ними дискуссии ведете?! Посмотрите, кто они такие! Это же натуральные жиды-ы!
– Га-а-а-а! – грянул в ответ зал.
Свист. Грохот армейских ботинок. Выкрики «Долой сионистов!». Некто крупнофигурный, в черной косоворотке, поднялся с места, взмахом руки утихомирил бушевавший зал и обратился к растерянным представителям демократов:
– Вот! Видели? Это с вами говорит русский народ! И мы предупреждаем вас, господа евреи, ведите себя прилично! При-лич-но! Здесь святая Русь!– Га-а-а-а! – снова взревел зал.
Дальше господин Н. не слушал. Он покинул взопревшее от патриотизма сборище, стиснув кулаки, и твердо решил:
«Ехать немедленно. Ни дня больше здесь не останусь».
Собирался он, как в сером тумане, багажа никакого не брал, только собрал свой старый полевой рюкзак да пару спортивных сумок. Наскоро попрощался с семьей, с которой к тому времени уже не жил, съездил на кладбище, зажег свечу на могиле тетки Риты, вырастившей его, да постоял возле серой бетонной стены, где был замурован прах родителей. Бывшая половина, Света, тогда притворно вздыхала, мол, куда ж ты теперь едешь, сейчас же как раз ваше время, ты так ждал демократии и перемен, ну и так далее…
– Не дай бог жить во времена перемен, – ответил он, вспомнив изречение Лао-Цзы или еще кого-то из древних китайцев, обнял своих выросших детей и…
И вот уже пятнадцать лет живет он вдали от прежней жизни, живет-выживает, стараясь не думать о прошлом, и лишь по таким дням, как День Победы, тихо садится в одиночестве за стол, достает старые фотографии, выпивает «фронтовые сто грамм» и вспоминает… Забытые голоса, лица, шутки, смех…
А может быть, не стоило убегать так поспешно от родных могил, от воспоминаний? Может быть именно там, на прежней родине было его место? Там остались его дети, друзья, женщины, любившие его когда-то… Может быть, прав был его товарищ по Антифашистскому комитету Женька Прошин, когда уговаривал его:
– Ну куда ты, Дрейзин, рвешься? Там же все чужое! А здесь мы с тобой та-акую деятельность развернем! Ты же наш человек! Да ты более русский, чем многие русские! А эти, в клубе Горбунова, это же шелупонь, отбросы, мы их скрутим в два счета!
Нет, все же правильно он тогда уехал. Женя Прошин, конечно, в гору пошел, заседает в Думе, оброс телефонами, секретаршами, лимузинами. «Памятников» и прочую нацистскую шваль, конечно, не скрутил, да ему это уже и не надо. Не смог бы господин Н. жить в этой новой России. А здесь как-то незаметно прижился, нашел свою среду обитания, встретил (наконец-то!) хорошую теплую женщину. Что еще человеку нужно? Правда, к жаре местной он так и не смог привыкнуть, и природа здешняя казалась ему какой-то искусственной, оранжерейной. Никак не мог он эту природу принять…
Машинально, сам не заметив как, он вышел из дому и пошел, куда глаза глядят. Времени у него было достаточно, в этот день он всегда брал отгул, и начальство уже привыкло, что Шимон 9го мая не работает. Он сел в автобус и покатил в направлении Тель-Авива, втайне надеясь, что этот галдежный, суетливый средиземноморский город высосет его тоску… Так он очутился на Центральной автобусной станции, почему-то на шестом этаже, как раз напротив известного «русского» книжного магазина. Он сидел посреди всего этого шума и суеты, одинокий пожилой человек, затерявшийся в веселом чужом мире.
«А все же хорошо, что «предки» умерли до всех этих перемен, до развала страны, всеобщего хаоса и бегства врассыпную. Они бы не пережили, слишком во все верили…»
Он вспомнил историю поэтессы Друниной, ровесницы его родителей, воспевавшей в стихах жертвенное поколение, выстлавшее телами сталинскую победу. Чудом уцелевшая в мясорубке войны, Друнина продолжала верить в правильность «светлого пути», верить, несмотря на «разоблачительные» съезды партии, юдофобскую вонь 70х и покаянные «перестроечные» публикации «Огонька». Но в 91м, после развала «великой страны»», покончила с собой, отравившись газом.
«Вот и мои могли бы также, – думал господин Н. – Честному, искренне верующему человеку всегда трудно, когда ломается основа его веры. Слава Богу, умерли с убеждением, что все их страдания послужили Победе. Ну а я? Есть ли смысл в моем существовании? Конечно, я старался жить по совести, были у меня и мои маленькие победы, и поражения. Приходилось и драться, и выживать… Но, разве можно это сравнить с трагической участью поколения победителей?».
И тут к господину Н., охваченному печалью по поводу тяжелой судьбы «поколения победителей», внезапно подсел, известный в местных журналистских кругах, шустрый Гошка Юдкинд. Он печатал в популярной «русской» газете свои бредовые «фэнтезийные» опусы, неизменно присутствовал на всех тусовках и презентациях и, что называется, «создавал известность» тем литераторам, к которым сам благоволил. В последний раз господин Н. пересекся с ним на Ярмарке русской литературы в Иерусалиме, где Гошка подобострастно извивался вокруг известного московского журналиста Мити Коровина, коего представил господину Н.:
– А вот и сам Митя Коровин! Живой!
«Живой» Митя Коровин, брезгливо тряся жирными телесами, высокомерно кивнул господину Н., а тот удивился, чего это Гошка так выплясывает перед этим популярным в российской либеральной тусовке выкрестом-антисемитом.
И вот сейчас Гошка с ходу затараторил:
– Привет, старина! Что-то давно тебя не видно, не слышно! Пишешь чего? Секрет? А вот я тут был недавно в одной клеевой тусовке! Слыхал про журнал «Лунное затмение»? Ин-те-рес-ные ребята, и пишут очень оригинально. Вот, послушай! – и, заметив нетерпеливое движение господина Н., схватил его за руку. – Да знаю, знаю, что не любишь ты модернистов, но… Талантливо же пишут, стервецы! – и начал громко (тихо он не умел) декламировать:
- «Надсадно кашляя о рваненькое рядно,
- Он правит замком, кАкав на толпы.
- Бахилы памяти, неправые подушно,
- Замолотил, урван, дарордер красножоп!
- Там почивал каркар, синея другорядно,
- Стань раком – сумоброд
- Заклидывая дрок…»
– Слушай, может, хватит? – попросил господин Н., тоскливо озирая окружающее пространство.
Вокруг уже начали собираться любопытные.
– Да, погоди ты! Дослушай! – дернул его за рукав Юдкинд и продолжил:
- «Урви арбуз быта,
- Закракав маслом кочку!
- Непарных полусна урыл об унитаз!
- Стилистику – к х. ям!
- Почию многоножно
- Хрипящей клиникой бершанский буквомат!».
– А?! – восторжено воззрился Гошка на господина Н. – Класс! А называется этот стих «Какивы памяти»[46]. И посвящается патологической бессмыслице прошлогодней ливанской войны.