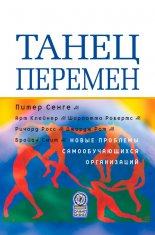Желтая маска Коллинз Уильям
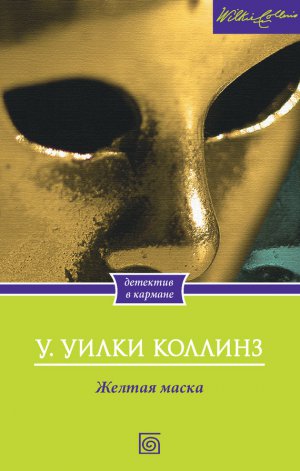
— Могли бы вы узнать кучера, если бы увидели его? — спросил д'Арбино.
— Ну, конечно! Он мой старый приятель.
— И вы знаете, где он живет?
— Так же хорошо, как то, где живу я сам.
— Мы отблагодарим вас как угодно, только найдите кого-нибудь заменить вас у ворот и сведите нас к его дому.
Через несколько минут они уже шли за привратником по темным, безмолвным улицам.
— Зайдем лучше сперва в конюшню, — сказал их провожатый. — Мой приятель, вероятно, успел только доставить даму. Я думаю, он сейчас как раз распрягает.
Привратник свернул налево. Войдя во двор перед конюшней, они застали там только что въехавший пустой экипаж.
— Отвозили вы с маскарада даму в желтом домино? — спросил д'Арбино, сунув в руку извозчику монету.
— Да, сударь. Эта дама наняла меня на весь вечер; я должен был отвезти ее на бал, а потом домой.
— Откуда вы привезли ее?
— С очень странного места — от ворот кладбища Кампо-Санто.
Во время этого разговора Финелло и д'Арбино стояли по обе стороны Фабио, держа его под руки. Услышав последний ответ, он отшатнулся с криком ужаса.
— А куда вы отвезли ее теперь? — спросил д'Арбино; он нервно озирался, задавая этот вопрос, и в первый раз говорил шепотом.
— Опять на Кампо-Санто, — сказал извозчик.
Фабио вдруг выдернул руки из рук друзей и упал на колени, закрыв лицо. По вырывавшимся у него бессвязным восклицаниям можно было догадаться, что последние силы покидают его и он боится за свой разум.
— Почему он в таком волнении? — быстро спросил Финелло у своего друга.
— Тише! — ответил тот. — Разве не при вас он сказал, что лицо за Желтой маской оказалось лицом его покойной жены?
— Да. Так что же?
— Его жена похоронена на Кампо-Санто.
Глава V
Из всех присутствовавших в той или иной роли на балу маркиза Мелани раньше всех поднялась наутро Нанина. Возбуждение, вызванное в ней странными событиями, так близко касавшимися ее, гнало прочь даже мысль о сне. В долгие часы темноты она не смыкала глаз и, как только забрезжил день, встала подышать утренним воздухом у окна и подумать в полной тишине обо всем, что случилось с той минуты, как она вошла во дворец Мелани прислуживать гостям на маскараде.
Когда минувшей ночью она вернулась домой, все ее прочие впечатления были поглощены смутным чувством страха и любопытства, пробужденным в ней видом жуткой фигуры в желтой маске, которую она оставила наедине с Фабио в галерее дворца. Однако свет утра породил новые мысли. Теперь она развернула записку, вложенную молодым дворянином ей в руку, и читала и перечитывала торопливые карандашные строки, нацарапанные на бумаге. Будет ли это дурно, будет ли это забвением своего долга, если она воспользуется завернутым в записку ключом и пойдет на свидание, назначенное ей на десять часов в садах Асколи? Конечно, нет! Конечно, последней написанной им фразы: «Верь в мою правдивость и честь, Нанина, ибо я слепо верю в твою», — было достаточно, чтобы убедить ее, что на этот раз она не могла поступить дурно, послушавшись, наконец, веления своего сердца. А кроме того, на коленях у нее лежал ключ от калитки. Она никак не могла не воспользоваться им, хотя бы для того, чтобы вернуть его сохранным в руки владельца.
Пока она обдумывала эту последнюю мысль, которая, видимо, устраняла еще оставшиеся у нее сомнения и опасения, ее вспугнул внезапный стук у входной двери. Выглянув тотчас в окно, она увидела слугу в ливрее; он стоял на улице и напряженно всматривался в окна, не зная, поднял ли кого-нибудь на ноги его стук.
— Здесь живет сиделка Марта Ангризани? — спросил посланец, как только Нанина показалась в окне.
— Да, — ответила она. — Позвать ее? Кто-нибудь захворал?
— Сейчас же позовите ее, — сказал слуга. — Ее требуют во дворец Асколи. Мой господин, граф Фабио…
Нанина не стала больше ждать. Она помчалась в комнату, где спала сиделка, и в минуту, почти грубо, разбудила ее.
— Он болен! — задыхаясь, кричала она. — О, поторопитесь, поторопитесь! Он болен и прислал за вами!
Марта осведомилась, кто посылал за ней, и, получив ответ, обещала не терять времени. Нанина сбежала по лестнице сказать слуге, что сиделка одевается. Нахмуренное лицо этого человека, когда она подошла к нему близко, наполнило ее трепетом. Вся ее обычная нерешительность исчезла. Не пытаясь скрыть свою тревогу, она умоляла его сказать ей, какой недуг постиг его хозяина, и как это могло случиться так внезапно после бала.
— Я ничего не знаю, — ответил слуга, не без удивления заметив волнение расспрашивавшей его Нанины, — кроме того, что моего господина не так давно доставили домой в очень печальном состоянии двое синьоров, его друзья; мне показалось, что он не совсем в своем уме. Из их разговора я понял, что его страшно потрясло, когда какая-то женщина на балу сняла маску и показала ему свое лицо. Как это могло быть, мне никак не понять; знаю только, что, когда вызвали доктора, у него было очень серьезное лицо и он толковал, что опасается воспаления мозга.
Тут слуга остановился, ибо, к его изумлению, Нанина вдруг отвернулась от него и, горько плача, ушла внутрь дома.
Марта Ангризани кое-как набросила на себя платье и проверяла в зеркале, достаточно ли приличный у нее вид, чтобы появиться во дворце, как вдруг две руки обвили ее шею, и, прежде чем она успела промолвить хоть слово, Нанина уже всхлипывала у нее на груди.
— Он болен, он в опасности! — плакала девушка. — Я должна пойти с вами и помочь ему. Вы всегда были добры ко мне, Марта, будьте же теперь особенно добры! Возьмите меня с собой! Возьмите меня с собой во дворец!
— Ах ты, ребенок! — воскликнула сиделка, мягко высвобождаясь из ее рук.
— Да, да! Хоть на один час! — молила Нанина. — Хоть на один часок каждый день! Вам надо только сказать, что я ваша помощница, и меня впустят. Марта, у меня сердце разобьется, если я не увижу его и не помогу ему поправиться!
Сиделка все еще колебалась. Нанина снова обняла ее за шею и прильнула щекой, — которая теперь горела, несмотря на то, что минуту назад по ней текли слезы, — к лицу доброй женщины.
— Я люблю его, Марта, хотя он такой большой человек, люблю его всеми силами сердца и души, — быстрым и страстным шепотом продолжала девушка. — И он меня любит. Он женился бы на мне, если бы я не ушла, чтобы спасти его от этого. Я могла держать свою любовь в тайне от него, пока он был здоров. Я могла задушить, сокрушить ее, высушить разлукой. Но теперь, когда он болен, она сильнее меня и мне с ней не совладать. Ах, Марта, не разбивайте моего сердца отказом! Я столько страдала ради него, что заслужила право ходить за ним!
Против этой последней мольбы Марта не устояла. У нее было одно большое и редкое для пожилой женщины достоинство: она не забыла, как сама была молода.
— Довольно, детка, — успокоительно произнесла она, — я не могу отказать тебе! Утри глаза, накинь свою мантилью, а когда мы очутимся лицом к лицу с доктором, старайся показаться ему старой и безобразной, если хочешь, чтобы тебя пропустили со мной в комнату больного.
Медицинский допрос прошел легче, чем ожидала Марта Ангризани. Доктор считал чрезвычайно важным, чтобы пациент видел у своей постели знакомые лица. Нанине поэтому довольно было указать, что он хорошо знает ее и что она была его натурщицей в те дни, когда он изучал искусство скульптуры, чтобы немедленно быть признанной в качестве особой помощницы Марты при больном.
Наихудшие опасения врача в отношении пациента вскоре оправдались. Лихорадка охватила его мозг. Без малого шесть недель томился он в жару, на волосок от смерти: то метался с дикой силой горячечных больных, то погружался в безмолвное, недвижное, бессонное изнеможение, бывшее его единственным отдыхом. Наконец, настал блаженный день, когда он впервые насладился сном и когда доктор в первый раз заговорил о будущем с надеждой. Но и теперь целебные сны Фабио были отмечены той же ужасной особенностью, которая и раньше сказывалась в разгар его болезни. Из слабо произносимых, отрывистых фраз, роняемых им, когда он спал, равно как из буйного бреда тех дней, когда его чувства были помрачены, с неизбежностью вытекало одно печальное открытие: его воображение все еще преследовала днем и ночью и час за часом фигура в желтой маске.
По мере того как телесное здоровье графа улучшалось, пользовавшего врача все больше и больше беспокоило состояние его рассудка. Не было никаких признаков настоящего умственного расстройства, но была угнетенность мысли, неизменное, непреодолимое безучастие, питаемое полнейшей верой в реальность видения, которое явилось ему на костюмированном балу, и это внушало доктору глубокие сомнения в успехе его стараний. Он с горестью отмечал, что пациент, хотя и окреп немного, не проявлял никаких желаний, кроме одного. Он настойчиво хотел каждый день видеть Нанину возле своей постели; но как только его заверяли, что требование его непременно будет выполнено, ничто другое уже не заботило его. Даже когда ему предложили, в надежде пробудить в нем хоть что-нибудь похожее на удовольствие, чтобы девушка ежедневно по часу читала ему из его любимых книг, он проявил лишь вялое одобрение. Проходили недели, и сколько с ним ни бились, его нельзя было заставить хотя бы улыбнуться.
Однажды Нанина, по обыкновению, начала читать ему, но очень скоро Марта Ангризани обратила ее внимание на то, что больной впал в дремоту. Она перестала и, вздохнув, грустно глядела на Фабио, который лежал перед нею, изнуренный и бледный, горестный даже во сне, — так печально изменившийся по сравнению с тем, каким он был при их первом знакомстве. Тяжким испытанием было проводить часы у его постели в ужасное время его горячки; но еще более тяжко было глядеть на него теперь и с каждым днем питать все меньшую и меньшую надежду.
В то время как ее взоры и мысли все еще были с состраданием обращены к Фабио, дверь спальни отворилась и вошел доктор, сопровождаемый Андреа д'Арбино, который, будучи участником странного приключения с Желтой маской, особенно интересовался тем, как подвигается выздоровление Фабио.
— Спит, я вижу, и вздыхает во сне, — сказал доктор, подходя к постели. — Главное затруднение с ним, — продолжал он, обращаясь к д'Арбино, — остается все то же. Я испробовал все существующие средства, чтобы вывести его из этого злосчастного уныния; однако за последние две недели он не продвинулся ни на шаг. Нет возможности поколебать его убеждение в реальности того лица, которое он увидел (вернее — считает, что увидел), когда была снята желтая маска. И пока он будет таким недопустимым образом смотреть на это дело, он и останется лежать так, поправляясь, несомненно, телом, но еще хуже помрачаясь умом.
— Бедняга, я полагаю, не в таком состоянии, чтобы с ним можно было пускаться в рассуждения?
— Напротив, как у всех людей, одержимых навязчивой идеей, у него достаточно понимания ко всему, кроме того, в чем он ошибается. Я тщетно спорил с ним целыми часами. К несчастью, он обладает повышенной нервной возбудимостью и живым воображением. А кроме того, я подозреваю, его в детстве воспитали суеверным. По некоторым метафизическим вопросам с ним, вероятно, бесполезно было бы спорить разумными доводами, даже если бы его мозг был вполне здоров. Он по натуре мистик и мечтатель, а с такими людьми наука и логика мало что могут поделать.
— Он только слушает, когда вы убеждаете его, или и отвечает вам?
— У него на все только один ответ, но такой, что на него, к сожалению, особенно трудно возражать. Как только я начинаю доказывать ему его заблуждение, он неизменно требует, чтобы я дал какое-либо разумное объяснение тому, что с ним случилось на костюмированном балу. А между тем ни вы, ни я, хотя мы и верим твердо, что он стал жертвой какого-то гнусного заговора, до сих пор не могли проникнуть в тайну Желтой маски. Здравый смысл говорит нам, что его точка зрения ложная и что мы правы, отстаивая свою; но, если мы неспособны представить ему ясные, осязательные доказательства, а можем только строить теории, видно, что при его теперешнем состоянии каждый раз, когда мы станем увещевать его, мы только больше и больше будем укреплять в нем его заблуждение.
— Если мы до сих пор блуждаем во мраке, — сказал, помолчав, д'Арбино, — то не по недостатку настойчивости с моей стороны. С той минуты как извозчик, отвозивший женщину с бала, дал свои необычайные показания, я неутомимо вел розыски и расспросы. Я предложил вознаграждение в двести скуди тому, кто ее обнаружит. Я сам допросил слуг во дворце, ночного сторожа при Кампо-Санто, просматривал полицейские книги, списки содержателей гостиниц и меблированных комнат, лишь бы напасть на след этой женщины. Все это ничего не дало. Если полное выздоровление моего друга в самом деле зависит от возможности опровергнуть его заблуждение наглядным доказательством, боюсь, у нас мало шансов помочь ему. Что касается меня, то, признаюсь, я исчерпал свою изобретательность.
— Я надеюсь, что мы еще не совсем побеждены, — возразил доктор. — Доказательства, которые нам нужны, могут появиться тогда, когда мы их меньше всего ожидаем. Конечно, это скверный случай, — продолжал он, машинально прижимая пальцами пульс спящего. — Вот он лежит и нуждается только в одном: восстановить естественную гибкость своего ума; а мы стоим у его постели и не знаем, как снять с него груз, его гнетущий. Я повторяю, синьор Андреа: ничто не выведет его из заблуждения, будто он жертва сверхъестественного вмешательства, кроме представления какого-либо разительного фактического доказательства его ошибки. Сейчас он находится в положении человека, от рождения заключенного в темную комнату и отрицающего существование дневного света. Если мы не можем открыть ставни и показать ему небо за ними, нам никогда не привести его к познанию истины.
С этими словами доктор повернулся, чтобы проводить посетителя, и заметил Нанину, которая при его входе отошла от постели и теперь стояла близ двери. Он остановился, взглянул на нее и, добродушно покачав головой, окликнул Марту, которая в эту минуту была занята в смежной комнате.
— Синьора Марта, — сказал доктор, — помнится, вы как-то говорили мне, что ваша миловидная и старательная маленькая помощница живет в вашем доме. Скажите, она много бывает на свежем воздухе?
— Очень мало, синьор доктор! Из дворца она отправляется прямо домой к сестре. Она очень мало бывает на воздухе.
— Я так и думал! Мне сказали об этом ее бледные щеки и опухшие глаза. Так вот, моя дорогая, — обратился доктор к Нанине, — вы славная девушка и, я уверен, исполните то, что я вам скажу. Каждое утро, перед тем как идти сюда, гуляйте на свежем воздухе. Вы слишком молоды для того, чтобы вам можно было сидеть взаперти изо дня в день без правильного моциона. Предпринимайте каждое утро хорошую, большую прогулку, иначе вы попадете в мои руки как пациентка и будете совсем непригодны помогать здесь… Теперь, синьор Андреа, я к вашим услугам… Помните же, детка: прогулка каждый день на открытом воздухе, за городом, а не то заболеете, я в этом уверен!
Нанина обещала, но она говорила рассеянно и, казалось, почти не замечала приветливой простоты в обращении доктора. Все ее мысли были поглощены тем, что он сказал у постели Фабио. Она не проронила ни слова из разговора о пациенте и о том, от каких условий зависело его выздоровление. «О, если бы только удалось найти это доказательство, которое может его исцелить!» — думала она, тихонько возвращаясь к постели, когда комната опустела.
Придя в тот день домой, она застала ожидавшее ее письмо и была немало удивлена, увидев, что оно написано не кем иным, как маэстро-скульптором Лукой Ломи. Письмо было очень кратко и лишь уведомляло ее о том, что он только что возвратился в Пизу и хотел бы знать, может ли она позировать ему для нового бюста — по заказу богатого иностранца в Неаполе.
Нанина немного поколебалась, отвечать ли на это послание более трудным для нее способом, то есть письменно, или более легким — лично; потом она решила пойти в студию и сообщить маэстро, что никак не может служить ему натурщицей, по крайней мере в ближайшее время. Она должна была бы потратить долгий час на то, чтобы изложить это подобающим образом на бумаге, но всего лишь несколько минут, чтобы высказать то же самое своими устами. Итак, она снова надела мантилью и отправилась в студию.
Когда она достигла калитки и уже дернула звонок, внезапная мысль осенила ее, и она удивилась, что это не пришло ей в голову раньше. Не могло ли случиться, что она встретит отца Рокко в мастерской его брата? Было слишком поздно отступать, но еще не поздно спросить, прежде чем войти, нет ли в студии священника. Поэтому, когда один из рабочих отворил ей, она прежде всего со смущением и тревогой осведомилась об отце Рокко. Услышав, что его нет у брата, она вошла и довольно спокойно принесла свои извинения маэстро.
Она не сочла нужным сообщать ему что-либо сверх того, что теперь она каждый день исполняет обязанности сиделки при больном и поэтому лишена возможности посещать студию. Лука Ломи высказал — несомненно, вполне искренне — разочарование по поводу ее отказа и всячески пытался убедить ее в том, что, при желании, она найдет время и ему позировать и ухаживать за больным. Чем больше она противилась его доводам и уговорам, тем упрямее он их повторял. Когда она пришла, он обмахивал перовкой свои любимые бюсты и статуи, нуждавшиеся в этом после его долгой отлучки. Разговаривая, он продолжал это занятие и обращался к Нанине с новой мольбой пересмотреть свое решение каждый раз, когда переходил от одного изваяния к другому; и каждый раз получал все тот же вежливый, но отрицательный ответ, по мере того как она вслед за ним подвигалась по студии в сторону выходной двери.
Достигнув, таким образом, переднего конца помещения, Лука с новым аргументом на устах остановился перед статуей Минервы. Он уже раньше смахнул с нее пыль, но возвратился любовно повторить это и еще раз посмотреть на нее. Этой статуей он особенно дорожил как единственным хорошим изображением (хотя и воплощавшим классический сюжет) своей покойной дочери. Чтя память Маддалены, он отказался расстаться со статуей, и теперь, вторично подойдя к ней с метелкой, задумчиво умолк и взобрался на табурет поглядеть на лицо вблизи и сдуть остатки пыли со лба. Нанина усмотрела в этом удобный случай ускользнуть от дальнейших назойливых уговоров. Она уже готова была с прощальным словом шмыгнуть в дверь, как вдруг внезапное восклицание Луки Ломи остановило ее.
— Гипс! — закричал маэстро, пристально рассматривая волосы статуи там, где они ниже всего опускались на лоб. — Это гипс! — Он вынул перочинный нож и удалил крошечный комочек белого вещества из промежутка между двумя прядями, касавшимися здесь лица. — Да, это гипс! — возбужденно воскликнул он. — Кто-то делал слепок с лица моей статуи!
Он соскочил с табурета и подозрительно оглядел всю студию.
— Это надо выяснить, — сказал он. — Мои статуи оставались на попечении Рокко, и он отвечает, если кто-нибудь крал слепки с них. Я должен сейчас же потребовать у него объяснений!
Видя, что он больше не обращает на нее внимания, Нанина поняла, что теперь ей легко будет осуществить свое отступление. Она отворила дверь студии и повторила, по меньшей мере в двадцатый раз, что сожалеет о невозможности позировать для маэстро.
— Я тоже жалею об этом, деточка, — отозвался он, раздраженно оглядываясь в поисках шляпы.
Видимо, он нашел ее, когда Нанина как раз выходила, ибо она слышала, как он позвал рабочего из внутреннего помещения и приказал ему говорить, если кто-нибудь спросит, что он ушел на квартиру к отцу Рокко.
Глава VI
На следующее утро, когда Нанина проснулась, жестокий приступ головной боли и общее расслабленное, угнетенное состояние напомнили ей о необходимости последовать совету доктора и подумать о своем здоровье, требовавшем свежего воздуха и движения. У нее оставалось свободных два часа до обычного начала ее дневного дежурства во дворце Асколи, и она решила употребить этот досуг на утреннюю прогулку за город. Ла Бьонделла рада была бы пойти с нею, но у нее был на руках крупный заказ на циновки, и ей пришлось в этот день оставаться дома и работать. Вот почему, когда Нанина вышла из дому, ученый пудель Скарамучча был ее единственным спутником.
Она выбралась из города кратчайшей дорогой. Пес, по своему обыкновению, все время настороженный, трусил рядом, часто ласково тычась косматой мордой ей в руку, или же, всячески стараясь привлечь на себя ее внимание, лаял и прыгал перед нею. Однако его усилия были слабо вознаграждены. Нанина снова обдумывала все то, что врач говорил накануне у постели Фабио. А эти мысли привели за собой другие, не менее важные, касавшиеся таинственной встречи молодого дворянина с Желтой маской. Поглощенная своими думами, Нанина мало внимания обращала на прыжки собаки. Даже красота утра напрасно взывала к ней. Она ощущала свежесть прохладного, благоуханного воздуха, но почти не замечала мягкой синевы неба или яркого солнца, празднично преображавшего самые обычные предметы вокруг нее.
Походив около часа, она немного устала и начала подыскивать тенистое местечко для отдыха.
Впереди и позади — только дорога и открытая равнина; но в двух шагах высилось небольшое деревянное здание — не то гостиница, не то кофейня, с большим тенистым увеселительным садом, ворота которого были гостеприимно распахнуты. В саду несколько рабочих сооружали помост для фейерверка. Если не считать этого, место казалось тихим и довольно уединенным. Им пользовались только по вечерам, когда граждане Пизы собирались сюда подышать чистым деревенским воздухом и развлечься после тягот дня. Видя, что в саду нет посетителей, Нанина отважилась войти, намереваясь отдохнуть четверть часа в каком-нибудь прохладном уголке, прежде чем возвращаться в Пизу.
Пройдя позади деревянной беседки в отдаленной части сада, она вдруг заметила, что возле нее нет собаки. Когда же оглянулась, то увидела, что пудель стоит за беседкой, подняв уши и опустив нос к земле; очевидно, он только что почуял след, возбудивший его подозрения.
Считая возможным, что он замыслил нападение на какую-нибудь злополучную кошку, Нанина осмотрелась вокруг. Плотники, строившие помост, в это время громко колотили по доскам. Этот стук заглушал рычание Скарамуччи, но она почувствовала, что он рычит, как только положила руку ему на спину. Ее любопытство было возбуждено, она нагнулась и заглянула сквозь щель, перед которой стоял пудель, внутрь беседки.
Нанина отпрянула, обнаружив, что там сидят мужчина и женщина. Щель между досками была расположена не настолько высоко, чтобы ей видны были лица. Но ей казалось, что она узнала покрой платья дамы; она как будто видела его в былые дни в ателье демуазель Грифони. Быстро выпрямившись, она нашла в доске — приблизительно на высоте своего роста — дырочку, оставшуюся от выпавшего сучка. Нанина заглянула в нее, чтобы убедиться, сама оставаясь укрытой, была ли носительница знакомого платья тем самым лицом, за которое она ее принимала; и увидела не только Бригитту, как ожидала, но еще и отца Рокко. В тот же миг плотники перестали стучать и начали пилить. Звук, доносившийся от помоста, стал ровным и негромким. Голоса сидевших в беседке доходили теперь до Нанины, и она услыхала, как Бригитта произнесла имя графа Фабио. Мгновенно нагнувшись снова рядом с пуделем, девушка крепко обхватила руками его морду. Это было единственным средством удержать его от нового рычания в такое время, когда не было стука молотков, который помешал бы его услышать. Эти два слова «граф Фабио» в устах другой женщины пробудили в ней ревнивую тревогу. Что могла говорить Бригитта в связи с этим именем? Она никогда даже близко не была от дворца Асколи, какое же право или причину имела она толковать о Фабио?
— Вы слышали, что я сказала? — донесся до нее вопрос Бригитты, заданный самым холодным и жестким тоном.
— Нет, — ответил патер, — по крайней мере, не все.
— Тогда я повторю. Я спрашивала, что побудило вас так внезапно отказаться от всякой мысли о дальнейших опытах над суеверными страхами графа Фабио.
— Прежде всего, результат уже проделанного опыта оказался гораздо серьезнее, чем я ожидал, и я полагаю, что цель, которую я при этом имел в виду, уже достигнута.
— Хорошо, но разве это единственная причина?
— Новое потрясение могло бы оказаться гибельным для него. Я могу пустить в ход оправданный, с моей точки зрения, обман, чтобы не дать графу вторично жениться; но я не могу взять на себя преступление.
— Это ваша вторая причина; но я уверена, что у вас есть еще другая. Внезапность присланной вами вчера вечером записки, назначавшей мне встречу в этом уединенном месте; ваше настойчивое требование, почти что приказ, чтобы я принесла сюда восковую маску, — все это подсказывает мне, что должно было что-то случиться. В чем дело? Я женщина, и мое любопытство должно быть удовлетворено. После тех тайн, которые вы мне уже доверили, я думаю, вы могли бы без колебаний доверить мне еще одну.
— Пожалуй, что так. Да и тайна на этот раз не такая уж значительная. Вы знаете, что восковая маска, которую вы носили на балу, была сделана по гипсовому слепку, снятому с лица одной из статуй моего брата.
— Да, я знаю.
— Брат теперь возвратился в свою студию, нашел кусочек гипса, застрявший в волосах статуи, и требует объяснения у меня, как у того, на чьем попечении оставалась мастерская. Объяснение, какое я мог предложить ему, его не удовлетворило, и он хочет продолжать расследование. Учитывая, что пользоваться маской больше не придется, я нахожу самым безопасным уничтожить ее; и я просил вас принести ее сюда, для того чтобы я своими глазами видел, как она будет сожжена или разломана. Теперь вы знаете все, что хотели. Поэтому настал мой черед напомнить вам, что я все еще не имею прямого ответа на первый вопрос, который я задал вам, когда мы здесь встретились: принесли вы с собой восковую маску или нет?
— Не принесла.
— Почему?
В тот миг, когда был задан этот вопрос, пес начал вырываться, стараясь освободить свою морду из рук Нанины. До сих пор она слушала с таким мучительным напряжением, с такими всецело поглотившими ее чувствами ожидания, ужаса и изумления, что не замечала усилий пуделя и только продолжала машинально удерживать его. Но теперь до ее сознания дошло, что она должна немедленно найти новый способ его успокоить, иначе, дергаясь с такой силой, он освободится и выдаст ее своим рычанием.
Страдая от опасения упустить хоть одно слово из этого важного разговора, она сделала отчаянную попытку воззвать к нежным чувствам своего пса и, обвив руками его шею, поцеловала его шершавую волосатую щеку. Такая стратегия имела успех. Скарамучча за долгие годы не видел от своей госпожи иных знаков внимания, кроме того, что случалось — она потреплет его по голове или бросит ему кусочек сахару. Его собачья натура была ошеломлена неожиданной теплотой ласки, и он изо всех сил забился в руках Нанины, стараясь отплатить ей так же пылко, лизнув ее в лицо. Это ей не трудно было предотвратить и тем самым выиграть еще несколько минут, чтобы послушать за беседкой, без опасности обнаружения.
Она упустила ответ Бригитты на вопрос отца Рокко, но успела уловить ее следующие слова.
— Мы здесь одни, — сказала Бригитта. — Я женщина и не знаю, не пришли ли вы вооруженный. С моей стороны это простая предосторожность — не дать вам случая отнять у меня маску, прежде чем я поставлю свои условия.
— Раньше вы ничего не говорили о каких-либо условиях!
— Верно. Я помню, как я говорила вам, что мне не нужно ничего, кроме новизны участия в маскараде в роли моей мертвой противницы и наслаждения возможностью напугать человека, который грубо высмеял меня когда-то в студии. Это была правда. Но правда и то, что наш эксперимент над графом Фабио задержал меня в городе гораздо дольше, чем я рассчитывала, что я почти без гроша и что я заслужила оплату. Проще говоря, хотите ли вы купить у меня маску за двести скуди?
— У меня нет и двадцати скуди, которыми я был бы волен распоряжаться.
— Если вы хотите получить восковую маску, вам надо найти двести скуди. Я не хочу угрожать вам, но деньги мне необходимы. Я назвала двести скуди потому, что ровно столько публично предлагают друзья графа Фабио за обнаружение женщины, носившей желтую маску на балу у маркиза Мелани. Чтобы заработать деньги, если я захочу, мне достаточно пойти во дворец, взяв с собой маску, и сказать, что я та самая женщина. Допустим, что я решусь на такое признание! Мне не могут сделать ничего худого, и я разбогатею на двести скуди. А вы, конечно, можете пострадать, если станут допытываться, кто изготовил восковую копию и кто предложил мне одеться и сыграть роль призрака.
— Подлая! Ты воображаешь, что мое доброе имя может пострадать от ничем не подтвержденных показаний из твоих уст?
— Отец Рокко! Впервые за то время, что я имею удовольствие быть с вами знакомой, я вижу нарушение вами правил учтивости. Я оставляю вас, чтобы вы успели стать самим собой. Если вы пожелаете извиниться за то, что назвали меня подлой, и захотите приобрести восковую маску, почтите меня своим посещением до четырех часов дня и принесите с собой двести скуди. Если вы промедлите после четырех, будет уже поздно.
На миг стало тихо. А затем Нанина поняла, что Бригитта уходит, так как услышала шелест платья на лужайке перед беседкой. К несчастью, услышал его и Скарамучча. Он завертелся в руках Нанины и зарычал.
Шум потревожил отца Рокко. Нанина услыхала, как он встал и покинул беседку. Быть может, у нее еще хватило бы времени спрятаться за деревьями, если бы она сразу вернула себе самообладание; но она была не способна ни на какое усилие. Она не могла ни соображать, ни даже пошевелиться. Дыхание замерло в ее груди, когда она увидела тень священника, медленно скользившую по траве и огибавшую беседку. Еще мгновение, и они очутились лицом к лицу.
Он остановился в нескольких шагах от девушки и пристально смотрел на нее в мертвом молчании. Она все еще сидела, согнувшись, под стеной беседки и одной рукой машинально удерживала собаку. Это было счастьем для патера. Страшные клыки Скарамуччи были оскалены, косматая шкура топорщилась, глаза горели, угрюмое рычанье перешло на свирепые ноты. Он был готов растерзать в минуту не только отца Рокко, но и все духовенство Пизы.
— Ты подслушивала, — спокойно сказал священник. — Я вижу это по твоему лицу. Ты все слышала.
Она не могла ответить ни слова; не могла отвести глаз от него. Неестественное спокойствие его лица и упрямое, нераскаянное, беспредельное отчаянье в его взоре наполнили ее ужасом. Чего бы она не отдала, лишь бы быть в силах подняться на ноги и убежать подальше!
— Однажды я не поверил тебе и потом тайно следил за тобой, — снова заговорил отец Рокко после короткого молчания, задумчиво и со странной тихой печалью в голосе. — А теперь, как я поступил с тобой, так и ты поступаешь со мной. Когда-то ты вверила надежду своей жизни в мои руки. Потому ли, что они не были достойны доверия, разоблачение и гибель постигают меня, а ты стала орудием возмездия? Может ли быть такова воля неба, или это просто слепое правосудие случая?
Он с сомнением устремил взор ввысь, в сверкающий небосвод, и вздохнул. Глаза Нанины по-прежнему были прикованы к нему. Должно быть, он почувствовал на себе их взгляд, потому что вдруг опустил глаза и снова посмотрел на девушку.
— Что же ты молчишь? Чего ты боишься? — спросил он. — Я не могу причинить тебе вреда: возле тебя твоя собака, и рабочие — в нескольких шагах. Я не могу причинить тебе вреда, да и не хочу. Иди назад в город; расскажи то, что ты слышала, верни разум человеку, которого любишь, и погуби меня. Это твое дело, исполни его! Я никогда не был твоим врагом — даже тогда, когда не доверял тебе. Я и теперь не враг тебе. Не твоя вина, что роковое несчастье свершилось через тебя; не твоя вина, что я отвергнут как орудие справедливого возмещения ущерба Церкви. Встань, дитя, и ступай своей дорогой, а я пойду своей и подготовлюсь к тому, что будет. Если мы никогда больше не встретимся, запомни, что я расстался с тобой без единого резкого слова или гневного взгляда, расстался так, зная, что первые же слова, которые ты произнесешь в Пизе, будут смертельны для моего доброго имени и сокрушительны для великой цели моей жизни.
Выговорив это все с тем же спокойствием, которое с самого начала отмечало его поведение, он еще немного поглядел ей в глаза, вздохнул снова и отвернулся. Уже исчезая среди деревьев, он произнес «прощай!» — но так тихо, что она еле расслышала. Странная неуверенность затуманила ее мысли, когда она потеряла его из виду. Она ли обидела его? Или он — ее? Его слова смутили ее простое сердце и тяжестью легли на него. Неясные сомнения, и страхи, и внезапное отвращение к этому месту за беседкой овладели ею. Она встала на ноги и, не отпуская пуделя от себя, поспешила из сада на дорогу. Там широкий поток солнечных лучей и вид раскинувшегося перед ней города изменили ход ее мыслей и обратили их всецело на Фабио и на будущее.
Жгучее нетерпение поскорее вернуться в Пизу охватило ее. Она, насколько могла, ускорила шаг. Врач был во дворце, как сказали ей слуги, без дела слонявшиеся по двору. Как только она показалась перед доктором, он понял, что случилось что-то важное, и повел ее из комнаты больного в пустой кабинет Фабио. Там она рассказала ему все.
— Вы спасли его! — радостно воскликнул доктор. — Теперь я ручаюсь за его выздоровление. Пусть только эта женщина придет сюда за наградой; предоставьте мне поговорить с ней так, как она того заслуживает! А до тех пор, дорогая моя, ни под каким видом не уходите из дворца без моего разрешения. Я сию же минуту напишу синьору Андреа д'Арбино, чтобы он пришел и услышал о вашем необычайном открытии. Ступайте назад и читайте графу, как обычно, пока я не позову вас опять. Но помните: ни слова ему пока из того, что вы мне сказали! Он должен быть осторожно подготовлен к тому, что мы имеем ему сообщить, и оставаться в полной неизвестности до конца наших приготовлений.
Д'Арбино сам явился в ответ на послание доктора, и Нанина повторила ему всю историю. Когда девушка окончила свой рассказ и удалилась, д'Арбино и доктор на некоторое время заперлись вдвоем. Незадолго до четырех часов они снова вызвали ее в кабинет. Доктор сидел за столом, на котором лежал мешок с деньгами, а д'Арбино наставлял одного из слуг, объясняя ему, что, если во дворец явится дама по вопросу о выпущенном им объявлении, ее следует немедленно провести в кабинет.
Когда часы пробили четыре, Нанине было предложено расположиться на диванчике под окном и ждать там, пока ее не позовут. Когда она заняла указанное ей место, доктор опустил одну из гардин, чтобы скрыть ее от всякого, кто вошел бы в комнату.
Прошло около четверти часа; а затем дверь распахнулась и в комнату вошла Бригитта, собственной персоной. Доктор поклонился, а д'Арбино предложил ей стул. Она превосходно владела собой и весьма изящно поблагодарила их за любезность.
— Я полагаю, что предо мною близкие друзья графа Фабио д'Асколи? — начала Бригитта. — Разрешите спросить, полномочны ли вы действовать от имени графа в отношении награды, предлагаемой этим объявлением?
Осмотрев объявление, доктор сказал, что дама совершенно права, и выразительно указал на мешок.
— Итак, вы готовы, — с улыбкой продолжала Бригитта, — выдать награду в двести скуди тому, кто может указать вам женщину, носившую желтую маску на балу у маркиза Мелани, и рассказать, как ей удалось воспроизвести лицо и фигуру умершей графини д'Асколи?
— Конечно, готовы! — с некоторым раздражением ответил д'Арбино. — Как люди чести, мы не привыкли обещать то, чего не намерены, при соответствующих условиях, исполнить.
— Простите меня, дорогой друг, — вмешался доктор, — Мне кажется, вы немного погорячились. Дама совершенно права, принимая меры предосторожности. Вот у нас здесь двести скуди, — продолжал он, похлопывая по мешку с деньгами. — И мы готовы уплатить эту сумму за требуемые сведения. Однако, — и тут доктор недоверчиво передвинул мешок со стола к себе на колени, — нам нужны доказательства, что лицо, претендующее на награду, действительно имеет на нее право.
Глаза Бригитты жадно следили за мешком.
— Доказательства! — воскликнула она, доставая из-под плаща небольшую плоскую коробку и толкая ее через стол к доктору. — Доказательства! Тут вы найдете такое доказательство, которое установит мое право вне всяких сомнений.
Доктор открыл коробку и посмотрел на лежавшую внутри восковую маску; потом передал ее д'Арбино и снова положил деньги на стол.
— Содержимое этой коробки, конечно, способно объяснить многое, — сказал он, слегка подталкивая мешок к Бригитте, но не снимая с него руки. — Женщина в желтом домино была, я полагаю, одного роста с покойной графиней?
— В точности, — ответила Бригитта. — Глаза у нее были одного цвета с глазами графини; она была в желтом, того же оттенка, что и драпировки в комнате покойной, а под желтой маской на ней был бесцветный восковой слепок с лица покойной графини, который сейчас в руках у вашего друга. Вот все, что касается этой части дела. Мне осталось открыть вам, кто была эта дама. Будьте добры, сударь, подвинуть мешок на дюйм или два в мою сторону, и я с большим удовольствием скажу вам.
— Благодарю вас, сударыня, — отозвался доктор, заметно меняя тон. — Мы уже знаем, кто была дама.
С этими словами он передвинул мешок со скуди на свою половину стола. У Бригитты вспыхнули щеки, и она встала со стула.
— Должна ли я понять, сударь, — надменно произнесла она, — что вы хотите воспользоваться моим положением беззащитной женщины и обманно лишить меня награды?
— Ни в коем случае, сударыня! — возразил доктор. — Мы обязались уплатить награду лицу, которое доставит нам требуемые сведения.
— Хорошо, сударь! Разве я не дала вам часть этих сведений? И разве я отказываюсь дать их вам полностью?
— Совершенно верно. Но беда в том, что вас опередили. О том, кто была дама в желтом домино и как ей удалось воспроизвести черты покойной графини д'Асколи, мы узнали уже несколько часов назад от другого лица. Это лицо, следовательно, имеет преимущество перед вами. По всем законам справедливости, это лицо и должно получить награду. Нанина, мешок принадлежит вам. Подите сюда и возьмите его!
Нанина показалась из своего убежища. Бригитта, как громом пораженная, мгновение молча смотрела на нее.
— Эта девчонка! — хрипло произнесла она и остановилась, задыхаясь.
— Эта девушка была утром за беседкой, когда вы разговаривали там со своим сообщником, — сказал доктор.
Д'Арбино с момента появления Нанины внимательно следил за лицом Бригитты. Теперь он тихонько подошел к ней. И не напрасно: не успел доктор договорить, как Бригитта схватила со стола лежавшую среди других письменных принадлежностей тяжелую линейку, и, если бы д'Арбино не сжал ее руки, она в тот же миг швырнула бы эту линейку в голову Нанине.
— Отпустите меня, сударь, — сказала она, роняя линейку и поворачиваясь к д'Арбино с улыбкой на побелевших губах и с холодной злобой в упрямых глазах. — Я могу выждать более благоприятного случая!
С этими словами она направилась к двери, потом, обернувшись, в упор поглядела на Нанину.
— Жаль, что я не была чуть проворней с линейкой! — сказала она и вышла.
— Ну вот! — воскликнул доктор. — Я сказал вам, что сумею поговорить с ней так, как она того заслуживает. Одним я безусловно обязан ей: она избавила нас от необходимости идти к ней на дом, чтобы заставить ее выдать маску. А теперь, дитя мое, — продолжал он, обращаясь к Нанине, — вы можете идти домой, и кто-нибудь из слуг проводит вас до самой двери, на случай, если эта женщина еще прячется где-либо возле дворца. Постойте! Вы оставили мешок с деньгами.
— Я не могу взять их, сударь.
— Почему же?
— Она взяла бы деньги!
Сказав это, Нанина покраснела и покосилась на дверь.
Доктор одобрительно переглянулся с д'Арбино.
— Хорошо, хорошо, мы теперь не будем спорить об этом! — сказал он. — Пока что я запру деньги и маску. Приходите, милая, завтра, как всегда. К этому времени я обдумаю, как нам лучше всего сообщить о вашем открытии графу Фабио. Только будем действовать медленно, осторожно, и я ручаюсь за успех.
Глава VII
На следующее утро среди первых посетителей во дворце Асколи был маэстро-скульптор Лука Ломи. Он показался слугам взволнованным и выразил настойчивое желание увидеть графа Фабио. Услыхав, что это совершенно невозможно, он немного подумал, а затем осведомился, здесь ли пользующий графа врач и может ли он поговорить с ним. На оба вопроса ему ответили утвердительно и привели его к доктору.
— Не знаю, как мне приступить к тому, что я хочу сказать, — смущенно озираясь, начал Лука. — Прежде всего, разрешите спросить вас, была ли здесь вчера работница, по имени Нанина?
— Была, — ответил доктор.
— Говорила ли она с кем-нибудь наедине?
— Да, со мной.
— Тогда вы знаете все?
— Абсолютно!
— Что ж, я рад хотя бы тому, что цель моего свидания с графом может быть достигнута и разговором с вами. Мой брат, я с сожалением должен это сказать…
Он остановился, смущенный, и вытащил из кармана сверток бумаг.
— Вы можете говорить о своем брате совершенно открыто. Мне известна его роль в создании гнусного заговора с Желтой маской.
— Я ходатайствую перед вами, а через вас и перед графом, о том, чтобы ваши сведения о поступке моего брата не пошли дальше. Если эта скандальная история получит огласку, это погубит мое дело. А я и так уж зарабатываю достаточно мало, — сказал Лука, и прежняя алчная гримаса чуть проступила на его лице.
— Скажите, вы пришли с этой просьбой от имени брата?
— Нет, я пришел только в своих интересах. Брату, по-видимому, все равно, что будет дальше. Он сразу же составил полное показание о своей роли во всем этом; препроводил его своему начальнику (который перешлет его дальше — архиепископу) и теперь ожидает, какой вынесут ему приговор. Я принес копию этого документа, доказывающего, что брат, по крайней мере, правдив и что он не уклоняется от последствий, которых мог бы избежать, если бы скрылся. Закон не может наказать его, но Церковь может, и Церкви он сделал свое признание. Единственное, о чем я прошу, это — чтобы его избавили от публичного посрамления. Это не принесло бы графу никакой пользы, а для меня означало бы непоправимый ущерб. Просмотрите бумаги сами и покажите их, когда сочтете удобным, хозяину этого дома. Я всецело полагаюсь на его честь и доброту, а также на ваши.
Он положил сверток с бумагами на стол, а сам скромно отошел к окну. Доктор не без любопытства стал просматривать бумаги.
Показание, или признание, начиналось со смело высказанного автором убеждения в том, что часть имущества, унаследованного графом Фабио д'Асколи от его предков, была, путем обмана и подтасовки фактов, отторгнута от Церкви. Далее, в строгом порядке, были указаны источники, на которых было основано это утверждение; тут же были приложены любопытные выписки из старинных манускриптов, на собирание и разбор которых, несомненно, было положено много труда.
Второй раздел был посвящен пространному изложению причин, побудивших автора считать своим безусловным долгом любящего сына и преданного слуги Церкви не успокаиваться до того дня, когда он возвратит преемникам апостолов собственность, обманно отнятую у них в былые дни. Автор считал себя вправе, при крайности — и только при крайности, — использовать любые средства для достижения этой цели, кроме таких, которые могли вовлечь его в смертный грех.
В третьем разделе было рассказано о том, как священник способствовал браку Маддалены Ломи с Фабио, и о надеждах, которые он питал на возврат Церкви имущества сначала через свое влияние на племянницу, а потом, когда она умерла, через свое влияние на ребенка. Затем была указана неизбежность крушения всех его планов в случае новой женитьбы Фабио; и время, когда в уме патера впервые зародилось подозрение о возможности такой катастрофы, было отмечено с педантической точностью.
Четвертый раздел повествовал о том, как возник заговор Желтой маски. В вечер смерти племянницы автор находился в студии брата, томимый предчувствием угрозы вторичного брака Фабио и исполненный решимости во что бы то ни стало предупредить подобный гибельный вторичный союз. Идея снять с изваянной его братом статуи восковую маску блеснула перед ним внезапно. Он не знает, что навело его на такую мысль, быть может, то, что он перед этим думал о суеверных задатках молодого человека, проявления которых сам наблюдал в студии. Он утверждал, что идея восковой маски вначале повергла его в ужас; что он боролся с ней как с искушением дьявола; что из страха поддаться этому искушению он даже воздерживался от посещения студии во время отлучки брата в Неаполь; и что он впервые поколебался в своей стойкости лишь тогда, когда Фабио возвратился в Пизу и когда пошли слухи не только о том, что молодой дворянин собирается быть на балу, но и о том, что он твердо решил вторично жениться.
В пятом разделе сообщалось, что после этого автор предпочел уступить искушению, нежели отказаться от сокровенной мечты своей жизни, допустив возможность новой женитьбы Фабио, что он изготовил по гипсовому слепку с лица статуи восковую маску и что он имел два свидания с женщиной, по имени Бригитта (о которой знал уже раньше). Эта женщина, по мотивам личной злобы, с готовностью взяла на себя изобразить на маскараде покойную графиню; ей же пришло в голову, что несколько анонимных писем к Фабио помогли бы желательным образом настроить его перед предстоявшей мистификацией. Она и написала эти письма. Однако, даже после всех приготовлений, автор, по его словам, все еще не решался на такую крайнюю меру, и он готов был бы отказаться от всего плана, если бы однажды Бригитта не предупредила его, что на балу, в числе других, прислуживать будет работница, по имени Нанина. Он знал, что граф был влюблен в эту девушку, и настолько, что хотел жениться на ней; автор подозревал, что она согласилась прислуживать на балу с особыми намерениями, и поэтому он уполномочил свою сообщницу исполнить задуманную для нее роль в заговоре.
Шестой раздел содержал подробности событий на маскараде, а также — признание автора в том, что накануне бала он писал графу, предлагая примириться и забыть о происшедшем между ними разногласии, с единственной целью — отвести от себя подозрение. Затем он сообщал, что брал на время ключ от калитки Кампо-Санто, держа лицо, которому ключ был доверен, в полной неизвестности о преследуемой им цели. Цель же эта состояла в том, чтобы продолжить жуткую инсценировку с восковой маской (на тот, весьма вероятный, случай, если носительницу маски начнут выслеживать и разыскивать) и заставить извозчика принять Бригитту, а затем высадить ее у ворот кладбища, где была похоронена жена Фабио.
В седьмом разделе автор торжественно заверял, что единственной целью заговора было предупредить новый брак молодого дворянина игрой на его суеверных страхах. После этого заверения автор повторял, что второй брак неизбежно разрушил бы планы священника добиться, в конце концов, возвращения Церкви ее имущества, так как значительная часть состояния графа Фабио отошла бы от ребенка его первой жены, который, несомненно, находился бы под влиянием отца Рокко, к другой жене и, вероятно, к другим детям, влияние на которых со стороны патера было проблематично.
В восьмом и последнем разделе автор каялся в том, что, ревнуя к делам Церкви, допустил такие поступки, которые могут опозорить его рясу; высказывал в самых сильных выражениях свое убеждение в том, что, как бы ни смотрели на примененные им средства, поставленная им перед собой цель была самая праведная; и заключал уверением в своей решимости смиренно перенести даже самую суровую кару, какой высшая церковная власть найдет необходимым его подвергнуть.
Просмотрев этот необычайный отчет, доктор снова обратился к Луке Ломи.
— Я согласен совами, — сказал он, — что не было бы никакой пользы от огласки поведения вашего брата, при том, однако, условии, что его церковное начальство исполнит свой долг. Я покажу эти бумаги графу, как только он будет в состоянии ознакомиться с ними, и не сомневаюсь в том, что он согласится разделить мою точку зрения.
Эти слова сняли большую заботу с плеч Луки Ломи. Он поклонился и вышел.
Доктор положил бумаги в тот же шкаф, куда им была спрятана восковая маска. Прежде чем запереть дверцу, он снова вынул плоскую коробку и долго задумчиво смотрел на лежавшую там маску, а затем послал за Наниной.
— Теперь, дитя мое, — сказал он, когда она явилась, — я собираюсь произвести первый опыт над графом Фабио; и я считаю весьма важным, чтобы вы присутствовали, когда я буду говорить с ним.
Он взял коробку с маской и, сделав знак Нанине, повел ее в комнату Фабио…
Глава VIII
Около полугода спустя после описанных нами событий синьору Андреа д'Арбино и кавалеру Финелло случилось гостить у их общего друга в приморской вилле на берегу Неаполитанского залива, близ Кастелламаре. Большую часть времени они приятно проводили в море, удя рыбу и плавая под парусами. В их полное распоряжение была предоставлена лодка. Иногда они весь день сидели и лежали на берегу, иногда же предпринимали прогулки по прелестным островам залива.
Как-то вечером они шли под легким ветром близ Сорренто. Красота местности побуждала их держать лодку поближе к берегу. Незадолго до заката они обогнули необыкновенно живописный мыс, и перед ними открылась небольшая бухта с белым песчаным пляжем. Они увидели сперва окруженную апельсинными и оливковыми деревьями виллу на скалистых высотах в некотором расстоянии от берега, затем — тропинку в скалах, ведшую к пляжу, и, наконец, — небольшую семейную группу на берегу, наслаждавшуюся благоуханным вечерним воздухом.
Взрослые — женщина и мужчина — сидели рядом на песке. На коленях у женщины лежала гитара, и она наигрывала простую мелодию танца. Возле нее маленький ребенок в полном блаженстве катался по песку; а перед ней небольшая девочка плясала под музыку с весьма необычным партнером, в образе пса, который уморительно подпрыгивал на задних лапах. Веселый смех девочки и приятные звуки гитары ясно доносились по тихой воде.
— Держи чуть ближе к берегу, — сказал д'Арбино своему другу, сидевшему на руле, — и оставайся, как я, в тени паруса. Я хочу увидеть лица этих людей, но так, чтобы они не видели меня.
Финелло повиновался. Подойдя достаточно близко, чтобы разглядеть черты сидевших на берегу и быть громко облаянными собакой, они вновь повернули нос лодки в открытое море.
— Добрый путь, господа! — звонким голосом крикнула девочка.
Они помахали шляпами в ответ, а затем увидели, как она подбежала к собаке и взяла ее за передние лапы.
— Поиграй, Нанина! — услышали они опять ее голос. — Мы хотим танцевать еще!
Вновь зазвучала гитара, и смешная собака в тот же миг поднялась на задние лапы.
— Я слыхал, что он снова здоров, недавно женился на ней и куда-то уехал с нею, ее сестрой и ребенком от первой жены, — сказал д'Арбино. — Но я не подозревал, что место их уединения так близко от нас. Сейчас еще слишком рано врываться в их семейное счастье, иначе я был бы склонен подвести лодку к берегу.
— Я так и не знаю конца этой странной истории с Желтой маской, — сказал Финелло. — Кажется, там был замешан патер, не так ли?
— Да, никто точно не знает, что стало с ним. Он был отправлен в Рим, и с тех пор никто о нем не слыхал. По одним слухам, церковные власти присудили его к какому-то таинственному искупительному заточению, по другим — он будто бы вызвался взять приход где-то в колониях, среди грубых людей и в зачумленном климате. Недавно я спрашивал о нем у его брата, скульптора, но он только покачал головой и ничего не сказал.
— А женщина, носившая желтую маску?
— Ее судьба тоже загадочна. В Пизе ей пришлось распродать все, что у нее было, для уплаты долгов. Ее подруги по модной мастерской, к которым она обратилась за помощью, не пожелали иметь с ней никакого дела. Она покинула город одна и без гроша.
Во время этого разговора лодка подошла к следующему мысу. Они обернулись бросить последний взгляд на берег бухты. Звуки гитары все еще мягко долетали по спокойной воде; но теперь к ним примешивался голос женщины. Она пела. Девочка и собака сидели у ее ног, а мужчина — на своем прежнем месте, рядом с нею.
Через несколько минут лодка обогнула мыс, пляж скрылся из виду, и музыка тихо замерла вдали.