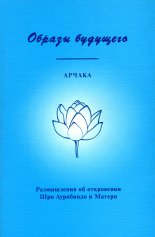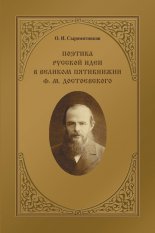Баллады Власов Алксандр
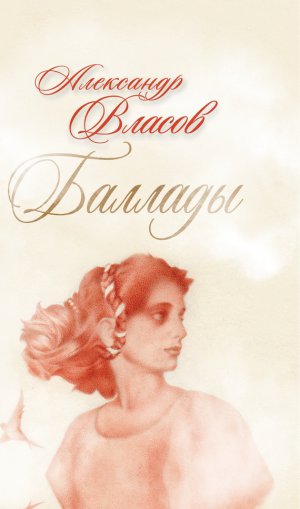
- Так ты его остережешь? спасешь?
Камоэнс
- Остерегу, спасу… Пришли его
- Сюда…
Квеведо
- Он недалёко; крылья имя
- Твое придаст ему; через минуту
- Он будет здесь; и вместе с ним в мой дом
- Пожалует желанный гость — не правда ль?
- Ты будешь, друг?
Камоэнс
- Увидим.
Квеведо
- Ну, прости же,
- Любезный.
(Про себя.)
- Слава богу! все как должно
- Улажено. Лишь только б сына он
- На путь наставил… сам же… что за дело
- Мне до него!.. Пускай в госпитале
- Околевает.
(Уходит.)
Камоэнс
(один)
- Я устал; все силы
- Мои истощены; и жар и холод
- Я чувствую; в глазах моих темнеет;
- Уж не она ль? Не смерть ли, званый друг,
- Ко мне подходит?..
(Помолчав.)
- Всех я схоронил;
- Все, что любил я, что меня любило,
- Давно во гробе… Я стою один
- Перед своей могилою, один…
- И не протянет мне никто руки,
- Чтобы помочь в нее сойти; свалюся
- Туда, как чумный труп, рукой наемной
- Толкнутый в общий гроб. Счастлив стократно
- Простой поселянин! Трудом прилежным
- Довольный, скромный, замыслов высоких
- Не ведая, своей тропинкой он
- Идет; когда же смертный час его
- Наступит, он, в кругу своих, близ доброй
- Жены, участницы всего, что было
- И горького и радостного в жизни,
- Среди детей, воспитанных с любовью,
- Смиренно, тихо, ясно умирает;
- И всеми он любим, и, с ним прощаясь,
- Все плачут, и глаза ему родная
- Рука при смерти зажимает. Я же?..
- О, как меня все обмануло! Я
- Жил одинок и одинок умру…
- Сокровищем она казалась мне
- В тот час, когда нас буря окружала,
- Когда корабль наш об утес в щепы
- Расшибся, — да, сокровищем тогда
- Она, мое созданье, Лузиада,
- Казалась мне! и в море с Лузиадой
- Я кинулся, и отдал на пожранье
- Волнам все, все и с гордым торжеством
- На берег нищим вышел… спасена
- Была мое созданье, Лузиада!
- Час роковой! погибельная песнь!
- Погибельный венец, мне данный славой!
- Для них от мирного, земного счастья
- Отрекся я — и что ж от них осталось?
- Разуверение во всем, что прежде
- Я почитал высоким и прекрасным…
(Помолчав.)
- Мне холодно, и дрожь в моих костях:
- Последняя минута Камоэнса —
- И никого, чтоб вздох его принять!
- В прошедшем ночь, в грядущем ночь; расстроен,
- Разрушен гений; мужество и вера
- Потрясены, и вся земная слава
- Лежит в пыли… Что жизнь моя была?
- Безумство, бешенство… он справедливо
- Сказал: барыш мечтателя — мечта.
Камоэнс и Васко Квеведо.
Васко
- Здесь, сказано, могу его найти…
- Ах, вот он!.. это он!.. таким видал я
- Его во сне… но только бодрым, смелым,
- И молнии в глазах, и голова,
- Поднятая торжественно и гордо…
- Что нужды! Это он… Хотя и стар
- И хил, но на лице его печать
- Его великой песни.
Камоэнс
- Кто тут?
Васко
- Васко
- Квеведо, сын знакомца твоего,
- Иозе Квеведо…
Камоэнс
- Ты?
Васко
- Отец меня
- Прислал сюда, дон Лудвиг, пригласить
- Тебя в наш дом переселиться; там
- Найдешь достойное тебя жилище
- И дружбу… но не рано ль я пришел?
Камоэнс
- Когда б промедлил час, пришел бы поздно.
- Приближься, посмотри: уж надо мной
- Летает ангел смерти; для меня
- Все миновалось; но прими совет
- От умирающего Камоэнса
- И сохрани его на пользу жизни…
Васко
- Ты умираешь?.. нет, не может быть,
- Чтоб умер Камоэнс!
Камоэнс
- Минуты, друг,
- Нам дороги; послушай, сын мой, ты,
- Я слышал от отца, служенью муз
- Жизнь посвятить свою желаешь… правду ль
- Сказал он?
Васко
- Правду, я клянуся богом!
Камоэнс
- Одумайся; то выбор роковой;
- Ты молод, и твоя душа, земного
- Еще не ведая, стремится к небу,
- И ты свое стремление зовешь
- Любовию к поэзии, от неба
- Исшедшей, как твоя душа. Но знай,
- Любовь еще не сила; постигать
- Не есть еще творить; а увлекаться
- Стремлением к великому еще
- Не есть великого достигнуть.
Васко
- Знаю.
Камоэнс
- Так загляни ж во глубину своей
- Души, и что ее бы ни влекло —
- Самонадеянность, иль просто детский
- Позыв на подражанье, иль тревога
- Кипучей младости, иль раздраженье
- Излишне напряженных нерв — себя,
- Мой друг, не ослепляй. Другие все
- Искусства нам возможно приобресть
- Наукою; поэта же творит —
- Святейшее оставив про себя —
- Природа; гении родятся сами;
- Нисходит прямо с неба то, что к небу
- Возносит нас.
Васко
- Того, что происходит
- Теперь во мне и что я сам такое,
- Я изъяснить словами не могу.
- Но выслушай мою простую повесть:
- Ребенком тихим, книги лишь одни
- Любя, я вырос, преданный мечтанью.
- Мой взор был обращен во внутрь моей
- Души; я внешнего не замечал;
- Уединение имело голос,
- Понятный для меня; и прелесть лунных
- Ночей меня стремила в область тайны.
- На путь отца смотрел я с отвращеньем;
- Меня влекло неведомо к чему…
- Вдруг раздалась чудесно Лузиада —
- И стало все во мне светло и ясно;
- Сомненье кончилось, и выбирать
- Уж нужды не было… за ним, за ним!
- В моей душе гремело и пылало;
- И каждое биенье сердца мне
- Твердило то ж: за ним! за ним!.. И власть,
- Влекущая меня, неодолима.
- Теперь реши, поэт ли я иль нет?
Камоэнс
- Свидетель бог! твои глаза блестят,
- Как у поэта; но послушай, друг,
- Хотя б их блеск и правду говорил,
- Остановись, не покидай смиренной
- Тропы, протянутой перед тобою;
- Судьба тебе добра желает; мне
- Поверь, я дорогой купил ценой
- Признание, что счастие земное
- Не на пути поэта.
Васко
- Дай его
- Мне заслужить — и пусть оно погибнет!
Камоэнс
- Слепец! тебя, зовет надежда славы.
- Но что она? и в чем ее награды?
- Кто раздает их? и кому они
- Даются? и не все ль ее дары
- Обруганы завидующей злобой?
- За них ли жизнь на жертву отдавать?
- Лишь у гробов, которым уж никто
- Завидовать не станет, иногда
- Садит она свой лавр, дабы он цвел
- Над тлением, которое когда-то
- Здесь человеком было и страдало,
- Нося торжественно на голове
- Под лаврами пронзительные терны.
- Но для того, кто в гробе спит, навеки
- Бесчувственный для здешних благ и бед,
- Не все ль равно — полынь ли над костями
- Его растет, иль лавр… Не вся ль тут слава?
Васко
- Я молод, но уж мне видать случалось,
- Как незаслуженно ее венец
- Бесстыдная ничтожность похищала,
- Ругался над скромно-молчаливым
- Достоинством? Но для меня не счастье,
- Не золото — скажу ли? — и не слава
- Приманчивы…
Камоэнс
- Не счастье и не слава?
- Чего же ищешь ты?
Васко
- О, долго, долго
- Хранил я про себя святую тайну!
- Но посвященному, о Камоэнс,
- Тебе я двери отворю в мое
- Святилище, где я досель один
- Доступному мне божеству молился.
- Нет, нет! не счастия, не славы здесь
- Ищу я: быть хочу крылом могучим,
- Подъемлющим родные мне сердца
- На высоту, зарей, победу дня
- Предвозвещающей, великих дум
- Воспламенителем, глаголом правды,
- Лекарством душ, безверием крушимых,
- И сторожем нетленной той завесы,
- Которою пред нами горний мир
- Задернут, чтоб порой для смертных глаз
- Ее приподымать и святость жизни
- Являть во всей ее красе небесной —
- Вот долг поэта, вот мое призванье!
Камоэнс
- О молодость на крыльях серафимских!
- Как мало ход житейского тебе
- Понятен! возносить на небеса
- Свинцовые их души, их слепые
- Глаза воспламенять, глухонемых
- Пленять гармонией!..
Васко
- Что мне до них,
- Бесчувственных жильцов земли иль дерзких
- Губителей всего святого! Мне
- Они чужие. Для чего творец
- Такой им жалкий жребий избрал, это
- Известно одному ему; он благ
- И справедлив; обителей есть много*
- В дому отца*— всем будет воздаянье.
- Но для чего сюда он их послал, —
- О, это мне понятно. Здесь без них
- Была ли бы для душ, покорных богу,
- Возможна та святая брань, в которой
- Мы на земле для неба созреваем?
- Мы не за тем ли здесь, чтобы средь тяжких
- Скорбей, гонений, видя торжество
- Порока, силу зла и слыша хохот
- Бесстыдного разврата иль насмешку
- Безверия, из этой бездны вынесть
- В душе неоскверненной веру в бога?..
- О Камоэнс! Поэзия небесной
- Религии сестра земная; светлый
- Маяк, самим создателем зажженный,
- Чтоб мы во тьме житейских бурь не сбились
- С пути. Поэт, на пламени его
- Свой факел зажигай! Твои все братья
- С тобою заодно засветят каждый
- Хранительный свой огнь, и будут здесь
- Они во всех странах и временах
- Для всех племен звездами путевыми;
- При блеске их, что б труженик земной
- Ни испытал, — душой он не падет,
- И вера в лучшее в нем не погибнет.
- О Камоэнс! о, верь моим словам!
- Еще во мне того, что в этот миг
- Я чувствую, ни разу не бывало;
- Бог языком младенческим моим
- С тобою говорит: ты совершил
- Свое святое назначенье, ты
- Свой пламенник зажег неугасимо;
- Мне в душу он проник, как божий луч;
- И скольких он других согрел, утешил!
- И пусть разрушено земное счастье,
- Обмануты ласкавшие надежды
- И чистые обруганы мечты…
- Об них ли сетовать? Таков удел
- Всего, всего прекрасного земного!
- Но не умрет живая песнь твоя;
- Во всех веках и поколеньях будут
- Ей отвечать возвышенные души.
- Ты жил и будешь жить для всех времен!
- Прямой поэт, твое бессмертно слово!
Камоэнс
- Его глаза сверкают, щеки рдеют;
- Пророчески со мной он говорит;
- От слов его вся внутренность моя
- Трепещет; не самим ли богом прислан
- Ко мне младенец этот?.. Ты, мой сын,
- Лишь о грядущем мыслишь — оглянись
- На настоящее и на меня,
- Певца твоей великой Лузиады.
- Смотри, как я, в нечистом лазарете,
- Отечеством презренный и забытый
- Людьми, кончаю жизнь на том одре,
- Где за два дня издох в цепях безумный.
- Таков в своих наградах свет: страшись
- Моей стези; беги надежд поэта!
Васко
- Бежать твоих надежд, твоей стези
- Страшиться?.. Нет, бросаюсь на колени
- Перед твоей страдальческой постелью,
- На коей ты, как мученик смиренный,
- Зришь небеса отверзтые, где ждет li>Тебя твой бог, тебя не обманувший.
- Благодарю тебя, о Камоэнс,
- За все, чем был ты для моей души!
- И здесь со мной тебя благодарят
- Все современники и всех времен
- Грядущих верные друзья святыни,
- Поклонники великого, твои
- По чувству братья. Пусть людская злоба,
- Презрение, насмешка, нищета
- Достоинству в награду достаются —
- Прекрасней лавра, мученик, твой терн!
- И умереть в темнице лазарета
- Верх славы… О судьба! дай в жизни мне
- Быть Камоэнсом! дай, как он, быть светом
- Отечества и века моего
- Величием! — и все земные блага
- Тебя я отдаю на жертву!
Камоэнс
- О!
- Клянусь моей последнею минутой,
- И всей моей блаженно-скорбной жизнью,
- И всем святым, что я в душе хранил,
- И всеми чистыми ее мечтами
- Клянуся, ты назначен быть поэтом.
- Не своелюбие, не тщетный призрак
- Тебя влекут — тебя зовет сам бог;
- К великому стремишься ты смиренно,
- И ты дойдешь к нему — ты сердцем чист.
Васко
- Дойду?.. О Камоэнс! ты ль это мне
- Пророчишь?.. Повтори ж мне, буду ль я
- Поэтом?
Камоэнс
- Ты поэт! имей к себе
- Доверенность, об этом часе помни;
- И если некогда захочет взять
- Судьба свое и путь твой омрачится —
- Подумай, что своим эфирным словом
- Ты с Камоэнсовых очей туман
- Печали свеял, что в последний час,
- Обезнадеженный сомненьем, он
- Твоей душой был вдохновлен, и снова
- На пламени твоем свой прежний пламень
- Зажег — и жизнь прославил, умирая.
- О, помни, друг, об этом часе, помни
- О той руке, уж смертью охлажденной,
- Которая на звание поэта
- Теперь тебя благословляет. Жизнь
- Зовет на битву! с богом! воссияй
- Прекрасным днем, денница молодая!
- А Камоэнсово уж солнце село,
- И смерть над ним покров свой расстилает…
Васко
- Ты не умрешь. На имени твоем
- Покоится бессмертье.
Камоэнс
- Так, оно
- На нем покоится. Его призыв
- Я чувствую: я был поэт вполне.
- Неправедно роптал я на страданье;
- Мне в душу бог вложил его — он прав;
- Страданием душа поэта зреет,
- Страдание — святая благодать…
- И здесь любил я истину святую,
- И голос мой был голосом ее;
- И не развеется, как прах ничтожный,
- Жизнь вдохновенная моя; бессмертны
- Мои мечты; их семена живые
- Не пропадут на жатве поколений.
- Пред господа могу предстать я смело.
Васко
- Что, что с тобой?..
В эту минуту совершается видение: над головою Камоэнса является дух в образе молодой девы, увенчанной лаврами, с сияющим крестом на груди. За нею яркий свет.
Камоэнс
- Оставь меня, мой сын!
- Я чувствую, великий час мой близко…
- Мои дух опять живой — исполнен силы;
- Меня зовет знакомый сердцу глас;
- Передо мной исчезла тьма могилы,
- И в небесах моих опять зажглась
- Моя звезда, мой путеводец милый!..
- О! ты ль? тебя ль час смертный мне отдал,
- Моя любовь, мой светлый идеал?
- Тебя, на рубеже земли и неба, снова
- Преображенную я вижу пред собой;
- Что здесь прекрасного, великого, святого
- Я вдохновенною угадывал мечтой,
- Невыразимое для мысли и для слова,
- То все в мой смертный час прияло образ твой
- И, с миром к моему приникнув изголовью,
- Мне стало верою, надеждой и любовью.
- Так, ты поэзия: тебя я узнаю;
- У гроба я постиг твое знаменованье.
- Благословляю жизнь тревожную мою!
- Благословенно будь души моей страданье!
- Смерть! смерть, великий дух! я слышу весть твою;
- Меня всего твое проникнуло сиянье!
(Подает руку Васку, который падает на колени.)
- Мой сын, мой сын, будь тверд, душою не дремли!
- Поэзия есть бог в святых мечтах земли.
(Умирает.)
Маттео Фальконе*
- В кустах, которыми была покрыта
- Долина Порто-Веккио, со всех
- Сторон звучали голоса, и часто
- Гремели выстрелы; то был отряд
- Рассыльных егерей; они ловили
- Бандита старого Санпьеро; но,
- Проворно меж кустов ныряя, в руки
- Им не давался он, хотя навылет
- Прострелен пулей был. И вот, на верх
- Горы взбежав, он хижины достигнул,
- В которой жил с своей семьей Маттео
- Фальконе; но, к несчастью, в это время
- Один лишь мальчик, сын его, был дома;
- Он у ворот стоял и на долину
- Смотрел, прислушиваясь к шуму. Вдруг
- Из ближних выбежав кустов, Санпьеро
- Бросается к нему и говорит:
- «Спаси меня, я ранен, егеря
- За мною гонятся, они уж близко!» —
- «Да я один; отца нет дома; с ним
- Ушла и мать». — «Что нужды! спрячь меня
- Скорей». — «Да что отец на это скажет?» —
- «Отец тебя похвалит; от меня ж
- На память вот тебе монета». Мальчик,
- Монету взявши, ввел на двор Санпьеро;
- Он спрятался там в сено; Фортунато ж
- (Так звали мальчика) проворно сеном
- Его закрыл, и кровь втоптал в песок,
- И вид спокойный принял. В этот миг
- Вбежал на двор с своими Гамба (главный
- Рассыльщик; он был родственник Маттео).
- «Не попадался ли тебе Санпьеро? —
- У мальчика спросил он. — Верно, здесь
- Его ты видел». — «Нет, я спал». — «Ты лжешь;
- Когда стреляют, спать нельзя». — «Да мой
- Отец стреляет громче вас, а я
- И тут не просыпаюсь». — «Отвечай же,
- Куда ушел Санпьеро? Ты его
- Здесь видел; правду говори, не то
- Тебе достанется». — «Попробуй тронуть
- Меня хоть пальцем; мой отец Маттео
- Фальконе, знаешь?» — «Твой отец тебя
- За то, что лжешь ты, высечет». — «Ан нет,
- Не высечет». — «Да где же твой отец?» —
- «Он в лес пошел за дичью; видишь сам,
- Что я один». К товарищам тогда
- В недоуменье обратившись, Гамба
- Сказал: «Кровавый след привел нас прямо
- Сюда; он, верно, здесь; но этот дом
- Обыскивать не стану я; с Маттео
- Фальконе ссориться опасно». Гамба
- Стоял нахмурившись и тыкал в сено
- Своим штыком, не думая, чтоб там
- Санпьеро спрятан был; а Фортунато,
- Как будто без намеренья цепочкой
- Часов его играя, неприметно
- Его отвесть от места рокового
- Старался. Гамба, вынув из кармана
- Часы, сказал: «Я уж давно тебе
- Подарок, Фортунато, приготовил.
- Ведь у тебя до сих пор нет часов?» —
- «Отец сказал, что мне их даст, как скоро
- Двенадцать лет мне будет», — «А тебе
- Теперь лишь только десять. Эта песня
- Долга. Вот посмотри сюда, какие
- Прекрасные часы». И он на солнце
- Вертел их, и они сверкали ярко.
- Глазами жадными за ними бегал
- Встревоженный их блеском Фортунато…
- Футляр с эмалью, стрелки золотые
- И голубой узорный циферблат…
- «Ну что же, где Санпьеро?» — «А часы
- Ты дашь мне?» — «Дам». И Гамба поднял выше
- Часы; как чаша роковых весов,
- Над головой ребенка, раза два
- Шатнувшися, они остановились.
- Он искушения не вынес; в нем
- Вся внутренность зажглась; как в лихорадке
- Он задрожал и, правую тихонько
- Поднявши руку, вдруг, как зверькогтями,
- Схватил часы, а левою рукою,
- Закинув за спину ее, в молчанье
- На сено Гамбе указал. Без слов
- Был кончен торг кровавый. Фортунато,
- Добычу взяв, о проданной им жертве
- Забыл. Санпьеро из-под сена тут же
- Был вытащен; с презреньем поглядел он
- На мальчика и, в руки егерям
- Отдавшися, сказал: «Друг Гамба, ты
- Уж в этом мне, конечно, не откажешь:
- Найди носилки; я идти не в силах;
- Весь кровью изошел я; признаюсь,
- Стрелять ты мастер и в меня так ловко
- Попал, что уж теперь со мной конец;
- Но видеть мог ты также, что и я
- Не промах». И о нем, как о родном
- (Любя за храбрость и врага), они
- Заботиться усердно принялися.
- Ему хотел монету Фортунато
- Отдать назад; но молча оттолкнул
- Он мальчика, который, уронив
- Монету, отошел, краснея, в угол.
- Маттео, в это время возвращаясь
- С женою из леса, гостей незваных
- Увидел в хижине; поспешно он
- Свое ружье на выстрел приготовил
- И подал знак жене, чтоб и она
- С другим ружьем была готова. Смело
- И осторожно он подходит. Гамба,
- Его вдали узнавши, закричал:
- «Маттео, это мы, друзья!» И тихо,
- В его лицо всмотревшися, он дуло
- Ружья нацеленного опустил.
- «Маттео, — Гамба продолжал, к нему
- Навстречу вышед, — мы лихого
- Поймали зверя; но добыча эта
- Нам дорого досталась: двое из наших
- Легли». — «Кого?» — «Санпьеро, твоего
- Приятеля; ведь он и у тебя
- Украл двух коз». — «То правда; но большая
- Семья у бедняка, а голод, знаешь,
- Не свой брат». — «Вот стрелок! От нас бы, верно,
- Он ускользнул, когда б не Фортунато,
- Мальчишка твой, помог нам». — «Фортунато!» —
- Маттео вскрикнул. «Фортунато!» — мать
- Со страхом повторила. «Да! Санпьеро
- Здесь в сено спрятался, а Фортунато
- Его и выдал нам; за это все вы
- Получите спасибо от начальства».
- Холодным потом обдало Маттео;
- Он в хижину вошел. Там егеря
- Вкруг старика, который чуть дышал,
- От раны изнемогши, суетились;
- И, чтоб ему лежать покойней было,
- Свои плащи постлали на носилки.
- Не шевелясь и молча он смотрел
- На их работу; но, как скоро шум
- Услышал и, глаза подняв, увидел
- В дверях стоящего Маттео, громко
- Захохотал, и страшен был тот хохот.
- Он плюнул на стену и, задыхаясь,
- Глухим, осиплым голосом сказал:
- «Будь проклят этот дом; иуды здесь
- Предатели живут!» Как полотно
- Маттео побледнел и кулаком
- Себя ударил в лоб; он был как мертвый;
- Стоял безгласно. Вот уж старика
- Уклали на носилки, понесли
- Из хижины; вслед за другими Гамба,
- Хозяину пожавши руку, вышел;
- И вот уж все пропали за кустами…
- Маттео ничего не замечал;
- Он, губы стиснув, яростно и страшно
- Смотрел на сына. Фортунато, робко
- Подкравшися, хотел отцову руку
- Поцеловать; Маттео взвизгнул: «Прочь!»
- У мальчика подрезалися ноги;
- Не в силах был он убежать и, бледный,
- К стене прижавшись, плакал и дрожал.
- «Моя ль в нем кровь?» — сверкнувши на жену
- Глазами тигра, закричал Маттео.
- «Ведь я жена твоя», — она сказала,
- Вся покраснев. «И он предатель!» Тут
- Рыдающая мать, взглянув на сына,
- Увидела часы. «Кто дал тебе их?» —
- Она спросила. «Дядя Гамба». Вырвав
- С свирепым бешенством из рук у сына
- Часы, ударил оземь их Маттео,
- И вдребезги они разбились. Долго
- Потом, как будто в забытьи, стучал
- Ружьем он в пол; потом, очнувшись, сыну
- Сказал: «За мной!» И он пошел; за ним
- Пошел и сын. Неся ружье под мышкой,
- Он прямо путь направил к лесу. Мать,
- Схватив его за полу платья: «Он
- Твой сын! твой сын!» — кричала. Вырвав полу
- Из рук ее, он прошептал: «А я
- Его отец, пусти». Поцеловавши
- С отчаяньем невыразимым сына
- И руки судорожно сжав, в дверях
- Осталась мать, чтобы хотя глазами
- Их проводить; когда ж они из глаз
- Вдали исчезли, плача и рыдая
- Перед мадонною она упала.
- Маттео, в лес вошедши, на поляне,
- Деревьями густыми окруженной,
- Остановился. Землю он ружьем
- Копнул: земля рыхла. «Стань на колени, —
- Ребенку он сказал, — читай молитву».
- Став на колени, мальчик руки поднял
- К отцу и завизжал: «Отец, прости
- Меня; не убивай меня, отец!» —
- «Читай молитву». Мальчик, задыхаясь,
- Пролепетал со страхом «Отче наш»
- И «Богородицу». «Ты кончил?» — «Нет,
- Еще одну я знаю литанею;
- Ее мне выучить отец Франческо
- Велел». — «Она длинна, но с богом». Дулом
- Ружья подперши лоб, он руки сжал
- И про себя за сыном повторил
- Его молитву. Кончив литанею,
- Сын замолчал. «Готов ты?» — «Ах, отец,
- Не убивай меня!» — «Готов ты?» — «Ах!
- Прости меня, отец». — «Тебя простит
- Всевышний бог». И выстрел загремел.
- От мертвого отворотив глаза,
- Пошел назад Маттео. На ногах он
- Был тверд; но жизни не было в его
- Лице; с подпорой старости своей
- И сердце он свое убил. Он шел
- За заступом, чтобы могилу вырыть
- И тело схоронить. Ему навстречу,
- Услышав выстрел, кинулась жена:
- «Мое дитя! наш сын! что сделал ты,
- Маттео?» — «Долг свой. Там он, на поляне,
- Лежит. По нем поминки будут: он,
- Как христианин, умер с покаяньем;
- Господь его младенческую душу
- Помилует и успокоит. Ты же,
- Когда сберешься с силой, объяви
- Паоло, зятю нашему, мою
- Решительную волю, чтоб он нынче ж
- К нам на житье с женой переселился».
Две повести*
Подарок на Новый Год издателю «Москвитянина»
- Дошли ко мне на берег Майна слухи,
- Что ты, Киреевский*, теперь стал и москвич
- И Москвитянин. В добрый час, приняться
- Давным-давно пора тебе за дело.
- Меня ж взяла охота подарить
- Тебя и твой журнал на Новый год
- Своим добром, чтоб старости своей
- По-старому хотя на миг один
- Дать с молодостью вашей разгуляться.
- Но чувствую, что на пиру ее,
- Где все кипит, поет, кружится, блещет,
- Неловко старику; на ваш уж лад
- Мне не поется; лета изменили
- Мою поэзию; она теперь,
- Как я, состарелась и присмирела;
- Не увлекается хмельным восторгом;
- У рубежа вечерней жизни сидя,
- На прошлое без грусти обращает
- Глаза и, думая о том, что нас
- В грядущем ждет, молчит. Но все, однако,
- На Новый год мне должно подарить
- Тебя и твой журнал. Друг, даровому
- Коню, ты знаешь сам, не смотрят в зубы.
- Итак, прошу принять мой лепт вдовицы.
- Недавно мне случилося найти
- Предание о древнем Александре
- В талмуде. Я хочу преданье это
- Здесь рассказать так точно, как оно
- Рассказано в еврейской древней книге.
- Через песчаную пустыню шел
- С своею ратью Александр; в страну,
- Лежавшую за рубежом пустыни,
- Он нес войну. И вдруг пришел к реке
- Широкой он. Измученный путем
- По знойному песку, на тучном бреге
- Реки он рать остановил; и скоро вся
- Она заснула в глубине долины,
- Прохладою потока освеженной.
- Но Александр заснуть не мог; и в зной
- И посреди спокойствия долины,
- Где не было следа тревог житейских,
- Нетерпеливой он кипел душою;
- Ее и миг покоя раздражал;
- Погибель войск, разрушенные троны,
- Победа, власть, вселенной рабство, слава
- Носилися пред ней, как привиденья.
- Он подошел к потоу, наклонился,
- Рукою зачерпнул воды студеной
- И напился; и чудно освежила
- Божественно-целительная влага
- Его все члены; в грудь его проникла
- Удвоенная жизнь. И понял он,
- Что из страны, благословенной небом,
- Такой поток был должен вытекать,
- Что близ его истоков надлежало
- Цвести земному счастию; что, верно,
- Там в благоденствии, в богатстве, в мире
- Свободные народы ликовали.
- «Туда! туда! с мечом, с огнем войны!
- Моей они должны поддаться власти
- И от меня удел счастливый свой
- Принять, как дар моей щедроты царской».
- И он велел греметь трубе военной;
- И раздалась труба, и пробудилась,
- Минутный сон вкусивши, рать; и быстро
- Ее поток, кипящий истребленьем,
- Вдоль мирных берегов реки прекрасной
- К ее истокам светлым побежал.
- И много дней, не достигая цели,
- Вел Александр свои полки. Куда же
- Он наконец привел их? Ко вратам
- Эдема. Но пред ним не отворился
- Эдем; был страж у врат с таким ужасно
- Пылающим мечом, что задрожала
- И Александрова душа, его
- Увидя. «Стой, — сказал привратник чудный, —
- Кто б ни был ты, сюда дороги нет».
- «Я царь земли, — воскликнул Александр,
- Прогневанный нежданным запрещеньем, —
- Царем земных царей я здесь поставлен.
- Я Александр!» — «Ты сам свой приговор,
- Назвавшись, произнес; одни страстей
- Мятежных обуздатели, одни
- Душой смиренные вратами жизни
- Вступают в рай; тебе ж подобным, мира
- Грабителям, ненасытимо жадным,
- Рай затворен». На это Александр:
- «Итак, назад мне должно обратиться,
- Тогда, как я уже стоял ногой
- На этих ступенях, туда проникнув,
- Где от созданья мира ни один
- Из смертных не бывал. По крайней мере,
- Дай знамение мне, чтобы могла
- Проведать вся земля, что Александр
- У врат эдема был». На это страж:
- «Вот знаменье; да просветит оно
- Твой темный ум высоким разуменьем;
- Возьми». Он взял; и в путь пошел обратный;
- А на пути, созвавши мудрецов,
- Перед собою знаменье велел
- Им изъяснить. «Мне! — повторял он в гневе, —
- Мне! Александру! дар такой презренный!
- Кусок истлевшей кости!» — «Сын Филиппов, —
- На то сказал один из мудрецов, —
- Не презирай истлевшей этой кости;
- Умей спросить, и даст тебе ответ».
- Тут принести велел мудрец весы;
- Одну из чаш он золотом наполнил;
- В другую чашу кость он положил,
- И… чудо! золото перетянула
- Кость. Изумился Александр; он вдвое
- Велел насыпать золота; он сам
- Свой скипетр золотой, свою корону
- И с ними тяжкий меч свой бросил в чашу —
- Ни на волос она не опустилась.
- Затрепетал на троне царь могучий;
- И он спросил: «Какою тайной силой
- Нарушен здесь закон природы? Чем
- Ей власть ее возможно возвратить?» —
- «Щепоткою земли», — сказал мудрец.
- И бросил он на кость земли щепотку:
- И чаша с костью быстро поднялася,
- И быстро чаша с золотом упала.
- Мудрец сказал: «Великий государь,
- Был некогда подобный твоему
- Разрушен череп; в нем же эта кость
- Была частицей впадины, в которой
- Глаз, твоему подобный, заключался.
- Глаз человеческий в объеме мал;
- Но с ненасытной жадностью объемлет
- Он все, что нас здесь в области видений
- Так увлекательно пленяет; целый
- Он мир готов сожрать голодным взором.
- Все золото земное всыпьте в чашу,
- Все скипетры и все короны бросьте
- На золото… все будет мало; но
- Покрой его щепоткою земли —
- И пропадет его ненасытимость;
- Сквозь легкий праха груз уж не пробьется
- Он жадным взором. Ты ж, великий царь,
- В сем знаменье уразумей прямое
- Значение и времени и жизни.
- Ненасытимости перед тобою
- Лежит символ в истлевшей этой кости».
- Но царь внимал с поникшей головой,
- С челом нахмуренным. Вдруг он вскочил;
- Сверкнул на всех могучим оком льва;
- И возгласил так громко, что скалы
- Окрестные ужасный дали голос:
- «Греми, труба! Вперед, мои дружины!
- Жизнь коротка; уходит время; стыд
- Тому, кто жизнь и время праздно тратит».
- И вихрями взвился песок пустыни;
- И рать великая, как змей с отверзтым
- Голодным зевом, шумно побежала
- К пределам Индии. Завоеватель
- Потоками лил кровь, и побеждал,
- И с каждою победой разгорался
- Сильнейшей жаждою победы новой,
- И наконец они ему щепоткой
- Земли глаза покрыли — он утих.
- Но кажется, почтенный Москвитянин,
- Что мой тебе подарок в Новый год
- Некстати мрачен: гробовая кость,
- Земля могильная, ничтожность славы,
- Тщета величий… в Новый год дарить
- Таким добром неловко; виноват;
- И вот тебе рассказ повеселее.
- Жил на Востоке царь; а у царя
- Жил во дворце мудрец: он назывался
- Керим, и царь его любил и с ним
- Беседовал охотно. Раз случилось,
- Что задал царь такой вопрос Кериму:
- «С чем можем мы сравнить земную жизнь
- И свет?» Но на вопрос мудрец не вдруг
- Ответствовал; он попросил отсрочки
- Сначала на день, после на два, после
- На целую неделю; наконец
- Пришел к царю и так ему сказал:
- «Вопрос твой, государь, неразрешим.
- Мой слабый ум его обнять не может;
- Позволь людей мудрейших мне спросить».
- И в путь Керим отправился искать
- Ответа на вопрос царя. Сначала
- Он посетил один богатый город,
- Где, говорили, находился славный
- Философ; но философ тот имел
- Великолепный дом, был друг сердечный
- Царя, жил сам как царь и упивался
- Из полной чаши сладостию жизни.
- Керим ему вопрос свой предложил.
- Он отвечал: «Свет уподобить можно
- Великолепной пировой палате,
- Где всякий час открытый стол — садись
- Кто хочет и пируй. Над головою
- Гостей горят и ходят звезды неба;
- Их слух пленяют звонким хором птицы;
- Для них цветы благоуханно дышат,
- А на столах пред ними без числа
- Стоят с едою блюда золотые,
- И янтарем кипящим в чашах блещет
- Вино; и все кругом ласкает чувства.
- И гости весело сидят друг с другом,
- Беседуют, смеются, шутят, спорят;
- И новые подходят беспрестанно;
- И каждому есть место; кто ж довольно
- Насытился, встает, и с теми, кто
- Сидели с ним, простясь, уходит спать
- Домой, хозяину сказав спасибо
- За угощенье. Вот и свет и жизнь».
- Керим философу не отвечал
- Ни слова; он печально с ним простился
- И далее поехал; про себя же
- Так рассуждал: «Твоя картина, друг
- Философ, неверна; не все мы здесь
- С гостями пьем, едим и веселимся;
- Немало есть голодных, одиноких
- И плачущих». Кериму тут сказали,
- Что недалеко жил в густом лесу
- Отшельник набожный, смиренномудрый.
- Ему убежищем была пещера:
- Он спал на голом камне; ел одни
- Коренья, пил лишь воду; дни и ночи
- Все проводил в молитве. И немедля
- К нему отправился Керим. Отшельник
- Ему сказал: «Послушай; через степь
- Однажды вел верблюда путник; вдруг
- Верблюд озлился, начал страшно фыркать,
- Храпеть, бросаться; путник испугался
- И побежал; верблюд за ним. Куда
- Укрыться? Степь пуста. Но вот увидел
- У самой он дороги водоем
- Ужасной глубины, но без воды;
- Из недра темного его торчали
- Ветвями длинными кусты малины,
- Разросшейся меж трещинами стен,
- Покрытых мохом старины. В него
- Гонимый бешеным верблюдом путник
- В испуге прянул; он за гибкий сук
- Малины ухватился и повис
- Над темной бездной. Голову подняв,
- Увидел он разинутую пасть
- Верблюда над обой: его схватить
- Рвался ужасный зверь. Он опустил
- Глаза ко дну пустого водоема:
- Там змей ворочался и на него
- Зиял голодным зевом, ожидая,
- Что он, с куста сорвавшись, упадет.
- Так он висел на гибкой, тонкой ветке
- Меж двух погибелей. И что ж еще
- Ему представилось? В том самом месте,
- Где куст малины (за который он
- Держался) корнем в землю сквозь пролом
- Стены состаревшейся водоема
- Входил, две мыши, белая одна,
- Другая черная, сидели рядом
- На корне и его поочередно
- С большою жадностию грызли, землю
- Со всех сторон скребли и обнажали
- Все ветви корня, а когда земля
- Шумела, падая на дно, оттуда
- Выглядывал проворно змей, как будто
- Спеша проведать, скоро ль мыши корень
- Перегрызут и скоро ль с ношей куст
- К нему на дно обрушится. Но что же?
- Вися над этим страшным дном, без всякой
- Надежды на спасенье, вдруг увидел
- На ближней ветке путник много ягод
- Малины, зрелых, крупных: сильно
- Желание полакомиться ими
- Зажглося в нем; он все тут позабыл:
- И грозного верблюда над собою,
- И под собой на дне далеком змея,
- И двух мышей коварную работу;
- Оставил он вверху храпеть верблюда,
- Внизу зиять голодной пастью змея,
- И в стороне грызть корень и копаться
- В земле мышей, а сам, рукой добравшись
- До ягод, начал их спокойно рвать
- И есть; и страх его пропал. Ты спросишь:
- Кто этот жалкий путник? Человек.
- Пустыня ж с водоемом Свет; а путь
- Через пустыню — наша Жизнь земная;
- Гонящийся за путником верблюд
- Есть враг души, тревог создатель, Грех:
- Нам гибелью грозит он; мы ж беспечно
- На ветке трепетной висим над бездной,
- Где в темноте могильной скрыта Смерть
- Тот змей, который, пасть разинув, ждет,
- Чтоб ветка тонкая переломилась.
- А мыши? Их названье День и Ночь;
- Без отдыха, сменяяся, они
- Работают, чтоб сук твой, ветку жизни,
- Которая меж смертию и светом
- Тебя неверно держит, перегрызть;
- Прилежно черная грызет всю ночь,
- Прилежно белая грызет весь день;
- А ты, прельщенный ягодой душистой,
- Усладой чувств, желаний утоленьем,
- Забыл и грех — верблюда в вышине,
- И смерть — внизу зияющего змея,
- И быструю работу дня и ночи —
- Мышей, грызущих тонкий корень жизни;
- Ты все забыл — тебя манит одно
- Неверное минуты наслажденье.
- Вот свет, и жизнь, и смертный человек.
- Доволен ли ты повестью моею?»
- Керим отшельнику не отвечал
- Ни слова; он печально с ним простился
- И далее поехал; про себя же
- Так рассуждал: «Святой отшельник, твой
- Рассказ замысловат, но моего
- Вопроса он еще не разрешил;
- Не так печальна наша жизнь, как степь,
- Ведущая к одной лишь бездне смерти;
- И не одним минутным наслажденьем
- Пленяется беспечно человек».
- И ехал он куда глаза глядят.
- Вот повстречался с ним какой-то странный,
- Убогим рубищем покрытый путник.
- Он шел босой; через плечо висела
- Котомка; в ней же было много хлеба,
- Плодов и всякого добра; он сам,
- Казалось, был веселого ума,
- Глаза его сверкали остротою,
- И на лице приятно выражалось
- Простосердечие. Керим подумал:
- «Задам ему на всякий случай мой
- Вопрос! Быть может, дело скажет этот
- Чудак». И он у нищего спросил:
- «С чем можно нам сравнить земную жизнь
- И свет?» — «На это у меня в запасе
- Есть повесть, — нищий отвечал. — Послушай:
- Одни Немой сказал Слепому: если
- Увидишь ты Арфиста, попроси
- Его ко мне, чтоб сына моего,
- В унылость впадшего, своей игрою
- Развеселил. На то сказал Слепой:
- Такого мне Арфиста уж случалось
- Видать здесь; я Безногого за ним
- Отправлю; он его в одну минуту
- Найдет. Безногий побежал и скоро
- Нашел Арфиста; был Арфист без рук,
- Но он упрямиться не стал и так
- Прекрасно начал на бесструнной арфе
- Играть, что меланхолик без ума
- Расхохотался; то Слепой увидя
- Всплеснул руками; вслух Немой хвалить
- Стал музыканта, а Безногий начал
- Плясать и так распрыгался, что много
- Сбежалося людей, и из толпы
- Вдруг выскочил Дурак: он изъявил
- Арфисту, прыгуну и всем другим
- Свое благоволенье. Мимо их
- Прошла тихонько Мудрость и, увидя,
- Что делалось, шепнула про себя:
- Таков смешной, безумный, жалкий свет,
- И такова на свете наша жизнь.
- Доволен ли ты повестью моею?»
- Керим прохожему не отвечал
- Ни слова; он печально с ним простился
- И далее поехал; про себя же
- Так рассуждал: «Затейлив твой рассказ;
- Но моего вопроса не решил он.
- Хотя мы в жизни много пустоты,
- Дурачества и лжи встречаем, но
- И высшая значительность и правда
- Святая в ней заключены благим
- Создателем». Подумав так, решился
- Керим отправиться в обратный путь,
- Чтоб донести царю, что никакого
- Не удалось ему найти ответа
- На заданный вопрос. Дорогой он
- Молился богу, чтоб своею правдой
- Бог просветил его рассудок темный
- И жизни таинство ему открыл.
- И пред царя явился он с веселым
- Лицом и все, что сведал от других,
- Ему пересказал; а царь спросил:
- «Что ж напоследок сам теперь, Керим,
- Ты думаешь?» — «Сперва благоволи, —
- Сказал Керим, — услышать, что со мной
- Самим случилось на пути. Известно
- Тебе, что я лишь только по твоей
- Высокой воле в этот трудный путь
- Отправился, что, милостию царской
- Хранимый, я везде проводников
- Имел, и пищу находил дневную,
- И никаких не испытал тревог.
- Что ж на дороге доброго, худого
- Мне повстречалося, о том нет нужды
- Упоминать — оно ничто в сравненье
- С той бездной, благ, какими ты так щедро,
- Мой царь, меня осыпал. И мое
- Одно желанье было: угодить
- Тебе, с усердием стараясь правду
- Найти между людьми, чтоб, возвратившись,
- Тебе отчет принесть в своих трудах.
- Теперь ты сам реши по царской правде:
- Достоин ли я милости твоей?»
- Царь, не сказав ни слова, подал руку
- В знак милости Кериму. Умиленно
- Керим ее поцеловал; потом
- Примолвил: «Так я думал про себя
- Во время странствия. Но, подходя
- К твоим палатам царским и печалясь,
- Что без малейшия перед тобой
- Заслуги ныне я к тебе, мой царь,
- Был должен возвратиться, вдруг у самой
- Обители твоей как скорлупа
- С моих упала глаз, и я постигнул,
- Что наша жизнь есть странствие по свету
- Такое ж, как мое, во исполненье
- Верховной воли высшего царя».
- Мудрец умолк; а царь ему сказал:
- «Друг верный, будь моим отцом отныне».
- И для тебя, мой добрый Москвитянин,
- Как и для всех, в обеих повестях
- Полезное найдется наставленье.
- Хотя урок, так безуспешно данный
- Эдемской костью Александру, боле
- Земным царям приличен; но и ты,
- Как журналист, воспользоваться им
- Удобно можешь: будь в своем журнале
- Друг твердый, а не злой наездник правды;
- С журналами другими не воюй;
- Ни с «Библиотекой для чтенья»*, ни
- С «Записками»*, ни с «Северной пчелою»*,
- Ни с «Русским вестником»*; живи и жить
- Давай другим; и обладать один
- Веленною читателей не мысли.
- Другой же повести я толковать
- Тебе не стану; мне давно известно,
- Что ты, идя своей земной дорогой,
- Смиренно ведаешь: куда, зачем
- И кто тебе по ней идти велит.
Комментарии
Людмила*
Закончено 14 апреля 1808 г. Напечатано впервые в журнале «Вестник Европы», 1808, № 9, с подзаголовком «Русская баллада» и примечаниями Жуковского: к заголовку — «Подражание Биргеровой Леоноре»; к словам Конь мой, конь, бежит песок… — «В песочных часах». Переработка баллады Г.-А. Бюргера «Lenore» («Ленора»), к которой Жуковский обращался трижды («Людмила», «Светлана», «Ленора»).
«Ленора», основанная на немецких народных легендах, была характернейшим образцом преромантической поэзии, с ее интересом к народной (преимущественно средневековой) фантастике. В начале своей работы над балладами Жуковский особенно симпатизировал Бюргеру: «Шиллер более философ, а Бюргер простой повествователь, который, занимаясь предметом своим, не заботится ни о чем постороннем» (см. К. Зейдлиц. Жизнь и поэзия Жуковского, СПб., 1883, стр. 40).
Решая задачи, стоявшие в то время перед русской литературой, стремясь создать русскую балладу, Жуковский перестраивает образы и стиль «Леноры». Он, как говорили в то время, «склоняет» оригинал «на наши нравы». Упоминающаяся в подлиннике война 1741–1748 гг. между австрийской императрицей Марией-Терезией и прусским королем Фридрихом II заменена Ливонскими войнами (XVI–XVII вв.). В целях придания балладе национального колорита русского «средневековья» Жуковский употребляет старинные выражения — «рать», «дружина» и т. д. Жуковский не передал «простонародный» стиль оригинала; вместо сохраненной Бюргером грубоватой простоты народного языка ввел условную фразеологию «русских песен» в духе сентиментальной русской поэзии начала XIX века («бедная девица», «надежда-сладость» и т. д.). Имя героини умышленно заменено славянским именем Людмила. По сравнению с оригиналом в «Людмиле» переработан финал: у Бюргера нет изображения смерти Леноры, об этом только упоминается. Изменен размер — у Жуковского четырехстопный хорей вместо четырехстопного ямба.
Современник Жуковского, поэт П. А. Катенин, создал свой вариант переложения «Леноры» — «Ольга» (1816). «Простонародность» оригинала в «Ольге» не только сохранена, но даже усугублена, соответственно катенинскому пониманию народности. В 1816 г. возникла полемика по поводу «Ольги» между Н. И. Гнедичем, сторонником Жуковского, и А. С. Грибоедовым, сторонником Катенина (см. вступительную статью в т. 1 наст. издания).
«Людмила» имела громадный успех. Читатель 1800-х годов нашел в ней и национально-патриотические мотивы, актуальные в эпоху наполеоновских войн, и обаяние литературной новизны. Белинский писал о «Людмиле»: «Тогдашнее общество бессознательно почувствовало в этой балладе новый дух творчества и — общество не ошиблось» (Полное собрание сочинений, изд. АН СССР, т. VII, М., 1955, стр. 169).
Кассандра*
Написано в сентябре (?) 1809 г. Напечатано впервые в журнале «Вестник Европы», 1809, № 20, с примечанием Жуковского: «Читателям известно, что Ахиллес, сын богини Фетиды и Пелея (почему и называется он здесь Пелидом), в ту самую минуту, когда он стоял перед брачным алтарем с Поликсеною, дочерью троянского царя Приама, убит Парисом, стрелою которого управлял Аполлон. Кассандра, сестра Поликсены, будучи жрицею Аполлона, имела несчастный дар предвидеть будущее». Перевод одноименной баллады Шиллера. Шиллер основывался на древнегреческих сказаниях «троянского цикла», вошедших не в «Илиаду», а в одну из «малых» поэм, известных нам по позднейшим пересказам. Согласно этим сказаниям, между троянцами и греками предполагалось заключение мира, в знак чего вождь греков Ахилл должен был вступить в брак с Поликсеной, сестрой Кассандры, дочерью троянского царя Приама. Кассандра, обладающая даром предвидеть несчастья, заранее оплакивает участь свою и Трои. Действительно, Ахилл был убит Парисом, и война возобновилась. Из разрушенной Трои победитель, греческий царь Агамемнон, увез Кассандру в качестве пленницы в Грецию, где они были убиты женой Агамемнона Клитемнестрой.
В балладе заключена мысль о том, что утрата непосредственности жизненных переживаний невыносима для человека. В знании будущего — трагедия Кассандры («Тяжко истины ужасной Смертною скуделью быть»). Общий тон жалоб Кассандры сделан у Жуковского более элегическим, чем в подлиннике. У Шиллера в речах Кассандры есть оттенок пренебрежения к людям; она называет их «вечными слепцами» (у Жуковского — «скромные чада»). Жуковскому принадлежит образ смотрящего на Пергам Зевса в заключительных стихах баллады. В подлиннике иначе — «и тучи громовержца повисают грозно над Илионом».
И моей любви открылся… — Речь идет о фригийском царе Корэбе, женихе Кассандры, которому она предсказала смерть.
Тень Стигийская — призрак смерти.
Машут Фурии змиями… — Богини мщения Фурии, с извивающимися на головах змеями, олицетворяют возмездие за совершенное в Трое (Пергаме) предательское убийство Ахилла.
Боги мчатся к небесам… — Ранее покровительствовавшие Трое боги покидают ее.
Карающий громами — Зевс.
Светлана*
Написано в 1808–1812 гг. Напечатано впервые в журнале «Вестник Европы», 1813, № 1 и 2, с подзаголовком: «Ал. Ан. Пр…вой». В качестве свадебного подарка «Светлана» посвящена племяннице Жуковского Александре Андреевне Протасовой, в замужестве Воейковой, сестре М. А. Протасовой-Мойер (прозвище «Светлана» осталось за А. А. Воейковой). Баллада представляет собой наиболее удачный вариант переработки «Леноры» Бюргера (см. примечания к «Людмиле» и «Леноре»).
Стремление Жуковского воплотить в поэзии национально-русскую тему, поиски народности именно в «Светлане» увенчались наибольшим успехом. По сравнению с «Людмилой» в «Светлане» стих более гибок (чередование четырехстопного хорея с трехстопным; у Бюргера — четырехстопный ямб). Как и «Людмила», «Светлана» была восторженно принята современниками. Наряду с появившимися ранее повестями H. M. Карамзина, «Светлана» способствовала расширению читательской аудитории, проникновению новой литературы в сознание более широких, чем это было прежде, общественных кругов. «Светлану» не раз упоминал в своем творчестве Пушкин («Евгений Онегин», глава 3, строфа V; глава 5, строфа X; эпиграфы к главе 5; к повести «Метель»).
Пустынник*
Написано в июне (?) 1812 г. Напечатано впервые в журнале «Вестник Европы», 1813, № 11 и 12. Перевод баллады О. Гольдемита «The Hermit» («Отшельник»). В финале баллады встреча влюбленных изображена Гольдсмитом более реалистично. Изменено имя героини (в переводе — Мальвина, у Гольдсмита — Ангелина). Вместо перекрестных мужских рифм подлинника у Жуковского — сочетание женских и мужских рифм.
Адельстан*
Написано в январе 1813 (?) г. Напечатано впервые в журнале «Вестник Европы», 1813, № 3 и 4; с подзаголовком: «Баллада (перевод с английского)». Текст в «Вестнике Европы» отличается от окончательной редакции (см. ниже). Перевод баллады Р. Саути «Rudiger» («Радигер»). Сюжет баллады взят Саути из средневековых немецких сказаний о Лоэнгрине. Другой вариант этих сказаний позднее лег в основу знаменитой оперы Р. Вагнера «Лоэнгрин», где Лоэнгрин, облеченный чудесной силой рыцарь, служит «божественной» справедливости. Жуковский в своем переводе изменил имена и названия. У Саути рыцаря зовут Радигер, героиню — Маргарита; действие происходит не в «замке Аллен», а у «стен Вальдхерста». Изменена Жуковским и стиховая структура баллады: у Саути — сочетание четырехстопного и трехстопного ямба, с чередующейся женской и мужской рифмой. В первоначальной редакции, помещенной в «Вестнике Европы», Жуковским был изменен финал баллады Саути (вмешательство «свыше»); мольба матери оставалась напрасной:
- И воскликнула: спаситель!
- Руку рыцаря схватя.
- Нет спасения! губитель
- В бездну бросил уж дитя.
- И дитя, виясь, стенало,
- В грозных сжатое когтях…
- Вдруг все пусто, тихо стало
- В глубине и на скалах.
В окончательной редакции Жуковский, следуя за текстом Саути, заставляет «спасителя»-бога вмешаться в ход событий, спасти безвинного и наказать виновного.
Ивиковы журавли*
Написано в 1813 г. Напечатано впервые в журнале «Вестник Европы», 1814, № 3. Перевод баллады Шиллера «Die Kraniche des Ibykus» («Журавли Ивика»). Согласно древнегреческой легенде, странствующий певец Ивик (VI в. до н. э.) был убит на пути к Коринфу, где, по обычаю, раз в два года происходило состязание певцов в честь морского бога Посейдона («На Посидонов пир веселый…»). Предание о том, как благодаря свидетелям-журавлям преступление было раскрыто, известно нам по позднейшему пересказу, сложившемуся через 400 лет после убийства Ивика.
В основе древнегреческой легенды лежит характерная для античного миросозерцания идея возмездия. Шиллер ввел новый мотив — воздействие искусства на человеческую душу. Под впечатлением представляющейся на сцене трагедии Эсхила «Эвмениды», в частности — хора Эринний (богинь мщения), убийцы теряют самообладание и выдают себя. У Шиллера убийцы, сидящие в верхних рядах, видят летящих журавлей («Смотри, смотря, Тимофей!»); у Жуковского они еще только слышат их приближающийся крик («Парфений, слышишь?.. крик вдали»). Впечатление ужаса, производимого пением Эвменид, Жуковским усилено. Он вводит выражение «сверкая взором», эпитеты «диким хором», «в сердца вонзающим боязнь».
Чада Гелы — дети Гелы (Эллады), греки.
Варвик*
Написано 24–27 октября 1814 г. Напечатано впервые в журнале «Амфион», 1815, кн. VI, с указанием «С англин<ского>». Перевод баллады Р. Саути «Lord William» («Лорд Вильям»). Жуковский во многом отходит от подлинника. Изменены имена — Эдвин вместо Эдмунд, Варвик вместо Вильям, Авон вместо Северн; возможно, эти изменения были связаны с всегда важными для Жуковского задачами звукописи. Изменена стиховая структура: в подлиннике 1-й и 3-й стих четверостишия — не рифмующиеся четырехстопные; Жуковский заменил их рифмующимися пятистопными (в остальном стих совпадает со стихом подлинника). В переводе введено отсутствующее у Саути развернутое описание пейзажа (строфы 4-я-6-я). В строфах 24-й-26-й, сосредоточивая все внимание на основной коллизии, Жуковский снимает ряд эпизодов подлинника — описание испуганной толпы у реки, слова таинственного пловца, который согласен взять в лодку кого-нибудь одного, замешательство толпы, устрашенной голосом незнакомца, решимость Вильяма довериться пловцу.
Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди*
Написано в октябре 1814 г. Напечатано впервые в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», в двух частях, СПб., 1831. Перевод баллады Р. Саути «The old woman of Berkeley. A Ballad, schewing how an old woman rode double and who rode before she» («Старуха из Беркли. Баллада, показывающая, как одна старуха ехала верхом вдвоем и кто ехал перед ней»).
Сюжет баллады взят Саути из средневековых английских хроник, в которых часто встречаются легенды о грешниках и ведьмах, завещающих вымолить себе прощение грехов молебнами о душе. Среди таких легенд часто фигурирует «ведьма из Беркли», первоначально упоминаемая в одной из хроник IX века. Аналогичные мотивы есть в средневековой церковной русской литературе и в старинных русских и украинских поверьях. Ими воспользовался Гоголь при создании повести «Вий».
Как в «Людмиле» и «Светлане», Жуковский переделывает некоторые места баллады на русский лад; богослужению придает православный колорит, в описание колдуньи вводит черты русской фольклорной ведьмы. Характерно, что в рукописи (см. нише) баллада называлась: «Баллада о том, как одна киевская старушка…» и т. д. Переводя балладу, Жуковский изобразил могущество Сатаны в тонах несколько более сильных, чем у Саути: так, Жуковским введены стихи «Как будто степь песчаную оркан Свистящими крылами роет». Изменен размер баллады: у Жуковского — правильный ямб вместо свободного тонического стиха Саути. У Саути наряду с четырехстишиями — пяти и шестистишия.
Любопытно первое упоминание Жуковского о балладе в письме к А. И. Тургеневу от 20 октября 1814 г.: «Вчера родилась у меня еще баллада-приемыш, т. е. перевод с английского. Уж то-то черти, то-то гробы! Но это последняя в этом роде. Не думай, чтоб я на одних только чертях хотел ехать в потомство…» (см. «Письма В. А. Жуковского к Ал. Ив. Тургеневу». — «Русский архив», М., 1895, стр. 128).
Баллада претерпела длинную цензурную историю. После цензурного запрета, наложенного в конце 1814 г., Жуковский в середине 1820-х годов опять сделал попытку напечатать балладу — в журнале «Московский телеграф», под измененным заглавием «Ведьма». Однако попытка не удалась; цензором было сделано следующее заключение: «Баллада «Старушка», ныне явившаяся «Ведьмой», подлежит вся запрещению, как пьеса, в которой дьявол торжествует над церковью, над богом» («Русская старина», 1887, т. LVI, стр. 485). В конечном счете Жуковскому пришлось радикально изменить те строфы, где речь идет о появлении самого Сатаны и о его победе; Сатана остается перед дверью храма, не дерзая в него войти; рука его не прикасается к гробу. В печатной редакции, сохраненной и в пятом (последнем) прижизненном Собрании сочинений (1849), строфы 41-я и 42-я читаются:
- И он предстал весь в пламени очам,
- Свирепый, мрачный, разъяренный;
- Но не дерзнул войти он в божий храм
- И ждал пред дверью раздробленной.
- И с громом гроб отторгся от цепей,
- Ничьей не тронутый рукою;
- И вмиг на нем не стало обручей…
- Они рассыпались золою.
Строфа 45-я:
- Шатаяся, пошла она к дверям;
- Огромный конь, чернее ночи,
- Дыша огнем, храпел и прыгал там,
- И как пожар пылали очи.
В предшествующей этому рукописной редакции (автограф, хранящийся в Институте русской литературы (Пушкинский дом) в Ленинграде — р. 1, оп. 9, ед. хр. 8) 41-я строфа читается:
- Через порог никто ступить не смел,
- Но что-то страшное там ждало;
- Всем чудилось, что там пожар горел,
- Что все в окрестности пылало…
Н. В. Измайлов в примечаниях ко второму изданию «Стихотворений» В. А. Жуковского в большой серии «Библиотеки поэта» (Л., 1956) справедливо отметил, что Жуковский, перерабатывая балладу, внес не только цензурные, но и существенные стилистические изменения. Вслед за Н. В. Измайловым печатаем балладу по тексту пятого прижизненного Собрания сочинений (соответствует тексту «Баллад и повестей», 1831), строфы 41-я, 42-я и 45-я, как подвергшиеся переработке цензурного характера, печатаются по последней рукописной доцензурной редакции.
Алина и Альсим*
Написано в октябре 1814 г. Напечатано впервые в журнале «Амфион», 1815, кн. VI. Перевод стихотворения Фр. — Ог. Паради де Монкрифа «Les constantes amours d'Alix et d'Alexis. Romance sur un air Languedocien» («Верная любовь Алисы и Алексиса. Романс в лангедокской манере»). У Монкрифа — стилизация под одну из форм поэзии средневековых провансальских поэтов (трубадуров), с ее специфической строфикой и аивными любовными сюжетами. Присущий подлиннику оттенок наивности и архаичности Жуковский передает, вводя такие обороты, как «льзя ли жить» и др.
Сюжет баллады, при всей своей литературной условности, имел для Жуковского автобиографический смысл: ситуация в семье Протасовых, в связи с отношением Жуковского к М. А. Протасовой (см. вступительную статью в т. 1 наст. издания), особенно обострилась в 1814 г. Связанный обязательством, данным Е. А. Протасовой, остерегаться намеков на чувство к ее дочери, Жуковский опустил имеющееся в первой строфе подлинника упоминание о «злых родителях».
Эльвина и Эдвин*
Написано в конце октября 1814 г. Напечатано впервые в журнале «Амфион», 1815, февраль, с подзаголовком «Баллада» и пометой «С англин<ского>». Свободное переложение баллады Д. Маллета «Edwin and Emma» («Эдвин и Эмма»). Как в «Алине и Альсиме», в переводе этой баллады отразились подлинные переживания Жуковского. Жуковский вводит тему дочерней любви (Эльвина и ее мать), отражающую отношения между М. А. и Е. А. Протасовыми, и характерный религиозный мотив («Благослови… Но для тебя мне жаль покинуть свет»). Стих, по сравнению с подлинником, усложнен (в балладе Саути — сочетание четырехстопного ямба с трехстопным).
Ахилл*
Начато в 1812 г., закончено в начале ноября 1814 г. Напечатано впервые в журнале «Вестник Европы», 1815, № 4.
Баллада является оригинальным произведением Жуковского. В выборе сюжета и в его трактовке сказалось влияние баллад Шиллера, написанных на сюжеты связанных с «Илиадой» сказаний «троянского цикла» (см. примечания к «Кассандре» и «Торжеству победителей»). В дальнейшем интерес к античной поэзии и Гомеру у Жуковского возрастает. В «Ахилле» выражена характерная для античного сознания идея судьбы, предопределяющей жизненный путь человека. Однако человек сам делает выбор, он может предпочесть одну судьбу другой. Так поступает, согласно мифу, Ахилл, предпочтя быструю и бурную жизнь героя благополучному, но незаметному существованию («Здесь судьба ему сулила Долгий, но бесславный век»). В балладе есть черты «чувствительности», часто привносимой Жуковским в античные сюжеты («Я паду в весне моей…», «Ах, и сердце запрещает…» и т. д.).
Эолова арфа*
Написано в ноябре 1814 г. Напечатано впервые в журнале «Амфион», 1815, кн. III. Принадлежит к числу оригинальных баллад Жуковского. Как в балладах «Алина и Альсим» и «Эльвина и Эдвин», тема «запрещенной любви» имеет здесь автобиографический смысл (см. примечания к указанным балладам). Автобиографический сюжет облечен в формы «оссиановской» поэзии (средневековый колорит, любовь бедного певца и владелицы замка). Атмосферу «оссианизма» создают также имена и названия — Ордал, Минвана (термин «оссианизм» происходит от имени легендарного поэта Оссиана, — см. Дж. Макферсон «Поэмы Оссиана», 1762–1765). Морвена — название страны в одной из песен Оссиана. Жуковский совмещает оссиановскую сумрачную таинственность с поэтическим лиризмом, характерным для его собственной поэзии этих лет. Замечателен любовный диалог Минваны и Арминия, некоторыми чертами напоминающий сцену прощания Ромео и Джульетты в трагедии Шекспира (3-й акт). Образ оставленной на дереве арфы, своим звучанием напоминающей о певце, навеян стихотворениями Фр. Маттисона «Lied aus der Ferne» («Песнь издалека») и И. И. Дмитриева «Лира».
Белинский писал об «Эоловой арфе»: «…она — прекрасное и поэтическое произведение, где сосредоточен весь смысл, вся благоухающая прелесть романтики Жуковского» (Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 171).
Мщение*
Написано в 1816 г. Напечатано впервые в журнале «Невский зритель», 1820, февраль. Перевод одноименной баллады И.-Л. Уланда. Внесены изменения: у Уланда точно определено место действия — река Рейн. Изменен стих — у Уланда дольник.
Гаральд*
Написано в 1816 г. Напечатано впервые в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения», 1820, ч. IX, № III. Перевод одноименной баллады И.-Л. Уланда, написанной на основе средневековых скандинавских легенд о короле шведском и датском Гаральде Хильдетанде (конец VII — начало VIII века). Имя короля Гаральда часто встречается в скандинавском фольклоре; в средние века возникла легенда о том, что он не умер, но спит в заколдованном сне. Во всех прижизненных изданиях, кроме пятого, после 3-й строфы имеется следующая:
- Чей сладко так приманчив глас?
- Что душу всю мутит?
- Что прижимается и льнет
- К бойцам под твердый щит?
Три песни*
Написано в 1816 г. Напечатано впервые в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения», 1820, ч. X, № IV. Перевод одноименной баллады И.-Л. Уланда. Изменено имя короля (в подлиннике — Зигфрид). Вместо средневековой Германии в переводе Жуковского — средневековая Скандинавия. Изменен стих — у Уланда дольник.
Двенадцать спящих дев*
Первая часть написана в 1810 г.; вторая часть — в 1814–1817 гг. Напечатано впервые первая часть («Громобой») в журнале «Вестник Европы», 1811, № 4, с подзаголовком-посвящением: «Русская баллада. Ал. Ан. Прат…вой» (Александре Андреевне. Протасовой, в замужестве Воейковой, сестре М. А. Протасовой-Мойер); вторая часть («Вадим»), вместе с первой частью и посвящением, — отдельным изданием: «Двенадцать спящих дев, старинная повесть, сочинение Василия Жуковского», СПб., 1817, с эпиграфом ко всему произведению из первой части «Фауста» Гете («Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind» — «Чудо — любимое дитя веры») и вступлением к обеим частям («Опять ты здесь, мой благодатный гений…»). Это вступление — перевод посвящения первой части «Фауста» Гете — было напечатано и отдельно, под названием «Мечта», в «Сыне отечества», 1817, ч. 29, № 32. Эпиграф к «Громобою» — из речи Тибо в «Орлеанской деве» Шиллера (пролог); эпиграф к «Вадиму» — из стихотворения Шиллера «Sehnsucht» («Томление»), переведенного Жуковским полностью под названием «Желание». (см. т. 1 наст. издания, стр. 107). Вторая часть посвящена Д. Н. Блудову — литератору — «арзамасцу» (об обществе «Арзамас» см. во вступительной статье в т. 1 наст. издания), находившемуся в 1800–1810 гг. в дружеских отношениях с Жуковским, К. Н. Батюшковым, П. А. Вяземским и другими поэтами этого круга.
В балладе «Двенадцать спящих дев» Жуковский использовал прозаический роман Х.-Г. Шписа «Die zwlf schlafenden Jungfrauen, eine Geister Geschichte» («Двенадцать спящих дев, история о привидениях»). Роман Шписа основан на средневековых католических легендах о грешниках, продающих душу дьяволу и затем религиозным покаянием искупающих свою вину. В балладе Жуковского отразился более ранний замысел неосуществленной им национально-исторической «богатырской» поэмы «Владимир». Сохранив основную мысль Шписа об очищении души покаянием и искуплении греха, Жуковский в разработке сюжета и стиля во многом от Шписа отходит. События из средневековой Германии перенесены в древнюю Русь. Всему повествованию придан древнерусский колорит; герой приобрел черты сказочного русского витязя, отыскивающего себе невесту. Имя грешника (Громобой), взятое из рассказа «Громобой» Г. П. Каменева (автора первой русской баллады «Громвал», изданной в 1804 г.), вызывало представление о далекой старине и воспринималось как характерное для древней Руси. Имя героя-избавителя (Вадим) восходит к древнейшей части русской летописи, «Повести временных лет». Согласно летописи, Вадим поднял в Новгороде восстание против власти Рюрика (IX в.); он стал любимым героем оппозиционной русской литературы конца XVIII — первой трети XIX века, начиная с вольнолюбивой трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский» (1789). К его образу обрщались декабристы; в 1803 г. сам Жуковский написал незаконченную повесть в прозе «Вадим Новгородский». В балладе «Двенадцать спящих дев» имя «Вадим» уже совершенно лишено политически-вольнолюбивых ассоциаций и понадобилось Жуковскому только как знак принадлежности к древней Руси. Поэтичность и лиризм, присущие балладе Жуковского, не имеют соответствия в подлиннике. В романе Шписа, написанном по образцу авантюрно-рыцарских романов, много довольно грубых приключений эротического характера. Роман сокращен и, как было отмечено еще современниками, «очищен» Жуковским. Баллада имела шумный успех, но в то же время ее программная отрешенность от всего «действительного» и мистическая окраска вызвали недовольство оппозиционных (декабристских) кругов (см. во вступительной статье в т. 1 наст. издания о пародии на «Двенадцать спящих дев» в IV песне «Руслана и Людмилы» Пушкина). Белинский, в связи с той борьбой, которую он вел в 1840-х годах против романтического идеализма, писал: «В «Громобое» Жуковский… хотел быть народным, но, наперекор его воле, эта русская сказка обратилась как-то в немецкую что-то вроде католической легенды средних веков… «Вадим» весь преисполнен самым неопределенным романтизмом» (Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 197–198).
Рыбак*
Написано в январе 1818 г. Напечатано впервые в сборнике «Fr Wenige. Для немногих», 1818, № 1. Затем баллада была перепечатана в «Сыне отечества», 1820, ч. 64, № 36. Перевод одноименной баллады Гете.
В ряде прижизненных изданий «Рыбак» отсутствует, в том числе в пятом прижизненном Собрании сочинений, по-видимому в связи с ожесточенной критикой баллады О. М. Сомовым. С позиций рационалистической поэтики Сомов нападал на стиль Жуковского, высмеивая такие выражения, как «влажною главой», «душа полна прохладной тишиной» и др. («Невский зритель», 1821, январь, ч. 5, за подписью «Житель Галерной гавани»). В переводе Жуковский не передал свойственную подлиннику «простонародность» стиля («Рыбак» Гете написан в духе народных песен). Вместо «мокрая женщина» — «красавица», всплывающая «влажною главой»; вместо «намочила ему голую ногу» — «На берег вал плеснул». Жуковским самостоятельно введен образ «прохладной тишины» (см. вступительную статью в т. 1 наст. издания).
Рыцарь Тогенбург*
Написано в январе 1818 г. Напечатано впервые в сборнике «Fr Wenige. Для немногих», 1818, № 1. Перевод одноименной баллады Шиллера. В подлиннике больше конкретных вещественных и психологических деталей: указано место действия — Яффский берег, героиня только накануне возвращения рыцаря становится монахиней. Шиллеровская баллада была программным преромантическим произведением об идеальной любви, вечном «томлении» («Sehnsucht»). Этот смысл ее передан Жуковским, причем «томление духа» даже усилено. В 1840-х годах, в эпоху борьбы с романтическим идеализмом немецкого толка, баллада стала восприниматься иронически.
Белинский осудил идею баллады Шиллера, хотя в художественном отношении он ставил ее очень высоко. Перевод же этой баллады Жуковским Белинский считал фактом прогрессивным, так как Жуковский «усваивал юной, едва рождавшейся литературе плодотворные для нее элементы» (Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 175). О качестве перевода Белинский отзывался с восхищением: «Рыцарь Тогенбург — прекрасный и верный перевод одной из лучших баллад Шиллера» (там же, стр. 172).
Лесной царь*
Написано в марте (?) 1818 г. Напечатано впервые в сборнике «Fr Wenige. Для немногих», 1818, № 4. Перевод баллады Гете «Erlknig» (от датского Ellenkonge — «Король эльфов»). «Erlknig» Гете положен на музыку Ф. Шубертом. В связи с изменением размера в переводе Жуковского (дольник заменен амфибрахием) А. Г. Рубинштейн несколько переработал музыку Шуберта, соответственно ритму русского текста. На слова Жуковского известна также баллада Аренского «Лесной царь».
Граф Гапсбургский*
Написано в апреле (?) 1818 г. Напечатано впервые в сборнике «Fr Wenige. Для немногих», 1818, № 5. Перевод одноименной баллады Шиллера. Граф Рудольф фон Габсбург (1218–1291) в 1273 г. семью курфюрстами был избран германским императором, после чего прекратились феодальные раздоры и Рудольф стал родоначальником династии Габсбургов. Для Шиллера, обеспокоенного раздробленностью Германии, образ графа Габсбургского был важен прежде всего как образ мощного и справедливого объединителя Германии. Жуковский, соответственно своим иллюзиям о кротком, просвещенном, справедливом монархе, в характеристике героя усиливает эти черты. Усилена и набожная смиренность графа: в подлиннике он вручил священнику «роскошные поводья» своего коня, у Жуковского — как конюх подал ему стремя. У Шиллера нет и коленопреклонения графа перед священником.
Талар — длинное одеяние духовного лица.
Узник*
Написано в декабре (?) 1819 г. Напечатано впервые в журнале «Невский зритель», 1820, февраль.
Оригинальная баллада Жуковского. Образ юной узницы был подсказан Жуковскому известной элегией А. Шенье «La jeune captive» («Молодая пленница»). В еще большей степени, чем в «Рыцаре Тогенбурге», в «Узнике» воплощено романтически-идеалистическое представление об идеальной любви, свободной от всего «земного». Любопытны суждения о балладе друга и почитателя Жуковского, поэта П. А. Вяземского, иронически отвечавшего на стихи-вопросы баллады («Кто знает, где она цвела?» и т. д.): «Уголовная палата, тюремщики, летописи тюремные. Я не шучу: меня это своею неистиною поразило» (письмо к А. И. Тургеневу от 10 января 1820 г. — «Остафьевский архив князей Вяземских», т. II, СПб., 1899, стр. 6). Между тем Белинский, подходя к балладе, как к характерному этапу становления русской романтической поэзии, оценил ее положительно. «Узник, писал он, — одно из самых благоуханных романтических произведений Жуковского» (Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 196).
Замок Смальгольм, или Иванов вечер*
Написано в июле (?) 1822 г. Напечатано впервые в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения», 1824, ч. XXV, № 11, под названием «Замок Смальгольм. Шотландская сказка». В том же году баллада была перепечатана в «Новостях литературы» (1824, ч. VII, № VII) под другим названием — «Дунканов вечер. Шотландская сказка». В этих изданиях «Иванов день» заменен «Дункановым днем», в связи с цензурными затруднениями (см. ниже). В настоящем издании заглавие печатается по авторизованной копии, хранящейся в Институте русской литературы (Пушкинский дом) в Ленинграде (27777 CXCVIII б. 48). Перевод баллады Вальтера Скотта «The Eve of St. John» («Канун святого Джона»). Вальтер Скотт снабдил балладу подробными историческими примечаниями; Жуковский воспроизвел их в третьем издании Стихотворений (т. III, СПб., 1824). В балладе Вальтера Скотта использованы предания о происходившей в XVI веке ожесточенной войне между Шотландией и Англией. В переводе Жуковский ослабил этнографизм, опустил характерные для манеры Вальтера Скотта детальные описания рыцарского снаряжения и обычаев. Взамен этого усилено лирическое звучание баллады (сопоставление подлинника и перевода см. во вступительной статье, т. 1 наст. издания).
Напечатать балладу Жуковскому удалось только после долгих цензурных мытарств. В последние годы царствования Александра I начался разгул официального мракобесия и ханжества, что выражалось в крайней подозрительности цензуры. И в Москве и в Петербурге баллада была воспринята цензурой как безбожная и безнравственная. Главной причиной такого заключения было «кощунственное» соединение любовной темы с темой «Иванова вечера». «Иванов вечер», или «Иванова ночь», — канун народного праздника Купалы, переосмысленного церковью как празднование рождения Иоанна Крестителя (ночь с 23 на 24 июня). По этоу поводу Пушкин писал в «Путешествии из Москвы в Петербург»: «В славной балладе Жуковского назначается свидание накануне Иванова дня; цензор нашел, что в такой великий праздник грешить неприлично, и никак не желал пропустить баллады Вальтер-Скотта» (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах, т. VII, М.-Л., изд. АН СССР, 1949, стр. 647). Цензура требовала коренной переделки: изменения названия, переработки финала, замены якобы изображенных Жуковским обрядов «греко-российской» церкви («панихида» и др.) несуществующими шотландскими обрядами и т. д. Особую активность в преследовании баллады проявил известный своей придирчивостью цензор А. С. Бируков, названный Пушкиным «трусливым дураком». Бируков восстановил против Жуковского петербургский цензурный комитет. В августе 1822 г. Жуковский обратился с жалобой на цензурный произвол к обер-прокурору синода и министру народного просвещения князю А. Н. Голицыну. В одном из писем к Голицыну он писал: «Главный порок сей баллады, по мнению гг. цензоров, есть заключение. Убийца от ревности и неверная жена скрываются друг от друга и от света в уединении монастырском… и в этом господа цензоры видят оскорбление монашеского сана… В переводе моем нет точного слова раскаяние единственно потому, что его нет и в оригинале, что я не хотел делать из стихов прозу и что самое слово здесь нисколько не нужно для полной ясности… Если бы не было защиты против подобных страшных и непонятных обвинений цензуры, то благомыслящему писателю, при всей чистоте его намерений, надлежало бы отказаться от пера и решиться молчать; ибо в противном случае он не избежал бы незаслуженного оскорбления перед лицом своего отечества» (см. «Исследования и статьи по русской литературе и просвещению» М. И. Сухомлинова, т. I, СПб., 1889, стр. 439 и сл.). Цензурная история баллады рассмотрена в примечаниях Ц. С. Вольпе к первому изданию «Стихотворений» Жуковского в большой серии «Библиотеки поэта», т. I, Л., 1939, стр. 403–406; в указанной работе М. И. Сухомлинова, стр. 436–447; в «Русской старине», 1900, т. CII, стр. 71–89 («В. А. Жуковский перед судом С.-Петербургского цензурного комитета»), и др. После длительных хлопот балладу удалось напечатать, изменив «Иванов день» на «Дунканов день» (в действительности такого праздника в Шотландии нет). По требованию цензуры Жуковский снабдил балладу примечаниями не только исторического, но и нравоучительного характера; как заметил И. В. Измайлов, последние явно ироничны (В. А. Жуковский. Стихотворения, Л., большая серия «Библиотеки поэта», 2-е изд., 1956, стр. 818).
Жуковский переработал строфы 44-ю и 47-ю, не внося в них, однако, существенных перемен, кроме замены смутившего цензуру слова «знаменье» на «печать». В настоящем издании эти строфы, даны по печатному тексту; в рукописи они читаются;
Строфа 44-я:
- И она, помолясь и крестом оградясь,
- Вопросила: «Но что же с тобой?
- Дай один мне ответ — ты спасен или нет?»
- Он печально потряс головой.
- И ужасное знаменье в стол вожжено,
- Напечатались пальцы на нем;
- На руке обожженной чернеет пятно:
- И закрыта с тех пор полотном.
Белинский высоко ценил «Иванов вечер». «По языку, — писал он, — это одно из удивительнейших произведений Жуковского» (Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 178).
Замок Смальгольм действительно существовал на юге Шотландии, неподалеку от границы с Англией.
Анкрамморская битва — кровопролитное сражение при деревне Анкраммур (1545); шотландское войско возглавлялось крупными феодалами Арчибальдом Дугласом и Вальтером Скоттом-Боклю, а одним из английских военачальников был лорд Эверс.
Эльдон — «высокий холм с тремя коническими вершинами, над самым городом Мельрозом, в который любопытные приезжают смотреть развалины великолепного монастыря» (прим. Жуковского).
«…ты спасен или нет?..» — Имеется в виду «спасение души», прощение грешника богом на том свете.
Торжество победителей*
Написано в 1828 г. Напечатано впервые в альманахе «Северные цветы на 1829 г.», СПб., 1828, с пометой «Из Шиллера»; не полностью (отсутствуют стихи 129–140). Перевод баллады «Das Siegesfest» («Праздник победы»).
Как в «Кассандре» и «Ахилле», сюжет взят из связанных с «Илиадой» так называемых «малых» поэм «троянского цикла». Следуя Шиллеру, Жуковский строит балладу, чередуя два голоса, один из которых выполняет роль античного «хора». С речью, сопровождаемой «хором», в балладе выступают оставшиеся в живых после победы над Троей предводители греков. В переводе некоторых стихов Жуковский отходит от подлинника; так, он вводит отсутствующий у Шиллера образ Горгоны; в ряде случаев снимает то, что кажется ему недостаточно возвышенным (выражение «старый кутила» в речи Нестора и др.). В то же время Жуковский местами усилил в балладе философскую афористичность стиля («Жизнь живущих неверна…» и т. д.). В подлиннике эти стихи более описательны («Земная жизнь убегает, мертвые же не имеют конца»).
Белинский писал: «Если что составляет истинный ореол Жуковского как переводчика — это его перевод следующих трех пьес Шиллера: «Торжество победителей», «Жалоба Цереры», «Элевзинский праздник». Если бы, кроме этих трех пьес, Жуковский ничего не перевел, ничего не написал, — и тогда бы имя его не было бы забыто в истории русской литературы». И далее: «Перевод Жуковского… есть образец превосходных переводов, — так что если при тщательном сравнении иные места окажутся не вполне верно или не вполне сильно переведенными, — зато еще более найдется мест, которые в переводе лучше и сильнее выражены». В качество примера Белинский приводит принадлежащие Жуковскому стихи «По тебе, святой, великий Невозвратный Илион». (Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 200, 204–205).
Носящий Горгону — Зевс.
Сын Атрея — Агамемнон.
Парид — Парис.
Кронид — Зевс.
Оилеев сын — Аякс Оилид.
Лучших бой похитил ярый… — речь Тевкра Теламонида, брата Аякса Теламонида, покончившего с собой.
Коварнейший — «хитроумный» Одиссей, которому несправедливо были отданы доспехи Ахилла, заслуженные Аяксом Теламонидом.
Неоптолем — Пирр, сын Ахилла.
Кубок*
Начато в 1825 (?) г., закончено в марте (?) 1831 г. Напечатано впервые в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», в двух частях. СПб., 1831; одновременно — в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», СПб., 1831 (в одном томе). Перевод баллады Шиллера «Der Taucher» («Водолаз»). Шиллер построил сюжет на основе средневековых немецких легенд. Легенда XII века, на которую, вероятнее всего, опирался Шиллер, лишена романтических мотивов: причиной гибели пловца была якобы его жадность.
Жуковский вносит в балладу существенные изменения, У Шиллера проводится мысль о том, что боги, милостивые к людям, таят от них именно те ужасные тайны природы, знание которых невыносимо для смертного (см. «Кассандру»). Жуковский, в соответствии со своей концепцией «невыразимого» в природе (см. стихотворение «Невыразимое»), перестраивает идею баллады: человеку в принципе недоступно знание всего, что должно лежать, согласно божественной воле, за пределами человеческого разумения. Изменена Жуковским 20-я строфа: у Шиллера в рассказе юноши фигурируют сказочные «чуда» — драконы и саламандры; Жуковский заменяет их действительно существующими морскими чудовищами (скат, млат, однозуб и т. д.), и это усиливает впечатление. По-иному изображена в переводе гибель судов в 11-й строфе. У Шиллера — «раздробленные киль и мачта только и спасались из всепоглощающей могилы». У Жуковского — не киль и мачта, а сами суда «мелкой назад вылетали щепой ее неприступного дна». Стиховая структура баллады также несколько изменена — у Шиллера в каждой строфе трехстопным является только 2-й стих; у Жуковского — 2-й и 4-й.
Поликратов перстень*
Написано в марте 1831 г. Напечатано впервые в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», в двух частях, СПб., 1831; одновременно — в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», СПб., 1831 (в одном томе). Перевод одноименной баллады Шиллера.
Сюжет баллады взят из «Истории» древнегреческого историка Геродота; в третьей книге «Истории» рассказывается о судьбе властителя острова Самос Поликрате Самосском. По Геродоту, боги позавидовали бесчисленным удачам Поликрата; и даже его решение добровольно лишить себя любимого перстня (таков был совет его друга, египетского фараона Амазиса) не смягчило богов. Они не приняли добровольной жертвы, и перстень был возвращен Поликрату: рыбак обнаружил его в брюхе пойманной рыбы. Фараон, устрашенный таким явным знаком обреченности друга, покидает его, боясь разделить его участь. Вскоре, по рассказу Геродота, Поликрат действительно погиб мучительной смертью: обманом завлекший к себе Поликрата персидский сатрап Оройт умертвил его, распяв вниз головой.
Жуковский в переводе смягчил слишком реалистические, с его точки зрения, подробности. Тему зависти богов Жуковский также сгладил. В подлиннике — «боги желают твоей гибели»; в переводе — «на смерть ты обречен судьбою».
Жалоба Цереры*
Написано в марте 1831 г. Напечатано впервые в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», в двух частях, СПб., 1831; одновременно — в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», СПб., 1831 (в одном томе). Перевод одноименной баллады Шиллера, в которой использован античный миф о браке Прозерпины (греч. Персефоны), дочери богини плодородия Цереры (греч. Деметры), с Плутоном, богом подземного царства (греч. Аидом). Согласно мифу, Прозерпина весной покидает владения Плутона и навещает мать; время ее пребывания на земле ознаменовывается пробуждением природы, цветением и плодородием (весна, лето, начало осени). Шиллер психологизирует античный миф, подчеркивая человечность материнского чувства богини. Жуковский эти черты усиливает. У Шиллера строфа 1 является вступлением от автора; у Жуковского с самого начала баллада дана как лирический монолог Цереры. В подлиннике более конкретно и детально изображено цветение природы («лопается ледяная кора», «юная лоза пустила почки»). У Жуковского это дано более отвлеченно («Снова гений жизни веет…»).
Доника*
Написано в марте 1831 г. (закончено 20 марта). Напечатано впервые в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», в двух частях, СПб., 1831; одновременно — в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», СПб., 1831 (в одном томе). Перевод одноименной баллады Р. Саути, основанной на средневековой легенде, действие которой приурочено к Финляндии. В легенде (Саути позаимствовал ее у английского писателя XVII века Томаса Хейвуда) обиталищем беса является не озеро, а река. «Финский» колорит Жуковский снял, — место действия у него не обозначено. Имя «Эбергард» заменено на «Эврар»; владельцу замка (у Саути имя его не названо) дано имя Ромуальд. Изменен размер баллады: у Саути четырехстопный ямб чередуется с трехстопным; рифма — только мужская.
Суд божий над епископом*
Написано в марте 1831 г. Напечатано впервые в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», в двух частях, СПб., 1831; одновременно-в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», СПб., 1831 (в одном томе). Перевод одноименной баллады Р. Саути.
Сюжет был почерпнут Саути из средневековых преданий об архиепископе Гаттоне из Метца (начало X века), известном своей скупостью. Согласно легенде, во время голода 914 г. Гаттон сжег в амбаре созванных им на пир голодающих. За это он якобы был съеден мышами. Перевод Жуковского и в стилистическом и в ритмическом отношении отличается от подлинника (см. «Стихотворении» В. А. Жуковского, т.1, Л., большая серия «Библиотека поэта», 1939, стр. XXXVII–XXXVIII). В подлиннике преобладает энергетический, конкретно описательный стиль; Жуковский придал балладе тон нравоучения (например, добавил строку «Что тут, епископ, почувствовал ты?»). Там, где повествование становится особенно напряженным, у Саути строфа разрастается до пяти- и шестистишия; у Жуковского — везде четверостишия. Рассказ о вторжении мышей в замок у Саути дан как шестистишие, где впечатление неизбежности вторжения создаётся путём нагнетания слов, указывающих множество направлений, по которым движутся мыши («внутрь», «через», «вниз», «вверх», «справа», «слева», «сзади», «спереди», «изнутри», «снаружи», «сверху», «снизу»), — у Жуковского этому соответствует строфа 20 («Вдруг ворвались неизбежные звери»). Примененный Жуковским принцип расположения дактилических стоп в строфе вошел в русскую поэзию (см., например, стихотворение Некрасова «Несжатая полоса» («Поздняя осень. Грачи улетели…»).
Алонзо*
Написано 26–28 марта 1831 г. Напечатано впервые в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», в двух частях, СПб., 1831; одновременно — в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», СПб., 1831 (в одном томе). Перевод баллады И.-Л. Уланда «Durand» («Дуранд»), основанной на средневековой легенде. Жуковским внесены существенные стилистические и ритмические изменения. У Уланда паузник. Звукопись, тщательно разработанная Жуковским, в подлиннике менее ощутима. Видимо, в целях звукописи Жуковским изменены имена действующих лиц — «Дуранд» на «Алонзо» и «Бланка» на «Изолина». В заключительной строфе Жуковским самостоятельно введено повторение имени «Изолина». Жуковский ввел и тему крестовых походов в Палестину, усилив этим романтически-«рыцарский» колорит баллады.
Альтан — верхняя часть строения, род балкона.
Ленора*
Написано в конце марта 1831 г. Напечатано впервые в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», в двух частях, СПб., 1831; одновременно — в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», СПб., 1831 (в одном томе). Третий (см. «Людмилу» и «Светлану») перевод баллады Бюргера «Lenore» («Ленора»). Здесь Жуковский, в отличие от названных баллад, стал на путь точного перевода. Точно воспроизведено место действия и ход сюжета. Соответственно подлиннику, упоминаются конкретные события из истории Германии XVIII века (война 1741–1748 гг. между прусским королем Фридрихом II и австрийской императрицей Марией-Терезией). Сохранен размер подлинника. Стиль более приближен к «простонародности» баллады Бюргера. Однако в ряде случаев Жуковский все же сглаживает выражения, кажущиеся ему «земными» или грубыми, идущими слишком вразрез с его собственной стилистической системой. Сглажен резкий тон упреков, обращенных Ленорой к богу.
Покаяние*
Написано в конце марта — начале апреля 1831 г. Напечатано впервые в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», в двух частях, СПб., 1831; одновременно — в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», СПб., 1831 (в одном томе). Перевод баллады Вальтера Скотта «The gray Brother» («Серый брат», т, е. «серый монах»). У Вальтера Скотта баллада не закончена. Последняя строфа, добавленная Жуковским, выражает характерные для его поэзии этих лет религиозно-мистические устремления. В других строфах перевода они также ощутимы. Например, у Вальтера Скотта чернец «послан с далекой стороны, за 5000 миль отсюда…». Жуковский эти реальные 5000 миль снимает; у него чернец «был в той стороне, Где ведома участь земного», т. е. является посланцем небес.
Королева Урака и пять мучеников*
Написано в марте апреле (?) 1831 г. Напечатано впервые в «Балладах и повестях В. А. Жуковского», в двух частях, СПб., 1831. Перевод баллады Р. Саути «Queen Oracca and the Five Martyrs of Morocco» («Королева Урака и пять марокканских мучеников»). Сюжет был взят Саути из средневековых религиозных легенд. Текст переведен Жуковским очень точно, с незначительными отступлениями. Так, у Саути королева говорит мужу о своей болезни более подробно. Стиховая структура баллады Жуковским изменена. У Саути — паузник; вся баллада разделена на пять неравных главок.
Альфонс II — португальский король (царствовал в 1211–1228 гг.).
Роланд Оруженосец*
Написано 19 октября 1832 г. Напечатано впервые в альманахе «Новоселье», ч. II, СПб., 1834, с пометой: «31 октября 1832. Верне, на берегу Женевского озера». Перевод одноименной баллады И.-Л. Уланда. Уланд основывался на средневековых французских легендах о знаменитом Роланде, сложившихся уже после создания «Песни о Роланде». Жуковский сохраняет в основном стиль подлинника — непринужденную грубоватость, юмористическую окраску и стремительность интонаций. Однако от своего обычного принципа смягчения, «облагораживания» Жуковский не отказывается; он опускает в переводе места, с его точки зрения грубо-прозаические («вспотел», восклицание «Эх» и т. д.). Изменен стих баллады; подлинник написан семистишиями.
Артусов талисман — талисман короля Артура (Артуса), главного персонажа так называемого «бретонского цикла» французского средневекового романа о «рыцарях Круглого стола».
Плавание Карла Великого*
Написано в ноябре 1832 г. Напечатано впервые в «Стихотворениях В. Жуковского», изд. 4-е, исправленное и умноженное, тт. I–IX, СПб., 1835–1844. Перевод баллады И.-Л. Уланда «Knig Karls Meerfahrt» («Морская поездка короля Карла»).
Баллада, подобно предыдущей, построена по мотивам средневековых французских легенд. Среди них, однако, нет рассказа о морском плавании Карла Великого на пути в Палестину. Большая часть персонажей баллады взята из «Песни о Роланде». В их числе — Ганелов, являющийся в «Песне о Роланде» изменником: сохраняя вассальную верность Карлу, Ганелон предает французское войско из личной ненависти к Роланду. Жуковский, как всегда, смягчает черты «простонародного» стиля Уланда. Изменен стих: в подлиннике четырехстопный ямб чередуется с трехстопным.
Рыцарь Роллон*
Написано 23 ноября 1832 г. Напечатано впервые в журнале «Библиотека для чтения», 1834, т. II, с пометой: «Верне, на берегу Женевского озера. 5 декабря 1832». Свободный перевод баллады И.-Л. Уланда «Junker Rechberger» («Юнкер Рехбергер»). В балладе Уланда отсутствует романтизация рыцарства; напротив, она написана в тоне грубоватой народной насмешки над юнкером, т. е. молодым дворянином. У Уланда эта насмешка звучит с первых же стихов: «Рехбергер смелый, дерзкий рыцарь, Купцам, прохожим он гроза». В переводе «рыцарский» сюжет подан в характерном для Жуковского романтизированном плане. Баллада в переводе несколько сокращена, причем опущены именно те места, где о приключившемся с рыцарем несчастье говорится в тоне простонародной издевки. В разговоре рыцаря с чертом снят оттенок «простонародности» («на годок», «скажи, почтеннейший» и т. д.).
Самостоятельно введена Жуковским строфа 17, где описывается адский конь. В подлиннике — одна фраза: «Но конь упирается и становится на дыбы». Таким образом усилен колорит мистически-ужасного, и всей балладе придана несвойственная ей в подлиннике окраска религиозности и серьезности.
Старый рыцарь*
Написано 26 ноября 1832 г. Напечатано впервые в журнале «Библиотека для чтения», 1834, т. II, с пометой: «8 декабря. Vernex» (Верне). Свободный перевод стихотворения И.-Л. Уланда «Graf Eberhards Weissdorn» («Боярышник графа Эбергарда»).
Сюжет баллады основан на предании о ветке боярышника, вывезенной из Палестины первым герцогом Виртембергским, графом Эбергардом (1445–1496). Сняв приуроченность баллады к конкретным событиям и лицам, Жуковский усилил ее обобщенно-лирическое, меланхолическое звучание. Ветку боярышника Жуковский заменил оливой. В рукописи баллада озаглавлена «Состаревшийся рыцарь» (см. «Бумаги В. А. Жуковского, поступившие в императорскую Публичную библиотеку в 1884 году. Разобраны и описаны Иваном Бычковым», СПб., 1887, № 37, л. 16).
Братоубийца*
Написано в 1832 г. Напечатано впервые в альманахе «Подарок бедным на 1834 г.», Одесса, 1834, с пометой: «Верне, на берегу Женевского озера. 1833». Перевод баллады И.-Л. Уланда «Der Waller» («Пилигрим»).
Жуковским усилена эмоциональность текста. Вместо описательных строк в стихотворении Уланда «Когда он взошел на утес и преклонился у ворот» даны строки: «Вот как бы дорогой терний Тяжко к храму всходит он». У Уланда упоминается только «звон цепей» на ногах убийцы; в переводе — новый образ: «И к ноге прильнув кровавой, Злая цепь ее грызет». По-своему переданы последние два стиха баллады. Здесь также Жуковским самостоятельно создан образ «града свободы»: у Уланда — «но душа уже свободна, она парит в море света».
Уллин и его дочь*
Написано 10 января 1833 г. Напечатано впервые в журнале «Библиотека для чтения», 1834, т. IV, с пометой: «Верне, 10/22 января 1833». Перевод баллады Т. Кемнбелла «Lord Ullin's Doughter» («Дочь лорда Уллина»). Жуковский выпустил три строфы, в частности — сократил диалог между героем и рыбаком, сделав повествование более стремительным. Имена в переводе опущены или заменены другими. Изменен размер — у Кемпбелла чередование четырехстопного ямба (с мужской рифмой) и трехстопного (с женской).
Элевзинский праздник*
Написано в январе (?) 1833 г. Напечатано впервые в альманахе «Новоселье», ч. II, СПб., 1834, с пометой: «Из Шиллера. 1833. Верне, на берегу Женевского озера». Перевод одноименной баллады Шиллера.
В основе баллады — мысль о развитии гражданственности как источнике человеческого прогресса. Шиллер объясняет переход от дикости к цивилизации и дальнейший прогресс человечества изменением кочевого образа жизни на оседлый и земледельческий. Следствием этого было смягчение и облагорожение нравов и, далее, появление потребности в общественных установлениях, развитие искусства, науки и т. д. Замысел облечен Шиллером в форму, воссоздающую черты античного миросозерцания и античной поэзии. Шиллер использовал античный культ богини плодородия и земледелия Цереры (греч. Деметры). Согласно мифу, вслед за Церерой, которая считалась создательницей гражданского общества, другие боги также открыли людям ряд полезных знаний. В честь Деметры (Цереры) в Элевзине (город около Афин) ежегодно устраивались большие торжества. Жуковскому была близка мысль о «божественном промысле», управляющем судьбами человечества. Переводя балладу, Жуковский местами придает ей черты «гомеровского» стиля. В подлиннике отсутствуют составные эпитеты «копьеносная Паллада», «крепкостенный град», «светлоглавый Аполлон».
Цианы — васильки.
Аббадона*
Написано в ноябре — декабре 1814 г. Напечатано впервые в журнале «Сын отечества», 1815, № 22, с подзаголовком «Из второй песни Мессиады». Перевод второй песни поэмы Ф. Г. Клопштока «Messiade» («Мессиада»).
Поэма Клопштока проникнута религиозной идеей, но отразила и тот интерес к «демонической» теме, который возник в новой европейской литературе, начиная с поэмы Дж. Мильтона «Потерянный рай» (1660–1667). Библейский миф о Сатане, ангеле, поднявшем восстание против власти бога и низверженном из рая, был переосмыслен Мильтоном в плане вольнолюбия и протеста. У Мильтона образ Сатаны воплощеие идей английской буржуазной революции XVII века. К этой вольнолюбивой трактовке мифа о «падшем ангеле» примыкает драматическая поэма Байрона «Каин»; в русской литературе стихотворения Пушкина «Демон» (1823) и «Ангел» (1827), а также поэма Лермонтова «Демон». Однако «демоническая» тема имела и иной, примирительный вариант. Именно такова поэма Клопштока, где падший ангел изображен в образе кающегося Аббадоны. Такова же поэма Т. Мура «Лалла Рук», отрывок из которой Жуковский перевел под названием «Пери и ангел». Характерно, что именно эта религиозно-примирительная трактовка оказалась Жуковскому близка.
В ряде случаев Жуковским опущены некоторые детали. В изображении исхода из ада Сатаны с Адрамелеком, устремившихся на борьбу с богом, Жуковский усиливает впечатление сатанинского могущества. Он заставляет все силы ада броситься вслед за Сатаной, чего нет в подлиннике. Большого успеха поэма «Аббадона» не имела. Тем не менее, молодой Герцен, в 1830-х гг. склонный к романтическому идеализму, увлекался «Аббадоной» Жуковского, цитировал поэму и в образе Аббадоны усматривал родственные своему «мятежному духу» черты (см. письмо Герцена к Н. А. Захарьиной от 23 декабря 1836 г. — А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. I, П., 1915, стр. 366).
Красный карбункул*
Написано в 1816 г. Напечатано впервые в «Трудах общества любителей российской словесности при Московском университете», ч. IX, 1817, кн. XIV, с подзаголовком: «Сказка» и с предисловием автора (см. ниже). Перевод стихотворной повести И. П. Гебеля «Der Karfunkel» («Карбункул»). Подлинник написан на одном из нижненемецких (швабских) говоров, гекзаметрическим стихом. Характерный для подлинника стиль патриархальной простоты Жуковский передает, заменяя разговорные обороты немецкого языка соответствующими по стилю русскими. Перевод довольно точно передает текст подлинника. Изменены имена: в подлиннике героя зовут Михель, его невесту, дочь хозяина гостиницы, Катерина. Изменены также некоторые детали. В подлиннике рассказ ведется от имени отца, а не деда; такой заменой Жуковский подчеркивает оттенок «патриархальности». Местами в переводе усилено впечатление «ужасного».
В предисловии Жуковский высказывает свою точку зрения на русский гекзаметр, утверждая целесообразность его применения не только к высоким, героическим, но и к «простым» темам: «Переводчик сказки… желал испытать: 1-е, может ли сия привлекательная простота, столь драгоценная для поэзии, быть свойственна поэзии русской? 2-е, прилично ли будет в простом рассказе употребить гексаметр, который доселе был посвящен единственно важному и высокому? Не считая опыта своего удачным, он думает, что и то и другое возможно. Что же касается до предлагаемой сказки, то она переведена почти слово в слово».
Жуковский разрабатывал два типа гекзаметра — героический («гомеровский») и разговорно-сказовый. Последнему он придавал особое значение, как одной из форм развития в русской поэзии реалистически-простого, разговорного стиля. Сказовый гекзаметр Жуковский применил также в переводах: «Овсяный кисель», «Две были и еще одна», «Суд божий», «Сражение с змеем», «Неожиданное свидание», «Ундина». Белинский отнес «Красный карбункул» к числу «замечательных переводов» Жуковского (Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 213).
Цеикс и Гальциона*
Написано в 1819 г. Напечатано впервые в «Известиях Российской академии», 1820, кн. 8. Перевод отрывка из XI книги «Метаморфоз» Овидия (стихи 410–748). Подлинник передан Жуковским в основном очень точно. Однако в ряде случаев эмоциональность текста усилена. Несколько раз Жуковский вводит отсутствующий в подлиннике эпитет «милый» («Раз хотел бы лицом обратиться к милому дому»; «Тело его до очей Гальционы милых донесть» и др.).
Пери и ангел*
Написано в 1821 г. Напечатано впервые в журнале «Сын отечества», 1821, № 20. Перевод второй частя поэмы Т. Мура «Lalla Rookh» («Лалла Рук») «Paradis and the Peri» («Рай и Пери»). «Лалла Рук» представляет собой стилизацию под восточную поэзию. Содержание поэмы — рассказ о путешествии индийской принцессы Лалла Рук из Дели в Кашмир к жениху, бухарскому принцу Алирису. В пути Алирис, чтобы испытать свою невесту, сопровождает ее под видом певца Фераморза и рассказывает ей поучительные истории. Одним из его рассказов и является «Рай и Пери». Т. Мур трактует «демоническую» тему в примирительном духе, вслед за «Мессиадой» Клопштока, отрывок из которой был также переведен Жуковским («Аббадона»). Для взглядов Жуковского характерно, что его привлекла именно религиозно-примирительная трактовка темы «падшего ангела» (см. примечание к «Аббадоне»). К произведениям Т. Мура, и соответственно к переводам Жуковского из Мура, резко отрицательно относился Пушкин: «Жуковский меня бесит — что ему понравилось в этом Муре? чопорном подражателе безобразному восточному воображению?» (письмо к П. А. Вяземскому от 2 января 1822 г. — А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. X, М. — Л., 1949. стр. 32). В другом письме Пушкин писал: «Иное дело Тасс, Ариост и Гомер, иное дело песни Маттисона и уродливые повести Мура» (письмо к Н. И. Гнедичу от 27 июня 1822 г. — там же, стр. 38).
Произведением Мура Жуковский заинтересовался в 1821 г. в Берлине, в связи с дворцовыми празднествами, на которых представлялись «живые картины» из поэмы; роль принцессы исполняла великая княгиня Александра Федоровна. Образ Лалла Рук использован Жуковским в стихотворениях «Лалла Рук» и «Явление поэзии в виде Лалла Рук». В переводе несколько изменен общий колорит подлинника. Любопытно, что Жуковский, с присущим ему вкусом и чувством меры, ослабляет черты той самой «восточной» экзотики, которая у Мура не нравилась Пушкину. Так, в финале поэмы у Мура читаем: «Я твоя, твоя, сладкий Эдем! Как темны и мрачны все алмазы Шудукиака и душистых кущей Амберабада…» Этот «восточный, пестрый слог» (выражение Пушкина в «Гавриилиаде») в переводе опущен. Сюжет поэмы в сокращенном виде разработан Жуковским в стихотворении «Пери» (1831). Подражанием Т. Муру и Жуковскому явилась поэма А. И. Подолинского «Див и Пери» (1827).
В первом издании имелись примечания (приводятся сокращенно):