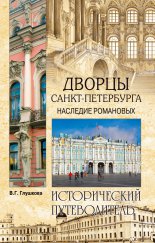Собрание сочинений в десяти томах. Том десятый. Адам – первый человек. Первая книга рассказов. Рассказы. Статьи Михальский Вацлав

– Садитесь, пожалуйста, – предложила незваным гостям тетя Нюся, радушно указывая на старенькие венские стулья вокруг стола.
Первым прошел к столу счетовод Муслим и сел на стул, не сняв кепки, за ним Зейнаб. Милиционеры помялись и тоже уселись за наш дощатый стол, положив на него свои фуражки, козырьками и тульями вниз, потом старший, видимо, решив, что стол достаточно чистый, перевернул свою тульей вверх, а за ним и младший. Старший оказался блондином, а младший жгучим брюнетом. Все гости были явно смущены еще не выветривившимися вкуснейшими запахами.
– Мотя, иди погуляй с ребенком, – распорядилась тетя Нюся.
Тетя Мотя мигом набросила на меня фуфайку, надела бурки с остроносыми галошами, намотала вокруг шеи шарфик, связанный Бабук, напялила старенькую ушанку, сама на ходу надела фуфайку и схватила с полки шерстяной платок.
Я очень не хотел выходить из дому, но тетя Мотя буквально вынесла меня за дверь, и единственное, что я услышал, – это густой бас лейтенанта, значительно проговорившего моему деду Адаму, подошедшему от умывальника к столу:
– Вот ордер, вот понятые.
– А какой орден? – успел поинтересоваться я, но тетя Мотя тут же плотно прикрыла за нами дверь.
– Пойдем ласку проверим.
– А какой орден Аде дадут?
– Поживем – увидим, – сказала тетя Мотя. – Давай-ка курятник обследуем, а то подлая ласка опять нашкодит.
– Может, на нее капкан?
– А де его возьмим, той капкан?
Тут выяснилось, что милиционеры приехали на мотоцикле харлей с коляской, и он стоял под навесом, рядом с курятником. Вполне понятно, что при виде американского мотоцикла я тут же забыл про ласку. Хотя мотоцикл и заинтересовал меня, но не настолько, чтобы я торчал около него больше пяти минут.
Потом мы с тетей Мотей открыли курятник. Я осмотрел дырку, которую подкопала ласка, и заключил, что тетя Мотя забила ее камнями очень хорошо.
– Теперь она не подлезет, – сказал я про ласку, – а можно железную решетку забить.
– Де та решетка? – спросила тетя Мотя, соглашаясь с моим инженерным проектом.
– А там, за конторой куски бороны лежат выкинутые, – сказал я.
Мы пошли за контору с развевающимся над крыльцом дымно-розовым флагом с серпом и молотом. По дороге я поздоровался с дедушкой Дадавом и погладил по голове Джи, охранявшего полуторку. Ржавые куски малой бороны действительно валялись за конторой.
– Та промеж зубцами той бороны две ласки пролезет, – сказала тетя Мотя.
– А это ничего, – отвечал я, – борону можно забить в землю, а между зубцами подкопать и заложить камнями.
– Ну, молодца! – восхитилась моей инженерной мыслью тетя Мотя. – Правильно. Забьем. Заложим. Молодца!
Мы взяли метровый кусок ржавой малой бороны и пошли к курятнику. По праву первооткрывателя я нес кусок бороны сам. Он был не такой уж легкий, но важность совершаемого мною деяния приумножала силы. Тут из дома вышли мой дед Адам с маленьким фибровым чемоданчиком, называемым у нас «балеткой», тетя Нюся, тетя Клава, оба милиционера, красивая доярка Зейнаб и счетовод Муслим. Все они направились к полуторке, которую охранял Джи.
Увидев моего деда Адама во главе свиты, я тут же, посреди двора, положил кусок бороны на землю случайно зубцами вверх, и мы с тетей Мотей присоединились к свите.
– Залезай в кузов, – сказал молодому милиционеру мой дед Адам.
Милиционер покосился на сидевшего у машины Джи.
Дедушка Дадав позвал Джи от машины, снял его с поста, и только тогда молодой милиционер в длинной шинели полез через боковой борт в кузов. При этом, когда он оперся ногой о почти лысое колесо, сапог его чуть не соскользнул. Милиционер еле-еле успел перекинуть свое тело в кузов полуторки. В кузове он приоткрыл брезент, под ним оказались какие-то полные мешки.
– Сосчитай их, – приказал лейтенант.
– Нечего считать, – сказал мой дед Адам, – сдадим в Заготзерно по весу.
– Сначала поедем в отделение, – сказал лейтенант.
– Нет, в Заготзерно, – твердо возразил дед. – Мне еще машину им сдавать, или ты хочешь повесить ее на себя?
Последние слова деда явно смутили лейтенанта. Он долго что-то соображал в уме и, наконец, махнул рукой:
– Ладно. Сначала в Заготзерно, – и тут же добавил, обращаясь к своему младшему напарнику: – Я следом за вами.
– Пука! – Не склонный к сантиментам, мой дед Адам поднял руку, прощаясь со всеми нами. Его волнение выдало только это «пука» вместо «пока», когда волновался, дед часто переходил на польский строй речи.
– А ты скоро? – все-таки спросил я.
Дед утвердительно кивнул мне и весело подмигнул сразу обоими глазами, с интервалом в доли секунды.
– Давай крутани, – дед подал молодому милиционеру вытертую до блеска железную заводную ручку, а сам сел к рулю.
Под нашими пристальными взглядами милиционер кое-как вставил ручку в нужное отверстие радиатора и неловко крутанул ее раз, другой, третий.
– Давай-давай! – высунулся из кабины мой дед.
Наконец, машина завелась. Вытащив ручку, милиционер вместе с ней сел в кабинку к деду, и они поехали.
Тем временем лейтенант с любовью и тщанием обтирал ветошью свой мотоцикл, наводил красоту. Навел, газанул с грохотом на всю Центральную усадьбу и резко сорвался с места, видимо, желая немедленно догнать полуторку, которая почти скрылась за дальними взгорками.
Не догнал. Наехал на валявшуюся посреди двора борону зубцами вверх. Опечаленные внезапным отъездом деда, мы с тетей Мотей забыли ее подобрать, а сразу вместе с тетей Нюсей и тетей Клавой пошли домой, в тепло.
Грохот и громкие матюкания лейтенанта во дворе удивили всех нас. Я тут же бросился к окошку и стал протирать в нем чистый круг побольше.
– Клава, ты у нас женщина нотная, пойди посмотри, что случилось? – сказала тетя Нюся.
Пока тетя Клава выходила из дома, я уже был в курсе событий. Лейтенант наехал на оставленную мной борону зубцами вверх и теперь, приподнимая переднее колесо, пытался отцепить от него эту самую борону, но не тут-то было. Скоро подошла тетя Клава и сама подняла мотоцикл за переднее колесо, тогда и лейтенанту удалось вырвать борону из колеса.
Я вспомнил, что дедушка Дадав видел, как я положил кусок бороны на землю, но он не подошел к милиционеру и ничего ему не сказал, а даже подозвал рукой Джи, и они пошли вместе с ним в дальний угол усадьбы.
Пока лейтенант откручивал пробитое и даже чуть искореженное колесо, пока ставил запаску, тетя Клава развлекала его разговорами, а я смотрел на них в окно и сожалел, что мне ничего не слышно, потому что говорят они совсем не так громко, как только что матюкался лейтенант.
Наконец лейтенант и тетя Клава разулыбались друг другу, пожали руки, лейтенант стал отъезжать потихонечку, а тетя Клава радостно махала ему вслед ладошкой.
– Ой, ты, Клань, мастерица зубы заговаривать! – засмеялась тетя Нюся, встречая вошедшую в дом тетю Клаву. – Я чуть зыркнула в окошко – вы только не расцеловались.
– Да он наш, тамбовский! – радостно блестя круглыми зелеными глазами, отвечала тетя Клава. – Мы в одной речке купались, Ворона называется.
– Дак ты само главно – словечко хоть замолвила? – спросила тетю Клаву тетя Мотя.
– Еще как замолвила! – уверенно отвечала тетя Клава.
Вечером все, как всегда, пили чай из самовара, но на этот раз бабушки не играли в карты. А я играл в солдатики. До моего полутемного угла на кровати долетали от стола отдельные куски разговора моих бабушек. Если бы я захотел, то услышал бы все, что они говорили, но я увлекался сражением наших с немцами и многое пропускал мимо ушей.
– Под Франца кто-то копает, – сказала тетя Нюся. – Мы получили муку официально по договору за полгода обслуживания машин Заготзерно. По накладной, честь честью.
– Была та мука, да сплыла, что есть-то будем? – спросила тетя Клава.
– Ой, Клань, не ной, – тут же оборвала ее тетя Мотя. – Как-нибудь перекрутимся. Сирота ох, а за сиротой Бог!
Бабук сидела молча. Вязать ей теперь было не из чего – жилетку надел на себя дед Адам.
– Удачно с этой жилеткой вышло, – порадовалась тетя Нюся. – Вы, Мария Федоровна, как в воду смотрели, что связали именно жилетку на Аду.
– Я давно в нее смотрю, в эту воду, – бесстрастно отвечала на чистом русском языке Бабук, печально потупив как всегда сияющие глаза.
Как и знаменитый полководец древнего Карфагена Ганнибал, Наполеон восхищался военным гением Александра Македонского. Но в еще больший восторг его приводил политический инстинкт юного царя, его интуитивный дар к театрально-историческим эффектам. Например, когда Александру Великому представили тело убитого в сражении с македонянами персидского царя Дария, он царственным жестом снял свой плащ и с глубоким поклоном укрыл им тело погибшего врага.
Это видели и македоняне, и персы.
Вскоре Александр Македонский женился на старшей дочери Дария красавице Статире и также взял в жены Парисат – дочь другого персидского царя, Артаксеркса III. На свадьбе гуляли сотни тысяч человек, потому что одновременно Александр одарил женами из знатных персидских семей разных провинций 10 тысяч своих воинов-македонян и засыпал всех их подарками. Дело присоединения Персидской империи к владениям, завоеванным Александром Македонским, было решено красиво и без каких бы то ни было волнений среди народа.
Тетя Клава не раз называла меня Александром Македонским, и я так крепко запомнил это имя, что лет с одиннадцати, когда начал запоем читать книги, выпрашивал в библиотеках любое, что есть про Македонского, и читал и запоминал все с лету и навсегда. А когда я узнал, что во время похода на Индию Александр Великий брал наш Дербент и проходил тем узким песчаным коридором между горами и Каспийским морем, где стоял наш дом на Центральной усадьбе, то я однажды подумал о Македонском, как о живом, нормальном человеке, которому нужно не только завоевывать царство за царством, но и есть, пить, спать.
Я подумал: «А если он шел здесь, то почему не мог остановиться на ночлег на месте нашей Центральной усадьбы? Здесь и от моря недалеко, и сухо. И тогда ведь еще не было нашего дома из самана? Значит, он мог спать как раз там, где сейчас стоит наш дом. Я читал, что Александр любил, завернувшись в плащ, спать прямо на земле, среди солдат. Значит, он мог спать и там, где сейчас стоит моя кровать, на моем месте?»
Как следует обдумав все это, я был удивлен, насколько, оказывается, близко ко мне, во всяком случае в мыслях, стоит в одном и том же пространстве Александр Македонский и как, оказывается, может слипнуться время, даже 2 тысячи 300 лет, слипнуться и сложиться в одну тонкую линию.
Почему-то ни конь Александра Буцефал, купленный за 13 талантов, или 340 килограммов серебра, ни оружие великого полководца не занимали меня так сильно, как его плащ. Я не видел цветных картинок Александра и воображал себе его плащ сам, по своему усмотрению. Почему-то мне он казался светло-синим с легким зеленоватым отливом, почти как морская волна, только гораздо более яркого цвета. Я даже представлял его на ощупь – он был такой мягкий, бархатистый, наверное, теплый в холод и прохладный в жару, как шелк, хотя я и читал, что ни в Греции, ни в Персии не было шелка, а его Александр узнал только в Индии.
Мне очень нравилось, что Александр не стремился к богатству, не хапал себе, а уважал знание и великие цели, которые ставил перед собой с юных лет. Я радовался, что домашним учителем Александра был сам Аристотель. Но, правда, не очень одобрял царя за то, что он обижался на Аристотеля:
– Зачем ты говоришь то, что знаешь, всем? Не надо! Говори только мне.
На что Аристотель отвечал с улыбкой:
– О, Александр, я знаю не так уж много.
И еще про плащ. Когда Александра спросили о его имуществе, он снял с себя плащ и, высоко подняв его над головой, сказал:
– Вот оно, мое имущество! – помедлил и, накидывая на себя плащ, добавил:
– Вот этот плащ, ну и весь остальной мир… Но до моих одиннадцати лет и запойного чтения было еще очень далеко. А пока что бабушки сидели за отсвечивающим медным самоваром, а я на кровати, со своими солдатиками.
Все было, как всегда, только мой дед Адам не ходил стремительно по комнате: туда-сюда, туда-сюда. Раньше всем нам казалось, что эта его ходьба раздражает, а теперь без нее было так плохо, так пустынно, так одинаково.
– Спасибо, не энкавэдэшники, – обронила тетя Нюся.
– Да, и с жилеткой повезло, – сказала тетя Клава и тут же обратилась к Бабук:
– Мария Федоровна, а разложите-ка пасьянс.
Бабук равнодушно пожала плечами.
– Разложите, Мария Федоровна, ради бога! – попросила и тетя Мотя, – может, душа хоть чуток успокоится.
– Ладно, – неожиданно согласилась Бабук, – буду сложный.
– Сложный! Конечно! Сложный! – подхватили все три младшие бабушки.
– Тогда из моей тумбочки две мои колоды по пятьдесят две карты, – велела Бабук, и тетя Нюся тут же исполнила ее повеление.
– А зачем две колоды? – спросила тетя Клава.
– Это сложный пасьянс «Наполеон», его раскладывают из двух колод, – как всегда бесстрастным тоном отвечала Бабук. – Так, – Бабук обвела младших бабушек своими как обычно сияющими глазами. – Я не могу, когда мне смотрят в руки, отсядьте далеко.
Все младшие бабушки послушно взяли старенькие венские стулья и отсели от стола, далеко к глухой стене, даже дальше, чем стояла моя кровать.
Некоторое время я с интересом смотрел, как Бабук раскладывает на чистом столе карты, но потом это мне надоело и я возобновил сражение наших с немцами.
Стала коптить керосиновая лампа за столом, где священнодействовала Бабук.
– Лампа коптит! – сказал я, повернувшись к младшим бабушкам.
Но они как сидели тихо, так и остались сидеть.
– Лампа коптит, надо фитиль подрезать, – опять сказал я.
Тетя Нюся посмотрела на меня сердито, приложила к губам указательный палец, дескать, «молчи», да еще и погрозила мне этим же пальцем.
Я понял, что пасьянс – дело нешуточное, и больше не вспоминал про лампу, хотя она коптила все сильней. Тогда я впервые подумал, что раз мои бабушки сидят, как в рот воды набрав, то значит, карточные гадания могут что-то решать, во всяком случае, предопределять в этой жизни. Конечно, я не думал именно так, как сейчас пишу, но примерно в этом русле. Потом, в юности и в зрелые годы, когда уже не было на свете Бабук, я просил погадать мою маму, которая насколько хорошо гадала, настолько и не любила это дело. Как ученый зануда, не могу не заметить, что из 10 гаданий 7, а то и 8, сбывались. Процент попадания в цель, как вы понимаете, очень большой, я бы сказал, преобладающий.
Наконец, Бабук положила последнюю карту, хлопнула ладонью по столу и громко, молодо молвила:
– Добже!
Все младшие бабушки, правильно поняв польское слово «хорошо», шумно и радостно встали со стульев и понесли их к столу.
– Господи, дай бог! Господи, прости и сохрани! – широко перекрестилась в пустой угол тетя Нюся и тут же сказала: – Надо иконку повесить!
– Я принесу из города от одной бабки, она даст, – добавила тетя Клава.
А тетя Мотя тем временем уже сняла тряпочкой раскаленное стекло с лампы, подрезала ножницами нагоревший фитиль и снова надела стекло. Все, теперь лампа горела, как надо.
Бабук складывала в колоды карты. Все младшие бабушки раскраснелись от воодушевления.
– А че, девчата, может, самоварчик вздуть! – сияя большими зелеными круглыми глазами, предложила тетя Клава.
Я очень обрадовался: будут ставить самовар, значит, меня еще долго не загонят спать.
Пасьянс «Наполеон» сошелся, но мелькали дни за днями, недели за неделями, а мой дед Адам все не возвращался домой.
В апреле кончилась картошка, кроме той, что строго-настрого припрятала тетя Мотя на посадку. Еще подождать дней десять, и в конце апреля уже можно будет посадить картошку и ждать нового урожая. Еще оставалось немножко бураков. Хлеба не было уже три недели. Начальник конторы, над которой развевался флаг с серпом и молотом и которая время от времени называлась то колхозом, то совхозом, прислал через дедушку Дадава кусок курдючного жира, килограмм, не меньше. Жаль, что жарить на этом жиру было нечего.
Тетя Нюся знала съедобные травы, и мы все на нее надеялись, на тетю Нюсю и на дружную весну.
– Дай бог, скоро трава пойдет, – говорила тетя Нюся, – вот-вот лебеда вылезет, крапива, ничего, как-нибудь переможемся. Только бы Ада наш скорей вернулся.
И я видел, как на добрые тети Нюсины глаза набегают слезы, а сама она при этом улыбается изо всех сил.
Тетя Клава неделю пропадала в городе, зато вернулась со здоровенным черно-синим фингалом под правым глазом, с буханкой черно-серого хлеба, тремя головками чеснока и солдатской фляжкой подсолнечного масла, пахнущего так вкусно, что у меня даже чуть-чуть закружилась голова. А еще тетя Клава принесла мне петуха на палочке! Настоящий леденец, который я облизывал с восторгом!
Тетя Мотя сказала, что две головки чеснока мы посадим завтра на огороде – это и разговоров не может быть, а одну, так уж и быть, съедим.
– Правильно, – сказал я, – Робинзон Крузо тоже всегда оставлял на семена.
Тетя Нюся нарезала на дощечке тоненькие куски хлеба, натерла их чесноком, посыпала солью, полила чуть-чуть постным маслом и раздала всем бабушкам по два кусочка, а мне три.
Господи, как это было вкусно! Спасибо тебе, Господи, за этот вкус хлеба, подсолнечного масла, соли и чеснока! Я помню его до сих пор и никогда не забуду.
В тот день я совершил маленький подвиг, вошедший в анналы нашей семьи, как и история с дубовой каталкой, которой чуть не убил меня двоюродный брат Сережа. Съев два кусочка хлеба с маслом, солью и чесноком, я отодвинул от себя тарелку с третьим куском и сказал:
– А этот надо разрезать на пять частей – каждому по кусочку. Съедать весь мне одному нечестно.
Некоторое время все четыре мои бабушки были в замешательстве.
Потом тетя Мотя, тетя Клава и тетя Нюся начали говорить, что мне надо расти и поэтому это мой кусок.
– Нет, – тихо, но твердо сказал я, – не буду.
– Он прав, – сказала наконец Бабук, – Анна Михайловна, поделите на пять кусочков.
Тетя Нюся ловко разделила мой кусок на пять равных частей. Тогда я взял с тарелки свою долю и начал медленно-медленно жевать, чтобы продлить удовольствие. Бабушки тоже взяли свои кусочки и почему-то все, кроме Бабук, целовали меня, кто в щеку, кто в макушку и тихо плакали. А мне было хорошо от того, что все получилось по-честному.
Однажды утром, когда я проснулся от бьющего в окошко солнца, но все еще изображал из себя спящего, мне удалось подслушать длинный и важный разговор. Вернее, рассказывала тетя Нюся, а Бабук, тетя Клава и тетя Мотя слушали.
Конечно, я помнил, что подслушивать взрослых нехорошо, но тетя Нюся рассказывала о таких чудесах, что я не мог преодолеть соблазн и подслушивал, буквально ловил каждое слово.
– В той Македонии я и научилась различать съедобные травы. Степан Григорьич меня научил, отец нашей Зины.
Я понял, что речь идет о моей маме, и навострил уши. Мама приходила к нам иногда вдвоем с Ленкой, иногда одна, но каждое воскресенье, и обязательно приносила какую-нибудь еду, потому что она получала паек по рабочей карточке.
– А та Македония, откуда Александр Македонский? – спросила тетя Клава.
– Та самая, – ответила тетя Нюся. – Так вот, я и говорю, а встретились мы все – Ада, Степан Григорьич, я – в македонском городе Кавала, это порт такой. Вот в окрестностях той Кавалы мы и стукнулись лбами друг об дружку. В том смысле, что как бы стукнулись. Русский язык, можно сказать, свел. В большом апельсиновом саду мы убирали первый урожай апельсинов, обычно их бывает два. Хозяйство было очень большое, и хозяин-грек, пожилой, но очень шустрый, вроде и не смотрит ни за чем, а все замечает и с ходу сам показывает, как надо делать, а как не надо, видно, из простых работников поднялся до большого хозяина. У него тех апельсиновых рощ на километры было, и везде дорожки, чистота, порядок. И нужно сказать, на работников или на нас, работниц, никогда не кричал, никого не унижал, зато за ошибки или плохую работу деньгами наказывал, штрафовал – только так! В тот день и час я собирала те апельсины как раз у самой усадьбы, а посреди двора автомобиль стоял бортовой, да еще с большим прицепом. В кузов и в прицеп грузили ящики, а потом их сразу везли в порт Кавала. Шофер как раз около машины крутился, для чего-то даже капот поднял и на меня посматривал. Очень красивый был шофер. Тут хозяин-грек подошел, стали они переговариваться по-гречески. Слышу я, шофер совсем плохо говорит по-гречески и, мне показалось, с немецким акцентом. Много женщин и девушек убирали апельсины, и все поглядывали на этого шофера и еще на одного грека – двухметровый такой дядька, говорит по-македонски, аж от зубов отскакивает, и носит к машине не как все другие парни и мужики по два ящика на плече, а один, но огромный, как сундук, – нормальных ящиков в нем штук десять, никак не меньше. И вот приближается этот дядька, с этим большущим сундуком на плече, а апельсинов в нем не то что доверху, но даже и с горкой. Приближается, совсем поравнялся и тут как запнулся о корневище и как полетит на землю! Сундук его из тонких дощечек – вдребезги, желтые апельсины все раскатились по земле. А дядька вдруг как выразится по-русски.
– Дядечка, родненький, как вы сами?! – бросилась я к нему, подала руку, помогла встать.
– Так ты русская? – покраснел дядька.
– Русская, русская. Не сильно ушиблись?
– Ничего, – улыбается, – был бы не женат, сказал: до свадьбы заживет.
– Эй, ребята, третьего примете?! – вдруг подошел к нам от машины синеглазый шофер-механик.
– Еще бы – Бог троицу любит! – засмеялась я, и так в один момент мы узнали друг друга.
А когда еще выяснилось, что все земляки: Адам из Ростова, Степан Григорьич из Таганрога, я из-под Новочеркасска, то решили сегодня же вечером пойти в портовую таверну и поговорить как следует и отметить нашу встречу.
Я почувствовал, что хочу по-маленькому. Но если встану, то тетя Нюся сразу замолчит, и что делать? Я решил крепиться изо всех сил и слушать тетю Нюсю.
– Таверна та была известная во всем городе хорошей едой и уважительным обхождением. Там на дверях стояли два таких битюга, что они любого подвыпившего скандалиста враз вышвыривали на улицу. Шел 1923 год от Рождества Христова. Степан Григорьич сказал, что в Солоники приплыл из Одессы первый после нашей революции транспорт с хлебом. Пять кораблей. Мы все знали, что Гражданская война у нас на Родине закончилась еще в 1921 году и теперь там НЭП – новая экономическая политика. Вроде дают свободу людям, но в двадцать первом году был в России страшный голод, а и двадцать второй выдался немногим лучше.
– Откуда взяли зерно? – сам себя спросил Степан Григорьич и сам же ответил:
– Россия большая, нашли, где взять. Последний караван с зерном я привел в Салоники в марте 1917 года, так что шесть лет не было здесь нашего хлеба.
Тут скрипач очень громко заиграл танец сиртаки, и молодые моряки и девушки пошли в пляс прямо среди таверны. Степан Григорьич подозвал официанта и дал ему небольшую купюру, которую тот мгновенно спрятал в карман и почтительно замер.
– Это моя сестра, это мой брат, – показал глазами Григорьич на нас с Адамом, – мы давно не виделись и хотели бы поужинать в тихом месте, может, вы найдете уголочек? А к молодежи у нас нет претензий: танцевать – дело молодое.
– Спасибо, – сказал официант, – у нас есть уголок на верхней веранде, там сейчас свободно и весь порт как на ладони. Эта веранда у нас всего на один столик, там никто не помешает.
На маленькой верхней веранде было очень хорошо, и огоньки порта, и города, и море – все было перед глазами, а музыки снизу почти и не слышно, и даже приятно, что скрипач играет, а барабанщик бьет в барабан, как будто где-то далеко-далеко.
Тетя Нюся не рассказывала ничего интересного, а по-маленькому хотелось мне все сильней. Наконец, я сбросил одеяло, пробежал к буркам с галошами, напялил их кое-как, набросил стеганку и выскочил за дверь.
Я так быстро бежал до нашей уборной, что ничего не видел и не слышал. Зато, когда вышел оттуда, сразу увидел, как красиво вокруг. Солнце уже поднялось высоко в синем небе и не только светило, как зимой, но и грело. На виноградниках за канавой много взрослых работниц и подростков освобождали лозы от земли, которой они были прикопаны на зиму, встряхивали их от комьев, потом забивали в землю длинные палки-таркалы и тут же обвивали вокруг них виноградные лозы. На крыше нашего дома легкой зеленной дымкой взошла первая трава, даже еще и не трава, а как бы зеленый пух.
Тетя Мотя сказала, что две наши курицы высиживают яйца и скоро будут у нас цыплята, только чем их кормить, непонятно. Две очень важные белые курицы, Фима и Сима, точно сидели на яйцах, а четыре остальных, у которых тоже были свои имена, и петух Шах дремали на насестах. Мы с тетей Мотей все-таки принесли тот кусок малой бороны, на котором сломался милиционер со своим харлеем, и забили этот кусок в землю со стороны, где опять могла пробраться ласка, забили, подкопали между зубьями, как надо, и заложили камнями так, что теперь никакая ласка была не страшна ни нашим курам, ни будущим цыплятам. В курятнике было темно и сильно пахло куриным пометом, запах которого я очень не любил. Проверяя наше с тетей Мотей сооружение, я вдруг подумал, что цыплят можно кормить червяками! Я вспомнил, как летом куры клевали червяков, а я их накопаю по берегам канавы столько, что хватит и цыплятам, и курам, и петуху Шаху.
Очень довольный своим замыслом, я вышел из темного курятника на свежий воздух и радостно огляделся. От синей горы, где обычно пас коров мой погибший на войне друг Алимхан, дул легкий, нежный ветер Магомет, южный ветер большой и дружной весны, как раз такой, о которой мы все мечтали, чтобы не пропасть с голоду.
Хотя я и был в одних трусах, в распахнутой стеганке на голое тело и в бурках с остроносыми галошами, мне было совсем не холодно, а хорошо и весело от теплого ветра, от вида синей горы с белыми саклями по ее правому склону, а главное, от тонких и нежных звуков зурны, которые долетали из аула. Я знал, что так громко и красиво умеет играть на зурне только Гаджи – мальчик, старше меня в два раза. У него с рождения не работают обе ноги, поэтому он не ходит на виноградники вместе с другими подростками и женщинами, а играет на зурне, ему разрешили. Я знаком с Гаджи, потому что мой дед Адам прошлым летом приезжал за ним в аул на полуторке и возил его в город к врачам и показывал ему море, которого он никогда не видел. Перед тем как ехать в город, они заезжали на Центральную усадьбу, в контору, за какой-то бумажкой. Меня они не взяли с собой, потому что в кабинку к деду, кроме Гаджи, села и его мама, а мне не досталось места.
Во дворе нашей Центральной усадьбы никого не было – ни аульских стариков, ни хакимов. Хакимы – это значит начальники, они обычно сидели вместе со стариками на длинной скамейке под конторой, разговаривали и от скуки строгали ножами палочки. Я понял, что стариков и хакимов нет потому, что еще не очень тепло, а вот потеплеет через недельку, и они будут на своих местах, а по воскресеньям здесь еще станут устраиваться состязания брадобреев. А пока нет никого, пока еще холодновато. В дальнем конце усадьбы ходит только один дедушка Дадав, но уже не в чабанском тулупе, а в стареньком бешмете и в папахе. Увидев меня, дедушка Дадав приветливо поднял руку, я тоже поднял свою и даже потряс ею в воздухе.
Прежде чем возвращаться домой, я решил дойти до коровника и поговорить с Джи. Выпаса еще не было, так что коровы стояли в стойлах, те, которые еще могли стоять, а которые не могли – лежали. Кормили коров соломой и болтушкой из половы, а от такой еды силы не прибавляется. Хотя раз в неделю откуда-то привозили на арбе соевый жмых, и тогда у коров был праздник.
Машин теперь в нашем гараже не стояло, шоферы тоже куда-то делись, мой дед Адам давным-давно уехал с милиционерами, и мы его ждали каждый день без устали.
Время от времени то тетя Нюся, то тетя Клава ходили куда-то в город «хлопотать» насчет деда, но пока ничего у них не получалось. Моя мама не могла ходить «хлопотать», потому что у нее на заводе был «твердый рабочий день», я не понимал, чем «твердый» отличается от «мягкого», но вынужден был принять эту данность.
Джи встретил меня с радостью, хотя я и не принес ему ничего. Не принес, но пообещал:
– Подожди, Джи, вот будет у нас много еды, тогда я каждый день буду тебе приносить!
Джи мне поверил и не уворачивался, когда я гладил его по голове и трепал за шею.
Вдруг на нашу Центральную усадьбу с шумом въехала полуторка, с еще большим шумом остановилась, и из ее кабины спрыгнул на землю мой дед Адам.
– Ада-а! – не помня себя от радости, закричал я и бросился бегом к моему любимому деду.
Мой дед Адам подхватил меня на руки и стал обнимать и целовать, прижимаясь к моей щеке своею колкой щекой.
Я не был посвящен в подробности чудесного освобождения моего деда Адама, как говорил он сам: «Освободили и освободили». То есть он не придавал этому значения, во всяком случае, такой делал вид.
Дед вроде бы не придавал значения, зато все бабушки очень даже придавали, они прямо-таки светились от счастья. Даже Бабук, милостиво улыбнувшись, спросила Аду:
– И пригодилась моя жилетка?
– Пригодилась, – молодо сверкнув синими глазами, отвечал дед. – Я одному человеку ее оставил. Он сильно кашлял, а мне сказали: «На воле совсем тепло».
– Добже, – одобрила Бабук, – то добже, – и на глазах ее блеснули слезы. Я не понял, почему заплакала Бабук, а теперь через много лет думаю, что в ту минуту она наверняка вспомнила о своих сыновьях в неволе.
Тогда я впервые услышал слово «воля» и почувствовал, что это очень важное слово и в то же время не просто слово, а то место, где мы сейчас живем. Мы живем на воле…
В тот день у нас на воле стало теплым-тепло, так что не обманули деда в казенном доме.
Оказалось, что полуторка, на которой приехал Ада, была забита мешками с мукой, белой мукой, которая кое-где выступала поверх мешковины белым пухом. Ада подогнал полуторку к дверям нашего дома, позвал от коровника счетовода Муслима и дедушку Дадава. Вместе с тетей Мотей все они стали разгружать мешки, носить их в дом и в холодную комнату, прилепленную к нашему дому.
– Где твоя двуколка? Где Сильва? – спросил Адам счетовода Муслима.
– Там, – счетовод кивнул за коровник.
– Значит, так, – сказал мой дед Адам, – один мешок Дадаву, один тебе, Муслим. Подгоняй Сильву.
И счетовод Муслим, и дедушка Дадав настолько оторопели от княжеской щедрости главного механика Адама, что пытались отказаться от дорогих подарков, но он настоял на своем:
– Иди-иди, подгоняй, не разговаривай!
Запряженная, как обычно, в двуколку с небольшой молочной цистерной блодинка Сильва явилась не одна. Рядом с левой оглоблей пританцовывал привязанный за веревку тонконогий гнедой жеребенок с белой звездочкой во лбу. Не так давно я видел новорожденного сына Сильвы, но удивился, насколько он вдруг подрос за две-три недели, какой стал смелый, веселый и ноги совсем не разъезжаются в разные стороны.
Мухи хотя и ожили после зимы, но еще не окрепли для атак. Сильве нечего было отгонять от себя, и она не трясла сивой гривой, не мотала хвостом, а стояла смирно, с гордым достоинством матери-одиночки, строго и ласково косясь большим выпуклым глазом на своего вертлявого первенца, который ни секунды не стоял на месте.
– А как его звать? – спросил я у Муслима про жеребенка.
– Никак, – отвечал счетовод с мешком муки на плече, – хочешь, сам назови.
– Хочу! – обрадовался я, но никаких имен что-то не приходило мне в голову. – Теть Нюсь, как его назвать?
Тетя Нюся и тетя Мотя, так же как и Ада с дедушкой Дадавом таскали по мешку вдвоем, а счетовод Муслим хотя и был хромой, но нес свой мешок один. Тетя Клава подавала им всем мешки из кузова полуторки.
– Назови Вихрь. Когда я была маленькая, у меня был жеребенок Вихрь, – посоветовала тетя Нюся.
– Вихрь! – радостно погладил я жеребенка по плоскому шелковому лбу, а он лизнул мою руку нежным шершавым языком. – Ой, Ви! – засмеялся я от щекотки, – обожди, угощу!
Я вспомнил, что в тарелке на столе еще есть наши бурачные конфеты, и побежал в дом. Бурачные конфеты очень понравились Вихрю, он брал их с моей ладошки мягкими черными губами не все сразу, а по одной. Я тоже всегда ел их по одной, чтобы растянуть удовольствие. Одну конфету я дал Сильве – она хоть и мама, но еще совсем молодая и ей тоже хочется сладкого.
– Вихрь! Вихрь! – гладил я жеребенка по лицу и трепал по гладкой атласной шее. – Ви!
С того дня у меня стало два любимых друга: пес Джи и жеребенок Ви! Называть его Вихрь было слишком длинно, а я спешил жить.
И хромой счетовод Муслим в кепке-шестиклинке, и дедушка Дадав в старом бешмете благодарили моего деда Адама, прижимая правую руку к сердцу и кланяясь. Потом они погрузили два мешка муки на облучок, где обычно сидел Муслим, а сами пошли рядом с двуколкой в аул под синей горой, придерживая драгоценный груз каждый со своей стороны. А мой друг Ви бежал впереди них рядом со своей мамой Сильвой.
После разгрузки полуторки собрались пить чай. Тетя Мотя как-то очень быстро не только вздула самовар, но и растопила печку печь пышки и стала замешивать тесто на краешке стола, чтобы не мешать разговору. В доме сильно пахло мукой. И за столом взрослые только и говорили, что о свалившемся богатстве, решали, как быть. Сколько муки оставить? Сколько поменять на продукты или вещи? Сколько продать? И нужно ли продавать вообще? Пышек пока не было, разговор взрослых меня не интересовал, конфеты я скормил Ви, а пить чай с сахарином не хотелось, и я пошел на кровать к своим солдатикам. Хотя я и не сильно прислушивался, но отдельные реплики все же долетали до меня от стола.
– Отобрали пятьсот кило кукурузной, а вернули тысячу пятьсот пшеничной. Чудеса!
– Ловкость рук и никакого мошенства. Он мне справку на возврат выписал химическим карандашом под копирку. Сам поленился идти через весь длинный коридор. На, говорит, в канцелярии, у проходной, печать поставишь. Подлинник тебе – для Заготзерно, а копия нам останется. Я из его кабинета вышел и тут же про свой огрызок химического карандаша вспомнил. Нашел в кармане. Послюнил огрызок, приложил бумажки к стене. К его цифрам прибавил единичку впереди, а сзади «пш.» – пашаничной, значит. В канцелярии шлепнули мне печать на оба экземпляра – один мне на руки, и я с ним в Заготзерно. Франц сильно смеялся: «Еще польска не сгинела!»
– Ай-я-яй! Адась! Адась! – покачала белой головой Бабук.
В тот день я не понял почти ничего из услышанного. Тем более, немцы перешли в наступление, и мне было нужно поднимать из-за пригорков одеяла моих партизан с зелеными полосами на головах, партизан, которыми командовал мой пропавший без вести отец. Да, в тот день я ничего не понял, а теперь понимаю, какой отчаянной дерзости был у меня дед Адам и какой реактивный! Это ж надо – прямо на стене казенного дома еще внутри него, в одно касание, так распорядиться в свою пользу!
– В холода дедушка Дадав приносил нам большой кусок курдючного жира от председателя, – сказала тетя Нюся.
– Молодец председатель! Сейчас я к нему зайду, скажу спасибо, что не забыл вас без меня, – горделиво решил мой стремительный дед Адам, тут же вскочил из-за стола и направился в контору.
Скоро весь дом наполнился сладостным запахом горячих пышек. Я объявил всем солдатикам перерыв.
– Война войной, а обед по расписанию!
Скоро явился из конторы мой дед Адам.
– Председатель сказал мне, что не посылал вам курдючного жира, – обескуражено проговорил он с порога, но тут же взял себя в руки и горячо добавил, – молодец Дадав. Это он вам из своего последнего…
– Тем лучше, – громко сказала ученая тетя Клава, – лепта вдовицы дороже царской милости!
– А что это значит – лепта вдовицы? – подходя к столу, на который тетя Мотя уже водрузила тарелку с горой пышек, быстро спросил я.
– Буквы выучил? – вопросом на вопрос ответила тетя Клава.
– Почти все.
– Почти не считается. Когда выучишь все, тогда и объясню. Тебе в сентябре в школу, а сейчас апрель. О чем ты думаешь?
Я не стал связываться с тетей Клавой, ее все равно не переговоришь. А пышки пахли так вкусно! А тетя Клава вдруг вытащила из своей городской сумки кулечек, высыпала в тарелку настоящие конфеты – подушечки и, подмигнув мне зеленым круглым глазом, весело выкрикнула:
– Гулять, так гулять!
С каждым новым апрельским днем все горячее пригревало солнце, все быстрее набирали рост цветы и травы. И вот однажды утром я увидел, как побежали по крыше нашего дома алые волны распустившихся маков. Это было настолько красиво, что у меня перехватило дыхание, стало больно в груди и мне захотелось немедленно поделиться увиденной красотой с другими.
– Смотри, Джи, смотри! – я попытался задрать морду моего пса, но он не захотел любоваться алыми волнами.
Я обиделся на Джи потому, как в то время еще не знал, что в сетчатке глаз у собак нет колбочек, чувствительных к красному цвету, и они не различают зеленое и красное. А то, что люди видят сине-зеленым, например небо и траву, собаки могут видеть белым. Зато они отличают множество оттенков серого цвета и очень хорошо ориентируются в сумерках. Я оставил Джи в покое и побежал в дом.
– Тетя Нюся! Тетя Мотя! Бабук! Идите гляньте, как красиво!