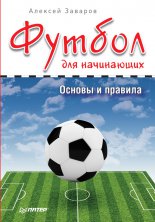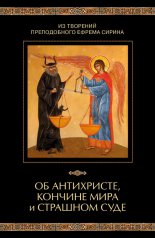Внутренняя линия Свержин Владимир

– Не совсем так, господин генерал. Во время дела Таганцева, в двадцать первом году, я действительно перешел границу на свой страх и риск. У меня была красноармейская форма, которая позволила проникнуть в приграничную зону, и загодя подготовленное командировочное удостоверение, предписывающее мне подыскать землю для артиллерийского полигона. А там, засев у реки, я дождался, пока исчезнет из виду большевистский патруль, и бросился в воду. Слава богу, в прежние годы мне доводилось встречаться с генералом Маннергеймом – его имя в Финляндии служит хорошим пропуском.
В этот раз все было по-другому. После ареста моих товарищей стало ясно, что ОГПУ – так нынче именуют ЧК – плотно взяло нас в кольцо и гонит, как волков на флажки. Я нашел убежище у своего боевого товарища – поручика Линевича, он служил красным, но только по принуждению. Его родные были взяты заложниками. К тому же он комиссован в двадцатом году после ранения, живет тихо, преподает в школе младших командиров. Я надеялся отсидеться – Линевич не принадлежит ни к каким нашим организациям, это была моя личная конспиративная квартира.
– Ближе к делу.
– Когда я уже, было, решил, что все успокоилось и можно рискнуть перейти границу, в квартиру Линевича пожаловал человек, назвавшийся Болеславом Орлинским.
– Никогда о таком не слышал.
– Это не настоящая фамилия. На самом деле – это бывший статский советник Владимир Орлов, теперь доверенное лицо самого Дзержинского. Ныне он занимает должность председателя Центральной уголовно-следственной комиссии в Петрограде или, как его теперь именуют, в Ленинграде. В восемнадцатом году по поручению генерала Алексеева этот господин пробрался в Петроград для ведения разведывательной деятельности и благодаря знакомствам устроился в Наркомат юстиции.
– Очень интересно, – кивнул Згурский, делая пометку карандашом в маленькой записной книжке. – Проверим. Что же сказал вам этот Орлов-Орлинский?
– Он сообщил, что ГПУ выследило мое убежище, и потому пришел арестовать меня до того, как это сделают чекисты.
– Для чего?
– Видите ли, пользуясь своим положением, он собрал в Петрограде большую военную организацию из бывших офицеров, нынешних краскомов армии и сотрудников милиции. Есть даже верные люди в ОГПУ. Его подчиненные совершили арест, вывезли меня и Линевича с квартиры, находившейся под наблюдением. Потом я якобы был застрелен при попытке к бегству. Ночью Орлинский с помощью верного начальника заставы переправил меня на эту сторону границы.
– Складно-складно… А где же ваш товарищ Линевич?
– Орлинский обещал позаботиться о нем.
– Н-да… – Згурский постучал карандашом по переплету записной книжки. – Предположим, вы говорите правду, хотя я в этом не убежден. Скажите мне, господин подполковник, с чего бы это вдруг законспирированному агенту такого уровня рисковать собой, чтобы спасти одного из многочисленных неудачливых боевиков генерала Кутепова?
– Орлинский спешил, – ему нужно было срочно передать информацию, имеющую чрезвычайное значение. Потому-то я и просил о встрече, притом – именно здесь, в Праге.
– Что за информация?
– Как утверждает господин статский советник, его организация – лишь филиал крупной сплоченной и вооруженной группировки бывших кадровых офицеров и генералов, находящихся в Совдепии. Эта группировка создана благодаря усилиям генерала от кавалерии Брусилова и имеет мощную опору в армии. Они ищут связь с надежными людьми в руководстве РОВС, чтобы согласовать действия и заручиться международной политической и финансовой поддержкой.
– Что ж, допустим…
– Позвольте мне продолжить, – нарушил субординацию Шведов. – По утверждению Орлинского, сам Брусилов будет в Праге через несколько дней.
– Все?
– Да. Хотя… – Шведов замялся.
– Я вас внимательно слушаю.
– Есть одно странное, очень странное, известие. После неудачного покушения я в Москве скрывался у одной дамы, на даче видного чекиста. Прежде этот особо уполномоченный мерзавец работал в Петрограде, но сейчас его перевели в Центральный аппарат. Так вот, моя знакомая рассказала, будто ее муж сейчас усиленно занимается розысками,– подполковник сделал паузу, – великого князя Михаила Александровича – младшего брата убиенного государя императора.
– Что еще за блажь? – Згурский нахмурился. – Великий князь Михаил Александрович убит большевиками в восемнадцатом году в Перми.
Шведов утвердительно кивнул:
– Газеты тогда сообщали, что он и его секретарь Джонсон бежали. Но потом выяснилось, что его императорское высочество был похищен из квартиры членами пермского ревкома и расстрелян где-то за городом. Но останков тогда найти не удалось. А сейчас ОГПУ сбилось с ног, разыскивая великого князя, казненного шесть лет назад.
Начало мая 1924
До отправления московского поезда оставалось четыре с половиной часа. Нильс Кристенсен постоял у билетной кассы, с грустью поглядел на дверь с надписью «Управление ГПУ по железной дороге». Судя по росписям в стиле модерн и серебристым чашкам, изображенным на стекле, прежде здесь находился вокзальный буфет.
«Уйма времени», – подумал сотрудник Красного Креста и вышел на Невский проспект. Впрочем, теперь прорубленная самолично императором Петром Невская першпектива носила звучное, но диковатое для ушей иностранца название «Имени Двадцать пятого октября».
– Подвезти, гражданин-товарищ-барин? – тут же сунулся к потенциальному клиенту бойкий извозчик. – Дешево. По городу не больше трех целковых!
Кристенсен отрицательно покачал головой. Ехать было некуда. Он неспеша двинулся по знаменитому проспекту в сторону Зимнего дворца.
«Интересно, следят или нет? – крутилось в голове институтского оперативника. – Вероятно, следят».
Он остановился возле сверкающей витрины шляпного магазина. Огромное количество головных уборов красовалось за стеклом. Но сейчас виконта интересовали не «последние фасоны всего мира» и даже не самая популярная модель сезона – алая фуражка с маленькой звездочкой, именуемая «красногусарская». Отраженные в витрине прохожие шли мимо. Некоторые, особенно совбарышни, в простеньких, но уже подогнанных и не лишенных элегантности платьях, на миг останавливались, с печалью глядели на шляпки «из Парижа» и торопились дальше.
«Кажется, никого, – с удивлением отметил Нильс. – Но, может быть, ловко маскируются». Он отошел к афишной тумбе.
«Кинотеатр „Паризиана”, – гласила самая большая афиша. – Проспект 25 октября, Одновременно 1 и 2 серии – 13 частей, исключительного, захватывающе-интересного фантастического кино-романа „Невеста Солнца” в 4-х сериях, 25 частях с участием королевы американського экрана, бесстрашной Руфь Ролан”».
«„Совзапкино” – „Микроб коммунизма”», – обещала другая.
«Фильм Григория Козинцева и Леонида Трауберга „Похождения Октябрины”», – заманивала третья.
Виконт прислушался к своим ощущениям: филеров заметно не было, и все же чувство, будто кто-то его внимательно разглядывает, Нильса не оставляло.
«Ладно, пусть наблюдают, черт бы их побрал! – про себя выругался виконт. – Мне пока скрывать нечего».
Он отправился дальше, ища глазами вывеску ближайшего кафе или ресторана.
– Гражданин, гражданин! Помогите! – в рукав его костюма вцепилась абордажными крючьями тонкая девичья ручка. – Там хулиганы! Моя сестра… Пожалуйста, пожалуйста скорее! Помогите!
Девочка-подросток лет пятнадцати, размазывая по щекам слезы, с неожиданной силой буксиром поволокла Нильса в ближайшую подворотню.
Он попытался освободить руку, но девица вновь схватила его и умоляюще взвыла:
– Давайте же, давайте! Скорее!
Когда за спиной громыхнула, закрываясь, калитка массивных кованых ворот, виконт резко повернулся, спеша оценить ситуацию. Детина совершенно не аристократической наружности стоял, привалившись к калитке, поигрывая цепью с пристегнутым к ней амбарным замком.
– Ну что, господин хороший? Приплыл?
Из-за дровяного сарая на заморского гостя вразвалочку надвигались еще два социально близких пролетариату элемента. – Скидавай шкары, фря залетная!
В руке налетчика блеснул нож.
– А то ведь, гляди, сегодня уже с прадедом своим почеломкаешься! – говоривший сплюнул окурок и сопроводил недоброе пророчество выразительным жестом, проводя острием ножа поперек шеи.
Не вступая в дискуссии, Нильс Кристенсен шагнул вперед, перехватил запястье вооруженной руки и крутанул его, точно собираясь запустить пропеллер аэроплана. Бандит не аэроплан, но и его развернуло. В тот же миг вторая рука «врача-травмопевта» обрушилась на затылок преступника, направляя любителя чужого добра лбом в каменную стену.
– Ах ты… – соратник пострадавшего кинулся было на помощь, но тут же рухнул с вбитым в горло кадыком.
Предусмотрительно отскочившая к сараю девчонка завизжала так, что в окнах нижних этажей вздрогнули герани, а дылда, подпиравший калитку, отбросил цепь и собрался выскочить на улицу. Но не успел.
– Всем стоять!
Подворотня заполнилась людьми в милицейской форме и с наганами в руках.
Виконт поднял руки:
– Не стреляйте! Я датчанин, врач, сотрудник Красного креста!
Декабрь 1614
Князь Пожарский любил Рождество. В прежние годы его всегда радовали шумные пиры, катания на тройках и колокольный благовест, разносящийся над отчим поместьем Медведково. В Москве, где взгляд, куда ни кинь, упирался в колокольню, малиновый звон был особенно густ и сладостен. И сюда он долетал во всей красе и благолепии. Царившее вокруг радостное возбуждение напоминало князю о годах юности, о молодых забавах еще до того, как его – храброго воеводу со всеми чадами и домочадцами – обездолили и сослали к волжским берегам. Безо всякой вины. Так лишь, для покоя государя Иоанна Грозного.
Многое тогда передумалось князю. Много обид сжалось в кулаке, да растоптано было сапогом. В укор немалому числу князей и бояр, не пошел он с поклоном ни к первому Лжедмитрию, ни к Тушинскому вору, да и теперь службу Отечеству ставил превыше службы государю. А дел было и по Разбойному приказу, и по долгу воеводскому – лопатой не разгрести. Куда уж тут мчать с хохотом на горячих скакунах, пролагая след по свежевыпавшему снегу, торя санный путь по московским улицам…
Князь Пожарский стоял на резном крыльце своего терема над Яузой-рекой и слушал, как доносится из-за ворот громкий девичий смех и раскаты величальной песни.
– Батюшка Дмитрий Михалыч! – княжий тиун, управляющий сим немалым хозяйством с давних давен, поспешил к господину, кланяясь ему в пояс. – Лях с девкой приехали!
– Какой еще лях!
– Ну, тот, которого у Сретенских ворот вешать хотели, да молния дерево пожгла.
– Федор, что ли? Ай да молодец! Ай да хват! Так что ты стоишь? Зови в светлицу, да распорядись об угощениях для дорогих гостей!
Згурский переступил порог горницы и поклонился хозяину. Молодая женщина, шедшая рядом с ним, по заграничному чуть присела, приветствуя князя.
– Успел, стало быть, ловкач? – Пожарский ухарски разгладил усы.
– Позвольте вам представить, мой князь, Тереза Елень, вдова графа Збигнева Еленя.
– Так, выходит, не успел, – Дмитрий Михалыч нахмурился.
– Успел, – не меняясь в лице, произнес Францишек. – Я прибыл на родину и узнал, что Терезу, ровно как и всю семью ее, графские слуги увезли в маеток Еленей близ Киева. Я примчался туда, пришел к графу, умоляя отпустить со мной Терезу и обещая выходом[12] за нее все наследные земли, принадлежащие мне по праву. Граф велел своим гайдукам избить меня палками. Я не стал дожидаться и, свернув пару челюстей, покинул имение. Збигнев Елень решил, что избавился от меня, и приказал готовиться к свадьбе. Тереза не соглашалась, но граф пригрозил лишить жизни ее мать и младшую сестру…
– Понятно, – князь Пожарский сгреб бороду в кулак.
– В день свадьбы у входа в храм я ждал процессию. Верхом на коне. Видит бог, я не хотел обагрять кровью ступени церкви, но граф и его люди обнажили сабли именно там.
– Погубил, выходит, души христианские?
– Я не дьявол, души губить не могу. А тела посек.
– Великий грех, – укоризненно покачал головой Пожарский.
– За грехи пред Богом ответ дам. Все же прочие… – Францишек поглядел на девушку. Из-под ее меховой шапки выбивались рыжие локоны, огромные зеленые глаза глядели влюбленно и счастливо. – Мнение всех прочих мне не важно.
– Крутехонек ты, Федор. Так и самому на белом свете не зажиться. Ладно, чего уж, Люблю храбреца, хоть ты в делах меры не ведаешь! – махнул рукой князь. – Выделю именьице вам. Вон, хотя бы у тех же Сретенских ворот, – и усмехнулся. – Отстроишь себе терем, да и будешь заветный дуб, молнией расколотый, всякое утро из окна видеть, дабы мысль о смирении божьем в голове твоей шальной пребывала, да память о дне знакомства нашего не угасла.
– Благодарствую, княже, – Згурский поклонился. – И у меня для тебя подарок имеется… – он чуть помедлил. – За добро добром плачу.
Благодарный шляхтич расстегнул кунтуш, достал толстый, опечатанный красным воском пакет.
– Что здесь? – взвешивая на ладони презент, спросил Пожарский.
– Это точные списки с посланий Тушинского патриарха Филарета, отца нынешнего царя Михаила, в Москву – князьям Черкасским, Сицским и прочим братичам и родичам. С указкой, что и как делать, что говорить, да предпринимать, дабы юного Михайлу царем сделать. Письма эти еще в Кракове перехватили, да снявши копии, в Москву отправили. Списками же теми, хранением их, королевский секретарь заведует – мой дядя. Он-то мне весь пакет и передал. Когда захочешь, князь, здесь полное доказательство того, что избрание Михаила на царствие – подлог, и силы не имеет.
Пожарский грустно поглядел на боевого товарища:
– Эх, Францишек, Францишек! Мне ли о том не знать… Мне ли не ведать, что грамота Земского собора об избрании Михаила Романова государем Всея Руси дьяками, как с прописи, переложена с Годуновской грамоты. До смешного порой доходило. Повествование об избрании Бориса на Новодевичьем поле борзописцы филаретовы перенесли под стены Ипатьевского монастыря, во всем же ином ни слова не изменив. Получше всякого мне ведомо, что брак, которым Иоанн Грозный с Романовой сочетался, матерью нашей, церковью признан не был и быть не мог. Да только, – Пожарский махнул рукой, – пустое это.
– Отчего же? – непонимающе глядел на него Згурский.
– Сам подумай, Францишек. После долгих лет смуты, наконец, на российском престоле покойно сидит царь. Летами молодой и нравом не буйный. Много еще чего для Руси полезного сделать сможет. Царя того освятил какой ни есть, а патриарх святейшей нашей церкви православной. Ни для кого не тайна, что Романовы не Рюрикова рода, как, скажем, я, да и многие другие князья. Но ведь, ежели начнем мы меж собой бородами меряться, кто славнее, чинней и богаче, вновь по Руси распря начнется, вновь кровь русская реки заполнит. Вот ты предлагаешь мне пакет сей открыть да с ним Михайла с престола и скинуть. Не велика натуга. Да ведь без него лучше не станет. Что есть царь? Закон Божий, в особе царской воплощенный. А ежели каждый себя законом возомнит, то и будет прав тот, у кого сабля острей. Кумекаешь, о чем говорю?
– Да, мой князь.
– То-то же.
Пожарский провел указательным пальцем по гладкому пергаменту, в который были для сохранности завернуты письма.
– По сути, Федор, обретя нынче от тебя грамотки сии, я бы должен был тебя, лиходея, в острог посадить. Сам размысли. Кому теперь выгодно на Руси новую смуту устраивать? Не королю ли Владиславу, который и без того войной на Москву идти желает?
– Верно, – пристыжено опустил глаза Згурский. – Не подумал о том.
– А след было подумать. Ну, да все одно, – князь Пожарский неторопливо подошел к печи и приоткрыл заслонку. – Хорошо, что послания эти нынче здесь обретаются. Иных списков, поди, нет?
– Нет. Другие снимать без надобности было.
– Вот и славно, – улыбнулся Дмитрий Михайлович. – А этим змеям ядовитым, – он подкинул в руке пакет, – в геенне огненной самое место.
Бросил опасный подарок в огонь и поворошил кочергой, разгребая жар:
– Там им и быть.
Глава 6
«Здоровое недоверие – хорошая основа для совместной работы».
И.В.Сталин
Май 1924
Окружной комиссар Рошаль шел по набережной Орфевр, сосредоточенно глядя на мутные воды Сены. От ржавой и едва подкрашенной баржи, переделанной под жилье, неслись звуки патефона. Нежный женский голос выводил: «Заснесло тебя снегом, Россия…» Мсье Рошаль не знал русского языка, но песня звучала грустно, выжимая слезу даже у него – видавшего виды полицейского, бывшего офицера свирепых марокканских стрелков.
Тогда, в годы войны, шесть лет назад, ему впервые довелось близко столкнуться с русскими. После революции в Петрограде части Особого корпуса были сняты с фронта и во избежание неприятностей разоружены. Такой бесславный для солдата исход являлся бы предметом мечтаний для многих французов: пусть лагерь, огороженный забором, пусть кормежка не ахти, но – подальше от фронта! Эти были не таковы – тысячами они записывались в «Русский Легион», позднее за безумную храбрость названный «Русским Легионом Чести». Отвага «славянских варваров» приводила в восхищение даже признанных храбрецов Марокканской ударной дивизии, в которую были влиты русские волонтеры. Кто бы мог подумать, что пройдет несколько лет, и ему – капитану Рошалю – придется расследовать дело, главным подозреваемым в котором окажется командир «Русского Легиона Чести» – генерал Згурский.
Память услужливо подбросила комиссару яркий образ: безнадежный идиотский прорыв Невеля, высота Мон-Спен; немецкие гаубицы, подобно стае мифических драконов, топят в огне едва оттаявшую от снега округу. Его взвод, рванувшийся в бессмысленную атаку, прижат к земле пулеметным огнем. Боши[13], которым, согласно планам французского командования, уже следовало давать отчет святому Петру, как тараканы вылезли из нор и принялись на выбор, словно в тире, расстреливать атакующих. Рошаль и не надеялся уже выйти живым из этого боя, когда вдруг пулеметы смолкли, и над головой вжавшегося в землю молодого офицера послышалось конское ржание. Он поднял глаза – бородач в странной длиннополой одежде, с диковинным подобием небольших патронташей на груди, размахивая саблей, гарцевал под огнем на вороном коне, яростно крича по-русски слова команды. Под серебряными головками патронов сверкал белый орденский крестик.
Сумасшедший всадник перемахнул через поваленное артиллерийским огнем проволочное заграждение, и солдаты в застиранной бледно-зеленой форме с криком «Ура!» в штыки устремились за ним на позиции гаубичной батареи. Рошаль так и не понял тогда, откуда в немецких окопах первой линии взялись русские. Он видел только, как они выскакивали на бруствер с длинными окровавленными ножами в руках и револьверами за поясом.
Чуть позже, когда высота была взята, а затем снова отбита немцами, когда наступление было остановлено и генерал Невель снят со своей должности, только привыкающий к капитанскому званию Рошаль узнал из газет, что фамилия лихого наездника – Згурский, что его странный наряд именуется черкеской, и теперь неистовый женераль ля рус является офицером Почетного Легиона. Лицо Згурского не сходило в те дни с газетных страниц. Наступление, планировавшееся как решительный удар по врагу, закончилось бесславным провалом, Франции требовалась если не победа, то хотя бы герои. И вот, надо же…
«Скажи, о чем задумался. Скажи нам, атаман…» неслось с баржи, мерно покачивавшейся на мелкой речной волне.
«Красиво поет, – Рошаль оперся локтями о высокий каменный парапет. – Понять бы слова».
Комиссар сам не знал, почему стоит и слушает непонятную песню. Ему казалось, что она какими-то тайными нитями связана с разгадкой порученного ему дела.
Исчезновение столь заметной фигуры, как русский миллионер Рафаилов, привело все парижское общество в нервное возбуждение. Еще бы: людей, которые могли похвастаться состоянием, превышающим двадцать миллионов золотых франков, в Париже и в прежние времена было не так уж много. Теперь же, после ужасной войны их и вовсе можно было пересчитать по пальцам. Рафаилов, как говорили американцы, стоил двадцать четыре миллиона.
Когда слуга-китаец известного всей Франции банкира и биржевого воротилы позвонил в полицию и сообщил, что его хозяин уехал накануне к нотариусу и до сей поры не вернулся, разомлевший от жары дежурный, не желая вслушиваться в исковерканную речь, посоветовал искать Рафаилова где-нибудь в борделе. Только в три часа следующего дня известие о пропаже легло на стол районного комиссара, и лишь тогда для порядка тот решил уточнить, вернулся ли мсье Рафаилов домой.
Скандал вышел грандиозный, и теперь окружной комиссар Рошаль должен был вынуть русского миллионера хоть из-под земли, а заодно выяснить, каким образом он там оказался. Из сбивчивых объяснений китайца-слуги удалось разузнать немного. К месье Рафаилову в тот день приезжал генерал Згурский, они долго беседовали и, как показалось камердинеру, приносившему чай, – не слишком дружелюбно. После чего генерал ушел, а через некоторое время банкир решил поехать к своему нотариусу. Китаец, бывший у Рафаилова кем-то вроде телохранителя, отправился с ним. Однако нотариуса дома не оказалось, и на обратном пути пожилой миллионер ни с того, ни с сего решил прогуляться по городу без охраны. С тех пор о нем ничего не было слышно.
Слова китайца подтверждал и нотариус. Во время визита Рафаилова он находился в «Гранд-опера», что могло засвидетельствовать множество достойных членов общества. История получалась странная: отчего бы вдруг такому денежному мешку разгуливать без охраны? Отчего финансист отправился к своему нотариусу, предварительно не предупредив звонком? Отчего этот визит не значился в ежедневных записях банкира? Следовало допросить Згурского – быть может, только он способен пролить свет на странности этого дела.
Комиссар Рошаль вздохнул: менее всего ему хотелось допрашивать своего, пусть и невольного, спасителя. И уж тем более – подозревать его в похищении или убийстве соотечественника. Да и к чему бы ему идти на преступление? Мсье Згурский и сам богат, уважаем. «А если тут замешана женщина? – бывший марокканский стрелок покачал головой, отгоняя нелепую мысль. – Командир «Русского Легиона Чести» не ходил в светских львах, и ни одной сколь-нибудь заметной любовной истории за ним не водилось.
«Раз приехал на квартиру генерал. Весь изранен был и жалобно стонал…» – выводил все тот же нежный голос.
– Не желает ли месье куда-нибудь поехать? – донеслось из-за спины.
Рошаль повернулся. У тротуара стояло желтое такси с приоткрытой дверцей. Судя по выговору, спрашивающий, в отличие от окружного комиссара, без труда понимал слова песни, доносившейся с баржи.
– Да, – Рошаль отошел от парапета. – Для начала на Елисейские поля, особняк Пти-Буйон.
– Дом господина Рафаилова?
– Я вижу, вы прекрасно осведомлены, – улыбнулся сыщик.
– Кто в Париже его не знает? – русский шофер пожал плечами. – Пять франков.
– И то верно, – садясь в машину, согласился комиссар. – А скажите, уважаемый, быть может, вы и о генерале Згурском слышали?
– Слышал. Хотя лично не знаком.
– Что вам о нем известно?
Водитель покосился на любознательного пассажира:
– Вы – журналист или полицейский?
– Полицейский, – комиссар достал удостоверение.
– Ну конечно, – почему-то хмыкнул его собеседник. – Я почти ничего не знаю. Слышал, как Згурский еще в России боролся с самострелами. Это когда солдат палец себе отстрелит или ягодицу продырявит – его потом в госпиталь, а то и вовсе комиссуют.
– Да, знакомая история, – кивнул Рошаль.
– Ну да. Так вот. Таких ловкачей Згурский в тыл не отправлял. Он сам их перевязывал, варил им какие-то диковинные снадобья, а затем выставлял их на бруствере окопа, да так, чтобы со стороны казалось, будто это наблюдатель рассматривает вражеские позиции. Ясное дело, очень скоро по «наблюдателю» открывали огонь. Некоторые выживали, некоторые – нет. Но огневые точки всякий раз удавалось засечь точнейшим образом. Очень скоро в полку Згурского перевелись желающие играть в такие игры.
– Жестокий метод, но эффективный. А что за снадобья? Они как-то влияли на волю солдат? Устраняли страх?
– Да кто их разберет, – водитель аккуратно повернул баранку. – Згурский рецепты из Китая привез.
– Он что же, служил в Китае?
– Шутите? Да рота Згурского в девятисотом году первой ворвалась в ворота Пекина!
Начало мая 1924
Свой путь в революцию Василь Гуцуляка начал в тысяча девятьсот шестом году, когда семнадцатилетним приказчиком в магазине готового платья братьев Штирнер в родном Каменце-Подольском взломал кассу и попытался улизнуть с деньгами. В округе было неспокойно. То и дело в окрестностях города, да и в нем самом появлялись группы таинственных экспроприаторов. Они налетали с наганами и браунингами в руках на банковские и почтовые конторы, на приличные магазины, и исчезали с изъятой наличностью задолго до прихода полиции.
Василь Гуцуляка решил, что ограбление спишут на этих самых наследников Устима Кармелюка,[14] и все обойдется. Для пущей достоверности Василь устроил в магазине разгром, разбил витринное стекло, да вот незадача – порезался осколком. По следам крови похитителя-самоучку обнаружили уже утром. И отправился бедолага махать кайлом в Нерчинск. Там-то и нашлись добрые люди, разъяснившие, что грабеж, по сути, вовсе не грабеж, а стихийный протест против несправедливого распределения капитала и угнетения человека человеком. И стал Василь Гуцуляка идейным революционером – членом Российской социал-демократической рабочей партии большевиков – с тысяча девятьсот седьмого года.
В революционном порыве, стараясь походить на своего первого учителя социалистических истин, Иосифа Каца, отбросил он никчемную часть отцовской фамилии и стал именоваться гордо, по-боевому – Василий Гуц. Вихри семнадцатого года закружили его, сделали комиссаром рабочей дивизии, но та была разгромлена в пух и прах, а целый полк ее, наплевав на его увещевания, с оружием и артиллерией перешел к Деникину. Чудом спасшийся Василий Гуц едва не попал под революционный трибунал. Помогли репутация старого большевика и потребность зарождающейся Красной Армии в надежных кадрах, полных пролетарской ненависти к угнетателям. Василий Гуц возглавил уездную, а затем и волостную Чрезвычайную комиссию и теперь высоко нес звание особоуполномоченного ГПУ.
В то утро высоко нести звание удавалось с большим трудом – оно давило на похмельную голову, клещами сжимало виски и колом стояло в горле. Едва ответив на приветствие спешащих по делам подчиненных, Василий Гуц прошествовал в кабинет, любовно поправил дорогой подарок московских товарищей – портрет Ильича, и, усевшись за стол, собрался работать с корреспонденцией. Разложив пакеты в три ряда, он стал тыкать в них пальцами, шепча под нос детскую считалку – решая, с какого начать. Это действие у руководителя волостного ГПУ стало своего рода ритуалом.
Палец остановился, Гуц перевернул конверт:
– Ого! Из Москвы! С самой что ни на есть Лубянки!
Давненько, давненько не получал он писем аж с верха. Аккуратно, точно и сам конверт мог содержать ценную информацию, вскрыв пакет, гэпэушник углубился в чтение.
«…Приказываю предпринять самые решительные и скорые меры по установлению места жительства и личности Згурской, в девичестве Кречетниковой, Татьяны Михайловны».
Старый чекист торопливо, но внимательно прочитал возраст и приметы особы, умудрившейся заинтересовать высокое руководство.
«Так-так», – у него екнуло сердце.
«… см. Вложение 1», – гласила краткая, но красноречивая надпись в графе «Внешние данные».
Гуц вновь полез в конверт и достал отпечатанный типографским способом лист с карандашным портретом.
– Так-так, – повторил он. – Вон оно, значит, что!..
С «картины неизвестного мастера» на гэпэушника внимательно и печально смотрели знакомые глаза.
– Таисия Матвеевна, на деле, получается, Згурская Татьяна Михайловна. Уж не жена ли тому Згурскому, который при Деникине наших из Камышина выбил?
Он открыл ящик стола, достал массивный золотой портсигар с гербом под княжеской короной. Уже в который раз начальник ГПУ собирался бросить курить, но только принимал он решение, случалось что-нибудь такое, что без папиросы не обойтись никак.
«Что же теперь следует предпринять? – думал он, разминая в пальцах довоенный еще «Дукат», реквизированный на одном из нэпманских складов. – В приказе ясно сказано: «Установить местонахождение, задержать и препроводить в Москву». Но ведь она ж ведьма! Как ее задержишь? Разве только спящей взять? Руки связать, рот заткнуть, на голову мешок – чтоб ничего сделать не смогла… Так, стало быть, и поступим».
«… При задержании не причинять никаких неудобств».
«Ишь ты! Хорошо им писать «не причинять». А как же нет, когда оно так? Ничего, авось товарищ Дзержинский простит… В конце-концов, бить и увечить не будем, а это уж, извините, барышня, не по злобе, а из ситуации исторического момента и из суровости революционного времени. Щас надо будет перезвонить Судакову, чтоб не спускал с нее глаз… – гэпэушник осекся. – Нет, Судакову звонить не надо. Он по линии этой особы слаб, – она его, как есть, околдовала. Ишь, как он радовался, когда я вернулся, не солоно хлебавши!»
При воспоминании о вчерашней ночи у Василия болезненно сжало виски.
«Судакова в известность ставить нельзя. Ненадежен! Сам поеду!»
Май 1924
Болеслав Орлинский стоял в окне и глядел, как по Гороховой под звук фанфар марширует оркестр Электротехнической школы. Над колонной реяли художественные флаги – высокий знак победы на конкурсе военно-духовых оркестров. Теперь по музыке можно было сверять время – ровно в четыре, когда заканчивались лекции, курсанты проходили маршем, радуя ленинградцев бравурными мелодиями.
Когда-то ему, уроженцу Варшавы, потомственному дворянину Владимиру Орлову, до одури хотелось перебраться в столицу империи, стать тайным советником и, кто знает, может быть, даже сделать карьеру при дворе. Лет десять назад казалось, что все складывается как нельзя лучше. Гражданский чин его – статский советник – приравнивался к полковничьему, начальство было им весьма довольно, и перспективы открывались самые радужные. Когда б не война, когда б не революция…
В смутные дни марта семнадцатого года он прибыл в Петроград с рекомендательным письмом к начальнику российской контрразведки Михаилу Дмитриевичу Бонч-Бруевичу. Письмо было от генерала Алексеева, недавнего начальника штаба Верховного главнокомандующего. Окажись оно, как и документы на имя польского коммуниста Болеслава Орлинского, в руках большевиков в иных обстоятельствах – поставили бы Владимира Орлова к стенке и расстреляли по закону революционного времени. Но счастье было на стороне отважных. В суете, царившей первые месяцы в Петрограде, Михаил Дмитриевич отослал бывшего статского советника с новым рекомендательным письмом к своему брату – видному большевику. У того не было времени разбираться, и он отправил товарища Орлинского, как большого специалиста в области криминалистики, работать председателем Уголовно-следственной комиссии Петрограда.
Однажды, когда Болеслав Орлинский уже чувствовал себя вполне комфортно в новом кабинете, дверь широко распахнулась, и быстрым шагом вошел высокий худощавый мужчина с бородкой клинышком.
– Владимир, – вошедший энергично протянул руку. – Рад тебя видеть. Во дворе заметил тебя мельком, решил проверить, – не ошибся ли. Это прекрасно, что ты на нашей стороне.
Орлов, ни жив, ни мертв, пожал руку. Перед ним стоял лично глава Всероссийской Чрезвычайной комиссии, а заодно и знакомец по гимназии – Феликс Дзержинский. За спиной «железного Феликса» маячили фигуры чекистов с маузерами на боку.
«Сейчас он спросит, почему вдруг я превратился из Владимира Орлова в Болеслава Орлинского, и вся радость улетучится в один момент», – промелькнуло в голове статского советника.
Но этот нюанс отчего-то не заинтересовал пламенного наркома. При том, что всего несколько лет назад революционер Дзержинский и следователь прокуратуры Орлов уже встречались вот так же – через стол. В Варшаве, при весьма неприятной для Феликса ситуации. Впрочем, и тогда они не расстались врагами. Орлов понимал его мотивы и даже в чем-то сочувствовал. Последней фразой, сказанной в тот раз, была: «Надеюсь встретиться при совсем других обстоятельствах». Надежда оправдалась. Старое знакомство возобновилось, и теперь член польской социал-демократической рабочей партии Орлинский, приезжая в Москву, останавливался в номере «железного» Феликса в «Национале», как у себя дома. И все же ему было неспокойно – он ощущал собачьим верхним чутьем, что рано или поздно революционный угар закончится, и новые товарищи без колебаний пустят его в расход. Он все чаще подумывал о том, что пора исчезнуть из Совдепии. Уехать, ну скажем, в ту же Варшаву. Но уйти надо не пустым, – нужны бумаги, сведения, архив, за который на Западе готовы будут заплатить.
– Болеслав Янович, – раздалось за спиной, – как вы распорядились, задержанного привели.
– Датчанина?
– Так точно.
– Пусть войдет.
Орлинский вернулся к столу, поправил малахитовое пресс-папье, достал из кармана френча золотое вечное перо и взял из стопки чистый лист бумаги.
Посетитель безо всякого стеснения прошел через кабинет и уселся на стул перед столом.
«Явный скандинав», – оценивая внешность невольного гостя, подумал Орлинский.
– Гутен таг, – поприветствовал вошедшего начальник Уголовно-следственной комиссии. – Прошу вас назвать ваше имя, адрес и цель прибытия в Ленинград.
– Нильс Кристенсен, – четко ответил скандинав. – Я датчанин, проживаю в Копенгагене. Мой адрес вряд ли вам чем-то поможет. В Россию прибыл по делам Красного Креста. Вот, пожалуйста.
– Красивый документ, – Орлинский углубился в чтение разложенного перед ним дела. – Вы говорите по-русски?
– Да, – спокойно ответил Кристенсен. – Я полиглот, знаю много языков.
– Мне известен смысл этого слова, – не отрываясь от кривоватых строк протокола, кивнул Орлинский. – Кристенсен… Кристенсен. Знакомая фамилия.
– Мой двоюродный дядя не так давно был главой совета министров Дании.
– А, ну конечно.
«Интересная фигура, – исподтишка разглядывая скандинава, думал Орлинский. – Такой, если захочет, легко может вывезти из страны хоть пуд бумаг. Надо его как-то подцепить. Судя по самоуверенному виду – аристократ, чистоплюй и просто так мараться с контрабандой не станет».
– Да-а… – откидываясь в кресле, протянул Орлов. – В пренеприятнейшую историю вы попали, герр Кристенсен. Вот заявление, написанное со слов гражданки Клавдии Суконкиной, шестнадцати лет. Что вы хотели принудить ее к развратным действиям и для того насильно потащили в подворотню. Гражданка Суконкина утверждает, что шедшие через проходной двор незнакомые ей мужчины попытались вступиться за нее, но вы, применяя японское жиу-жицу, нанесли двоим ее защитникам травмы. Кстати, довольно тяжелые.
– Это было не джиу-джицу, и вообще, все обстояло не так.
– Да я-то знаю, уважаемый гражданин Кристенсен. И Суконкина эта прежде у нас по разным делам проходила. Проститутка, карманница, приманка – вот как в вашем случае. Но бумага есть бумага. Гражданка Суконкина имеет все права, которые революция даровала простому человеку, в том числе и на защиту со стороны Народного комиссариата внутренних дел, который я здесь представляю. У нее, видите ли, есть как минимум один свидетель, который точно подтвердит, что вы заволокли ее в подворотню и пытались изнасиловать. А потом напали на троих мирных тружеников и зверски их избили.
– Я полагаю, что этот фарс подстроен ОГПУ, является недружественным шагом к организации Красного Креста и ко мне лично, как к человеку близкому к датским правительственным кругам. Я непременно подам жалобу. Этот вопиющий случай немало осложнит и без того непростые дипломатические отношения между Данией и Советским Союзом.
– Ну что вы – так сразу и жалобу, – Орлов благодушно улыбнулся. – Я к вам со всей душой, камня за пазухой не держу. Просто рассказываю суть дела, стараюсь помочь. Всякому ясно, что Суконкина, шалава мелкая, клевещет на вас. Но ведь «ясно» к делу не подошьешь. Придется с ней отдельно поработать, чтобы отказалась от своего оговора. А на это время нужно. Такая вот история, уважаемый герр Кристенсен. А потому придется с вас взять подписку о невыезде, как то ни прискорбно.
– Но у меня нет времени для этого. Я приехал сюда не отдыхать!
– Я понимаю. И тем не менее. Могу предложить вам хорошую квартиру для съема. В гостиницах, знаете ли, слишком много чрезмерно бдительных глаз – всякого иностранца считают шпионом. А я, в свою очередь, из дружеского к вам расположения, постараюсь закрыть дело как можно быстрее. Вы понимаете, о чем я говорю?
– Сколько? – произнес сотрудник Красного Креста.
– О нет-нет! И речи быть не может! – Орлинский выставил перед собой руки. – Ну что вы! Это просто обычная помощь одного интеллигентного человека другому. Вот адресок, давайте я вам подпишу пропуск…
В дверь кабинета постучали.
– Болеслав Янович, – в кабинет вошел секретарь. – К вам тут посетитель. Вне списка.
– Кто таков?
– Прежде у нас служил, – секретарь начал читать по бумаге. – В гражданскую войну – адъютант Первого образцового полка крестьянской бедноты, потом был милиционером, агентом уголовного розыска, по здоровью комиссован…
– И что ему сейчас нужно?
– Собирает бумаги для пенсии. Ему назначать ее не хотят.
– Почему вдруг?
– Так он из бывших.
– То есть?
– Штабс-капитан, после Февральской революции был комиссаром Главпочтамта. Временному, значит, служил. Оттого и не дают. Вот он и собирает характеристики – что, значит, не враг трудового народа.
– Понятно. Ладно, зови. Да, постой. Сейчас-то он чем занимается?
– Литератор.
– А-а, ну давай. Пусть входит.
Орлинский повернулся к задержанному:
– Надеюсь, скоро мы встретимся вновь – уже не в этих стенах, – он протянул датчанину пропуск.
Тот быстрым шагом направился к выходу.
Дверь отворилась, и навстречу Нильсу Кристенсену вошел болезненного вида сухощавый мужчина с тонким, довольно красивым, смуглым лицом.
– Позвольте отрекомендоваться, – начал новый гость. – Михаил Михайлович Зощенко.
Он повернул голову в сторону Нильса, и глаза его заметно расширились.
– Господи, Сергей Владиславович, вы ли это?
Глава 7