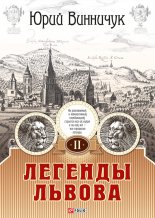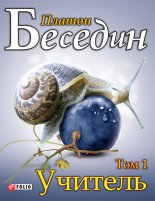Дорожный иврит Костырко Сергей
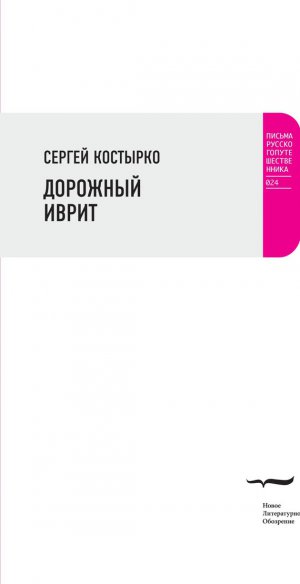
Больница Аллы действительно огромная — занимает целый городской квартал. При входе охранники проверяют сумки. Просторный холл. Кафе, магазин, на стенах картины современных художников. Застекленные стенды с экспозицией из истории медицины — какие-то толченые орехи и еще что-то, насыпанное в блюдечки, ступочки и каменные пестики, инструменты какие-то (неужели хирургические?), фотографии станиц из старинных книг. То есть медицина — наука древняя, не вчера началась. Особенно здесь, на Востоке, в Иудее.
Алла провела своей карточкой в щели ящичка на стене. Ну вот, сказала, официально я на работе. Мы снова вышли наружу. Сыро. Туман. Обзора никакого. Немного прошли в сторону перекрестка, и Алла показала мне, где остановка иерусалимского трамвая: это не конечная, конечная чуть выше, на горе у парка. Но какая тебе разница.
Сегодня я решил проехать по всему маршруту иерусалимского скоростного трамвая, строительство которого можно сравнить со строительством нашего БАМа — по времени и количеству скандалов вокруг. Но получилось классно — два сдвоенных, если не строенных, по сравнению с московским трамваем, бело-серых, комфортных внутри вагона. Все вместе — стремительный поезд. Городской транспорт в Иерусалиме — проблема, город в центре старый, да еще и туристский, то есть узкие улочки всегда забиты огромными экскурсионными автобусами, и поездка из центра в не такой уж далекий Рамот может занять час — столько же, сколько тратишь на переезд из Иерусалима до Тель-Авива. А тут стремительное скольжение поезда через город. Трамвай выполняет здесь, по сути, функции метро.
Я поднялся наверх до трамвайных линий, увидел остановку, сверху от конечной у парка на горе шел трамвай, и мне показалось, что он плотно набит людьми, то есть поездки у окна не получится. И я сел в трамвай, который шел в сторону конечной. Трамвай поднял меня в гору, в совсем уж плотный туман. Вышедшие на конечной люди потянулись к автобусным остановкам — тут у них пересадка. Я же перешел через линии на другую платформу с пластиковыми навесами к автомату для продажи билетов. Автомат оказался ивритоговорящим, он все чего-то у меня спрашивал. А на платформочке стоял только арабский подросток. Он застенчиво поулыбался мне, когда я попросил его о «хелп». Потом появились еще два паренька, он сказал им что-то, и один из них подошел ко мне, выбрал у меня с ладони какое-то количество монет и провел транспортное камлание, из автомата выскочил билет и что-то вроде квитанции. Высыпалась мелочь. Парень вручил мне проездные документы, а сдачу сбросил себе в карман, типа за услугу. Но — завел в вагон, показал, что делать с билетом в самом вагоне. Я уселся справа у окна. Вагон полупустой. Голос, объявляющий остановки — на иврите, по-арабски, по-английски. Тронулись. Буквально через пару минут за окном начало светать. Обозначился город справа внизу — светло-коричневые плоские крыши с пластинами солнечных батарей и бачками с водой. Мы спускались. Дома не слишком высокие — в четыре-пять этажей. Ничего особенного. Обычный город. Утренний, пасмурный. Обычные пассажиры. В основном молодежь, школьники.
Проплыл мимо перекресток, на несколько секунд открылась улица, на которой по обе стороны дороги стояли школьники и держали длинные шесты с большими фанерными ладонями на концах. Это местные детишки регулируют уличное движение у школ перед началом занятий. И взрослые дяди в легковых автомобилях, и водители огромных автобусов послушно тормозят перед опущенными на проезжую часть шестами их шлагбаумов. Регулировщиками были две девочки, на вид — лет одиннадцати-двенадцати, не больше. Детей здесь, похоже, рано избавляют от инфантильности.
Как-то неожиданно быстро трамвай начал подниматься по пандусу эстакады возле Центрального автовокзала, и дальше пошла центральная улица Яффы, самая иерусалимская улица, с местным архитектурным антиквариатом. Еще минут пять, и мы на площадях слева от Старого города, здесь граница еврейской и арабской части города. То есть если посмотреть налево в окно — могучий город, чистый, зеленый, ухоженный старинный монолитный Иерусалим. А справа за невысокой металлической оградкой как будто другой город — мусор на тротуарах, исключительно зеленые арабские буквы на автобусах и маршрутках. То есть я въезжаю в Восточный Иерусалим, но трамвай идет дальше, и мы снова на какой-то широкой улице, и справа здания двух гостиниц — огромные, как бы нелепые в своей монументальности и изысканной архитектурной несуразности, с отсылом и к конструктивистским ходам баухауса, и к традиционному рисунку арабских домов-вилл здания. Но это гостиницы точно еврейские, на одной по-ивритски и по-английски — «Grand Kuart hotel». То есть никакой это не арабский Иерусалим. Второй раз еду на трамвае в надежде разобраться, где еврейский, а где арабский Иерусалим, и опять путаюсь.
В качестве Восточного Иерусалима знаю только квартальчики возле Дамасских ворот Старого города и угрюмые кварталы на Масличной горе.
Очень уже все переплетено, границы еврейских и арабских кварталов здесь знают только местные. В позапрошлом году, нагулявшись возле Стены Плача, я вышел из тамошней синагоги под Стеной, свернул направо в какой-то подземный проход, прошел буквально сто метров и вышел в подземные улицы, неожиданно глухие, замусоренные, почти безлюдные, если не считать компании подростков, которые, как я обнаружил через несколько минут, шли за мной на расстоянии, и понял, что я в арабском секторе и как-то нужно выйти отсюда, но — я в лабиринте этих подземных проходных улочек с закрытыми уже лавками, и чем дальше, тем непонятнее, куда идти, и тут я вдруг услышал родное, могучее: «…твою мать!», и раздалось это где-то совсем близко, я двинул на голос и через несколько шагов обнаружил на перекресточке что-то вроде блокпоста, четырех израильских солдат с автоматами, и рослый солдат, встретив мой взгляд, пожимает плечами:
— Извини, что-то меня поперло.
— Как раз правильно поперло, твой мат был для меня как музыка.
— А тебя-то, отец, чего понесло сюда?
И парень приказал на иврите другому солдатику, видимо, чином помладше, вывести меня, и этот худенький кивнул, типа давай за мной, и быстро и уверенно пошел, и прошли-то мы всего два или три перекресточка, и неожиданно оказались на еще освещенной с работающими магазинами и забитой людьми торговой подземной улице.
— Туда, — махнул мне паренек, — икзит там.
— Сенк ю, — сказал я.
— Бай, — ответствовал служивый.
То есть здесь, в Иерусалиме полно мест, где шаг вправо, шаг влево, буквально шаг, может означать пересечение невидимых, но очень даже реальных границ. Споры идут за клочки территории в улицу, квартальчик, а то и дом.
И это, кстати, еще и источник доходов у местных алкашей. Опять же, гуляя по верхним площадкам над площадью перед Стеной Плача, где куча кофеен, художественных салончиков, где на улице выставлены картины на продажу, то есть в одном из самых бойких туристских мест, я решил пройтись дальше, по узенькой улочке налево от площади, и через десяток метров меня остановил какой-то мужчина, очень даже импозантный на вид, и что-то проникновенно заговорил, показывая рукой в ту сторону, куда я направлялся. Я напряг свои скудные познания английского: мужик объяснял, что туда не надо, что там опасно. Экстремисты-мусульмане. И так далее. И трогательной мне показалась такая вот забота о незнакомом человеке и доверительность чисто человеческая. И благодетель мой, дождавшись, когда эта вот моя тронутость его заботой выразится на лице, не меняя интонаций, произносит: а ты не мог бы дать мне десять-пятнадцать шекелей? Плиз!
Но я уже прошел краткую, но выразительную школу у харедимов внизу, возле Стены Плача, шесть лет назад, в свой первый приезд. Тогда ко мне, ошалевшему от сознания, что вот он я стою, а передо мной — Стена Плача, самое намоленное место в мире, остаток плоти того мира, из которого пошла вся наша цивилизация, и вот тут ко мне подходит настоящий «хасид» — в пейсах, в черной шляпе, с суровостью на лице и просит (требует) назвать свое имя, а также имена родителей, я послушно отвечаю, и он кладет руку на мой затылок, нажимает, заставляя склониться, мы застываем в этом странном полуобъятии, и харедимный быстро бормочет молитву, потом пауза, и тут же — предлагает заплатить пятьдесят шекелей за сакральность произошедшего между нами. И я стремительно трезвею и из вынутого по инерции кошелька достаю не пятьдесят, а двадцать. Все, дорогой, все.
Но тот хоть молитву произнес, а этот… «Огромное спасибо за заботу, — говорю. — Удачи тебе, родной!» И двигаю дальше.
Но как только я засомневался, где я, в Восточном или Западном Иерусалиме, трамвай свернул направо, и я — это уже точно — в Восточном Иерусалиме. Мы как будто выехали из огромного города в городское предместье. Дома расступились и присели на несколько этажей. Между домами, в основном особняками, окруженными каменным забором-стеной, образовались пустые пространства, точнее — кусочки пустырей.
Ну, например, вот так: перекресток, за окном трамвая квадратная латочка незастроенного участка, заваленная мусором, сквозь который пробиваются жесткие темно-зеленые клоки травы. А дальше могучий каменный забор, имитирующий кладку крупных камней с рустовкой, и над забором — трехэтажная светло-желтая вилла-особняк, с красным черепичным треугольничком навеса над входом и застекленным пенхаусом на крыше.
На магазинных вывесках арабская вязь.
Это как бы приватная часть города, то есть здесь только живут — почти ничего общегородского: скверов, площадей, гуляльных улиц для туристов, открытых кофеен, торговых центров. Не сравнить с Тунисом и Суссом, не говоря уж о Каире, в котором всегда ощущение восточного города как единого тела — косматого, мусорного, почти хаотичного — но именно города, со своим городским кодом. Здесь же — как бы густо застроенный каменными виллами пустырь — каменистый, поросший травой и редкими кустами.
Уверен, что за этими заборами арабов — идеальная чистота, дизайн, комфорт; мусульмане — люди чистоплотные и мастеровитые. Но получается, судя по районам Восточного Иерусалима, что живут они здесь по принципу: мой дом — моя крепость. Точнее, мой мир — это мой дом. Не дальше.
Улицы совсем пустые, возможно из-за мелкого дождя, который сейчас пошел.
Доехал до той остановки, где вышел в прошлом году, увидев вдали в ложбине эффектный прогиб города в ложбине между двумя горами и длинную дугу эстакады.
Тогда, в прошлом году, я ехал здесь в середине солнечного дня, и в вагоне трамвая вместе со мной было только три пассажира: женщина в мусульманском платке и какой-то парень-качок в черных очках, который сначала сидел впереди, а потом, когда проехали Старый город и вагон начал освобождаться, медленно прошелся по проходу и сел слева от меня через проход на одно сиденье сзади. Я его не видел, но почему-то постоянно чувствовал. И когда я вышел, чтобы снять пейзаж с автомобильной эстакадой, он тоже вышел. Стал неподалеку на платформе боком ко мне, так что я по-прежнему оставался в поле его зрения. Я погулял по платформочке, поснимал, посмотрел схему маршрута, выяснил, что до конечной осталось всего четыре остановки, и решил, что хватит, пора возвращаться в обжитый Иерусалим. И когда показался трамвайный поезд в сторону центра, я перешел на другую платформу, парень остался на месте. Он стоял, чуть расставив ноги в черных мешковатых по покрою брюках со множеством карманов, но ткань не топорщилась, а висела под тяжестью сложенного в этих карманах. Невысокий, плотный, руки в карманах, белая курточка, стриженая круглая голова на крепенькой шее (типаж быка из телесериалов про «лихие девяностые»). И вот тут я, наконец, увидел витой белый проводок рации, тянувшийся из-за воротника на его затылке к левому уху. То есть парень этот из спецохраны, который увидел русского старпера с фотоаппаратом и разинутым ртом, непонятно зачем без туристской группы или местного иерусалимского приятеля направляющегося в арабский сектор города. И хрен его знает, чего с ним случиться там может. То есть ничего особенного с ним, скорее всего, и не произойдет, но на всякий случай надо бы присмотреть, чтоб потом не было головной боли.
Ну а сегодня эту остановку (Beit Hanina) я проехал, и через несколько минут трамвай опять катил в типично еврейском районе. Конечная. Улица Моше Даяна. Дождь усилился, и я под зонтом перебежал на тротуар в надежде на какую-нибудь открытую кофейню. Но фиг тебе — только маленькие магазинчики. И я пошел дальше по ходу остановившегося трамвая, по улице, застроенной скучными белыми четырехэтажными домами, нагибаясь под тяжелыми мокрыми ветвями каких-то деревьев с красными цветами. И район вокруг становился все более и более спальным. Дождь усиливался. Лужи уже не переступить. Зачерпнул воды ботинком. Благословенное для Израиля действо, проблема которого всегдашняя — вода. Вчера по радио сказали, что уровень воды в Кинерете поднялся на сантиметр.
Дома здешней архитектуры в меру выразительны, это скорее некий международный стандарт южного города. Района «спального», построенного отнюдь не Корбюзье с его конструктивистской осатанелостью, оставшейся, скажем, в моих орехово-борисовских двадцатидвухэтажных с таким же количеством подъездов блочных бараках, а именно — дума. Застроенный ими район выглядит достаточно уютно. Даже как бы чуть меланхолично, умиротворенно. Может, из-за дождя?
На обратном пути наблюдал, как полупустой трамвай, пройдя сквозь арабские секторы, вдруг начал наполняться людьми, две девушки, одна ехавшая в трамвае, другая — вошедшая на остановке, и обе говорившие по мобильному телефону, увидели друг дружку, просияли, прикоснулись друг к другу щекой, имитируя поцелуй, и при этом продолжали ворковать в свои трубки.
Когда проезжали «Гранд Курт отель», выглянуло солнце, осветило справа вдали бело-зеленые горы, и на улице Яффы я выходил уже в летний солнечный день, слепящий блеском мокрого асфальта, и двинул обсыхать и записывать впечатления в эту кофейню во дворе на улице Соломона.
15.32 (в скверике возле Музея Израиля)
Смотрел живопись и скульптуры.
Потом застрял в залах, где выставка одежды религиозных евреев. А также на большом экране крутились кадры еврейских праздников. Снято недавно. Огромное, на спортзал похожее помещение с длинным столом посредине и круто поднимающимися вдоль двух стен трибунами для стояния там зрителей. За столом в центре зала почтенные седобородые евреи в ритуальных одеждах с высокими меховыми шапками на головах — огромными, как колесо телеги. Вокруг такие же черносюртучные, в таких же шапках мужчины, но — молодые, с черными и рыжими бородами. Плотная черная толпа. К сидящим за столом очередь молодых, чтобы прикоснуться к руке старцев. Затем начинается ритуальное пение и приплясывание. Танцующие постепенно разогреваются, танцуют даже те, которые сидели за столом.
Мощь неимоверная.
Конечно, снято для туристов, для вот такого музея, — легко представить, как долго и старательно осветители развешивали под потолком софиты, как операторы выбирали для своих камер точки обзора, так, чтобы толпа харедимных создавала вот эту черную живую массу, чтоб были общие планы и крупные. То есть это, разумеется, действо во многом постановочное, но и праздник. И праздник, несмотря на новенькие стены спортивного ангара, подлинный — не мешают же Меа Шеариму мобильники в руках харедимов и кондиционеры на окнах. И то, что я вижу на экране, разумеется, произведено в XXI веке, но действо древнее. Изначальное. Подлинное.
Вот эту энергетику я почувствовал в прошлом году на Йом Кипур, когда мы небольшой компанией с Аркадием Горинштейном обходили синагоги на Алленби и после главной синагоги, где все шло по чину, сдержанно и пронзительно, оказались в зале какой-то библиотеки в переулочке, который сняли для праздничной службы молодые ветераны здешних войн. В зале, где мы были самыми старыми, — вокруг нас только молодые, до тридцати, люди с женами и малыми детьми, — сначала шла служба, потом началось пение, а потом все начали вставать, чтобы петь стоя и немного раскачиваясь, а потом и приплясывая, и, в конце концов, пение это, очень истовое, так сказать от души, перешло в танец, и танцевали все, и даже меня, старую лысую колоду, ребята вытащили, и чего-то там я выделывал вместе с ними ногами.
Потом смотрел живопись Рубина и израильскую живопись 1920–1930-х годов. Краем глаза — сил уже не было — Пикассо (по большей части поздний), Модильяни (в частности знаменитый женский портрет и портрет Зборовского), Пинх, Сутин. Но сил на все это уже не было.
Отдохнул в кинозальчике, где в темноте на экране шел фильм дадаиста Мана Рэя, снятый им в Париже в 1928 году. Фильм замечательный, Рэй как раз и создавал язык того кино, которое я смотрел в клубе «Биробиджан». Некоторые кадры показались знакомыми, и только к концу фильма я вдруг вспомнил, что смотрел его — и точно так же — в прошлом году, отупев от усталости и устроившись в этом зальчике подремать сидя.
Новости по израильскому ТВ. Говорит начальник разведки: «Сегодня день прошел спокойно, всего двадцать ракет из сектора Газа, вчера было около ста. Похоже, что обстрел ведет не ХАМАС, а какие-то мелкие группировки» (ничего себе — «всего двадцать ракет, а вчера сто»!).
Комментарий генерала в отставке: «Газа с нами воюет, так? Она хочет быть отдельным государством? Ну так никаких проблем! Хотите суверенитета? Ради бога! Ну а мы, соответственно, должны отключить поставки в Газу электричества, воды, стройматериалов, продуктов и т. д.».
13 ноября
8.43 (на рынке)
С утра гулял по улице Яффы, по дороге на работу Алла высадила меня у автостанции.
Пока ехали, рассказывала про самый замечательное из социалистических элементов израильской жизни — накопительную систему фонда повышения квалификации. «Допустим, ты заключаешь договор и кладешь в фонд каждый месяц 100 шекелей, и тогда государство кладет на твой счет еще 200 шекелей. Там начинает копиться некая сумма. Но снимать ее ты имеешь право только раз в шесть лет. И сумма там нарастает за это время очень даже приличная. Мы, например, машину на эти деньги купили».
После трех дождливых дней сухо, солнечно, в воздухе ни капли смога — воздух чистый, можно сказать горный, как и полагается Иерусалиму.
Улица Яффы еще пустая. Горят прожилки трамвайных лес в каменной мостовой. Два велосипедиста. Фигурки школьников с рюкзачками на спинах.
Завернул на рынок — поискать туалет и попить кофе. Восемь утра, вряд ли где еще могут так рано открываться кофейни.
Центральная линия рынка с синим небом сверху, с парящими в нем почему-то почти китайскими пагодообразными зелеными крышами, занята сейчас белыми грузовыми фургонами. Приемка товара. Мужики, в основном молодые, аккуратно переваливают содержимое картонных коробок — помидоры, огурцы, перец, бананы, яблоки — на прилавки. Парень снимает с деревянных лотков огромные крышки, похожие на крышки старинных сундуков, под ними — орехи. На ночь их просто накрывают и запирают на замок.
И сразу же увидел мужика, идущего с пластиковым стаканчиком. То есть будет мне кофе.
Свернул налево и пошел через крытую часть рынка — здесь мощный электрический свет и практически нет покупателей. Помещения эти еще принадлежат продавцам, — один говорит по мобильнику, прохаживаясь посередине, двое других доводят до кондиции вид своих прилавков, стоя в проходе, со стороны покупателей. На полу посередине сброшенные пустые коробки из-под товара ждут тележки уборщика. Я прохожу мимо хлебной лавки — худой голубоглазый парень в белой рубахе, с рыжими бородой и волосами под кипой, забрался с ногами на высокий табурет и перебирает пальцами струны гитары в ожидании и первых покупателей.
Открытое в этот час кафе нашел в конце главного ряда. Вялый, как будто еще не проснувшийся до конца парень кивнул без выражения и начал варить мне кофе. Спрашивать, чего хочу — капучино, американо, эспрессо, — не стал. Тут, видимо, единый стандарт кофе. Я выбрал из выложенной на прилавке выпечки что-то длинное, сухое, понадеявшись, что оно с местным сыром, и пока парень возился с кофейным аппаратом, попробовал. Оказалось, что да, с сыром. И выпечка абсолютно свежая, сегодняшняя.
Устроился за белым столиком, так, чтоб голова была на солнце, а тетрадь и тело в тени. Металлический стул еще хранил ночной холод, пришлось подкладывать под задницу газету, которую кто-то оставил на этом столике. За соседним столиком за плечом у меня сидел мужик лет тридцати со спрайтом. Это у меня отпечаталось на автомате.
Забибикала белая машина-фургон, медленно наезжающая на меня высокой мордой с надписью на покатом лбу ISUZU, почти уперлась в мой столик. Выскочил шофер, обежал свой фургон, открыл створку задней двери, вытащил оттуда грузовую тележку на колесиках и куда-то умотал.
Идут три школьника младших классов, видимо, срезая дорогу к школе через рынок. В пуховых курточках, с огромными для них рюкзаками, концы выданных мамами зонтов тащатся по каменному полу.
И, как ни странно, уже и покупатели — в основном старушки с хозяйственными сумками на колесиках. Покупают зелень и овощи. Харедимный прошел, с двумя мальчиками, все семейство в черных сюртуках и в белых рубашках, одетые «на выход». Во сколько же они встают? Еще один черносюртучный, с детской колясочкой, между машин лавирует.
Ритмичный стук железных колесиков на стыках плитки, которой застлан здесь пол, на тележке гора коробок, парень, откинув назад тело, удерживает катящую под уклон тележку. Машины уже стоят в два ряда и, когда начинают движение, кузова их проплывают друг мимо друга в нескольких сантиметрах — ювелирная работа.
Из прохода между рядами выходит рослая деваха с припухшей рожей — лет тридцати, в серых мятых штанах, обувь — галоши и ярко-желтые носки, сверху плотный грязно-голубого цвета свитер, из-под которого видна красная мужская рубаха, ну а надо всем ее могучим телом — круглая голова с торчащими в разные стороны кудельками давно немытых волос. Походка преувеличенно деловая, выражение лица целеустремленное.
Сидящий за спиной у меня мужик говорит по телефону, и я вдруг слышу родное: «Ты что, охренел?! Это я теперь и извиняться должен, что ли? Да пошел ты! Я ж пьяный был. В жопу. Ну что? Да… Да… Хрена тебе! Я что, должен, по-твоему, отказываться от бабла? Со стороны должен смотреть? …Нет уж, хватит! И все! Все, понял?! Достали вы меня! Отвали!»
Звук удара зажигалки о столешницу, — это он, закончив разговор, хряпнул тем, что было в руке. Типа, нет у меня настроения. Типа, гори оно все ясным пламенем. Но — характерно, что шмякнул зажигалкой, а не мобильником.
Я скосил глаз — мужественный профиль оскорбленного жизнью сильного, но слегка уже потрепанного мужчины. Такие в нашем кино играют ветеранов спецназа, по велению сердца снова взявшихся за оружие, чтобы защитить беззащитных русских девушек, а также стариков и детей от олигархов. И банка у него в руках оказалась не спрайтом, а пивом «Хайнекен».
Старый город
16.20 (в кофейне «Вчера-позавчера»)
Старый город — это почти протокол. Каждый год иерусалимскую жизнь начинаю отсюда.
Взял карту в туристском офисе у Яффских ворот и пошел искать улицу Виа Долороза. Шел наугад, но нашел легко. Дошел до Львиных ворот. Чтобы пройти с самого начала. Здесь уже накапливались группы паломников и экскурсантов. Купил буклетик с перечнем «остановок», подождал немного, выбирая, к кому пристроиться, но русских групп не было. Пошел за толпой африканских паломников в полосатых зеленых накидках и куртках.
Двинулись по каменному дну древней улицы. Понятно, что Христа вели совсем по другому городу. От того двухтысячелетней давности Иерусалима почти ничего не осталось. То, что вокруг меня, — это Средневековье. Но которое, надо полагать, шло здесь вслед за изначальной культурой этого города, то есть не могло не воспроизвести сам архитектурный и пространственный код Иерусалима. Не скажу, что переживание было острое, — мешала накопленная усталость за прошедшие дни. Но ощущение отчетливое — я в камне, как древесный жучок в дереве. Светло-серые желтоватые глыбы, домодельно — по штуке — обтесанные, плотно пригнанные, крупные, сантиметров по тридцать высотой, образуют уходящие над моей головой стены. Последние дни мучают шпоры на пятках, поэтому — почти физиологически острое ощущение камня вокруг и под ногами. Только сверху полоска густо-синего неба, отороченная клоками травы и кустиками, растущими на стенах сверху.
Ритуальный заход во двор, где бичевали Христа и откуда он понес свой крест. По две-три строки информации в буклетике (не взял на этот раз Евангелие). Пение польских католиков. Две крохотные группки русских туристов с персональными экскурсоводами. Я пристроился к одной. Крутой паренек лет тридцати — тридцати пяти в кепочке, в распахнутом светлом пиджачке, под пиджачком такая же до пупа расстегнутая рубашечка, на загорелой мускулистой груди золотая цепь с крестом. Сыночек его, десятилетний гаденыш, залезающий для фотографирования за все оградки с табличками «Просьба не трогать руками». И жена паренька — ядреная блондиночка с благостно покрытой косыночкой головой. При них русскоговорящий гид — сухая пятидесятилетняя тетка, делающая вид, что не замечает безобразного поведения подростка. Вип-клиенты. Жена крутого пытается разряжать атмосферу: «Ой, как тут симпатично! А кто строил этот храм?» — «Строил архитектор …». — «Да нет, кто финансировал?» — «Католическая церковь». — «Като-о-лики?.. А этим-то здесь что надо?!» И я отваливаю к своим зеленым африканцам. По крайней мере, не услышу их комментариев.
Идем дальше, и постепенно движение это начинает разогревать изнутри. То есть Священную историю я сейчас прохожу ногами. Аляповатые иконы в лавках, сияющие на всех прилавках кресты уже не мешают. Скорее наоборот.
Бог с ними и — с тем, что большая половина крестного пути сейчас представляет собой торговую линию арабского базара.
Не мешает даже сюжет, который невольно выстраивается по мере движения, — сюжет с пиар-спецами из монахов-францисканцев, размечавшими для Него это маршрут в XVI веке, то есть: начинаем от Львиных ворот, у Антониевой башни, вот в этом дворе, где Его бичевали и венец терновый надевали, лучше места не найти, двор закрытый, просторный — сразу несколько групп можно разместить, и помолиться всем можно, и псалмы попеть; далее место, где Он первый раз упал под крестом, вот здесь, на перекресточке, да? Тадеуш Зелинский потом барельеф сделает, а со временем часовенку откроем, места там хватит на две группы сразу, поэтому рядом еще остановка, где Его мать увидела; дальше — остановки с Вероникой, с Кириянином Симоном. В этом месте Он скажет Свое слово иерусалимским матерям. — А где Агасфера выпустим? — Нет уж, никаких «вечных жидов», не будем плодить бытовой антисемитизм, в нем кровь все-таки иудейская текла, а впереди сколько веков, и когда к христианству присоединятся африканцы, то у них точно крыша поедет, им в этих наших оттенках просто не разобраться. Ну а все остальное размещаем на самой Голгофе, в храме — это понятно. И туда же в подвальном помещении могилу Адама поместим, чтоб на нее кровь капала прямо с креста. — А это не перебор? — Ничего-ничего. Паломники со всего света будут ехать, надо дать им максимум впечатлений. Ну и т. д.
Ну и что?
Ты-то по этому маршруту идешь. И для тебя это действительно Крестный путь. Пускай и как материализация намоленного за столетия. И ты не так уж и отличаешься от своих спутников-африканцев, черных, угловатых, одетых в одинаковые зеленые полосатые куртки, некоторые — в зимних, подвязанных под подбородком меховых шапках (ноябрь для них — зима). И они действительно волнуются, замирают и слушают своего экскурсовода, полностью вырубившись из торгово-гуляльной атмосферы этих тесных рыночных улочек.
И вот он я, который морщится от вида кликушески разбросанных рук и волос коленопреклоненных паломниц по камню, на котором обмывали Его тело, — и тем не менее я нагибаюсь и стужу свою руку прохладой этого камня. И провожу в шестой раз глазом по декоративному панно на стене. И дальше, наверх — к распятию, к жуткому и выразительному кусочку камня, как бы вбирающего в себя свет, в стеклянном окошечке под изображением креста — части той самой Голгофы. А потом вхожу в зал с горящими в темноте вокруг гробницы свечами и со столбом света, опускающимся из открытого в небо купола.
И уже потом поднимаюсь по лесенкам наверх, на крышу почти, во двор коптского придела. Лестница тесная, запахи свечей и ладана, как во время службы в маленькой провинциальной церквушке, скажем, под Малоярославцем, в Карижах. Батюшка спускается навстречу мне, я прижимаюсь к стене, пропуская его, он проходит мимо, здоровается. И я здороваюсь. Ощущение, как будто я дома, но — это Восток, это изначальное христианство. Достаточно посмотреть на стены в этом месте храма — утром, под косым еще солнцем, как бы покрывающим солнечной пылью шершавые для глаза желто-серые могучие стены патиной древности. И кстати, среди самых первых списков Евангелия множество — на папирусе.
Вот здесь можно побыть одному. Экскурсий здесь не бывает.
Ну да, я агностик. От породы новых воцерковленных соотечественников с их гордыней неофитов стараюсь держаться подальше, а перед близкими друзьями чуть ли не оправдываться приходится за свою тягу к деревенскому народному христианству, но я никуда не могу деться от воспоминаний о том, скажем, как мы с бабушкой Ольгой Нестеровной на Угловке ходили туманным морозным утром вдоль еще не оттаявшей до конца речки, ломали вербу на Вербное воскресенье или как разговлялись на Пасху. Или от того, как в позапрошлом году я стоял в толпе русских туристов на Масличной горе, у оградки, отделявшей сквер со старыми оливами — Гефсиманский сад. Вокруг меня люди щелкали фотоаппаратами, и тут раздался хрипловатый голос их экскурсовода: погодите фотографировать, давайте я сначала вам расскажу, на что вы смотрите. И дальше он, как будто поставил иголку звукоснимателя на в сотый раз заводимую им пластинку: «Когда Иисус, отправив учеников, остался один, Он…». Я слушал его и смотрел на оливы. Накануне я читал подаренную Мишей Гробманом книгу про растительный мир Израиля, и там было про оливы, про то, что они могут жить долго. Исключительно долго. Встречаются оливы, которым 600–700 лет. А голос экскурсовода заканчивал: «…и вот здесь, под одной из этих олив стоял Он и молился… Конечно, история не может вам точно сказать: это было. Но она и не может сказать: этого не было. Так что это вопрос вашей веры». Ну да. Вот они — те самые оливы. Шестьсот лет — это очень много, но не две тысячи, это я понимаю. Но — умом. А холодок, который меня пробирает, он — от другого.
Библию я начал читать поздно и — с Евангелия. И с годами выяснилось странное: насколько я, скажем так, завишу внутренне от этого чтения, настолько усложняются для меня отношения с «новыми христианами», с их гордыней причастных к высшему знанию. И сама история Христа никак до конца не открывается для меня, в отличие от них. Вот здесь, когда я читаю Евангелие, сквозь «новозаветную» его историю проступает для меня «ветхозаветная основа» ее — ну, скажем, в смятении Иисуса перед тем, что ему предстоит, и в его принятии уготованного (Моление о чаше). То есть не только и не столько от сковородки в аду спасал Христос.
14 ноября
9.01 (на рынке)
Все еще развозят товар.
Голубая с желтым маркировка картонных ящиков с бананами.
В зеленых с красным — помидоры.
Напротив от меня, сидящего со своим утренним кофе, через проход прилавок с яйцами, огромные желтые ценники: XL — 35, L — 32, M — 29.
По дороге из Рамота Алла, посмеиваясь, пересказывала мне фразу Нонны Мордюковой, которая бегло, из окна машины увидела Израиль: «Мне нравятся израильские мужчины — у них таки-и-е шляпы!».
Аллу, живущую в религиозном квартале, каковым постепенно становится Рамот, харедимные достали. 90 % процентов населения их района. Вчера по Радио Рэка слушал статистику: десять лет назад 80 % харедимных работали, сейчас — только 50 %. Они практически на содержании государства. И в армии не служат. «Не знаю, что бы с ними сделали, если бы не наличие в Израиле арабов, консолидирующих разномастных евреев».
Ну да, наверно, а мне по-прежнему нравятся эти утренние, опрятные, строго по их религиозным правилам одетые. Повторил бы за Мордюковой.
Легкий ветерок. Потянуло свежей рыбой и пряностями.
Солнце встало. Припекает затылок. Высвечивает край и середину прохода. Светятся на синем небе бледно-зеленые крыши-пагоды над рядами.
Вчерашнее кино в музее
Продрала меня вчера энергетика того религиозного действа, что было на экране. Дикая мощь в пении, в танцах. И невозможно отделаться от неизбежного вопроса: почему? Почему так сложился еврейский ХХ век? Ну да, галут, придавленность местечковая, привычка просачиваться в «большую жизнь» по капиллярным сосудам.
Но ведь это та же кровь, которая дала Маккавеев и защитников Масады. Та кровь, что дала фантастическую в этом плане историю нынешнего Израиля. Которая была в солдатах-евреях Великой Отечественной.
Почему же так покорно выстраивались они в колонны для прохода в Бабий Яр? Ну хотя бы жест отчаяния — все равно умирать.
Почему?
Нет, дело не в заторможенности, не в «галуте».
Дело в простом, человеческом — в невозможности поверить, что ты «еврей». Что для твоих соседей, с которыми душа в душу жил десятилетиями, ты навсегда остаешься телом инородным. Что в любой момент представители той же русской политической и интеллектуальной элиты могут объединиться, подписать письмо с требованием запретить евреям в России быть евреями — то есть деятели русской культуры могут призвать государственные органы запретить деятельность всех еврейских организаций — общественных, культурных, религиозных, — потому как изначально «евреи» — это «посланцы сатаны». Именно так и написали они — и не в 1905-м, а в 2005 году, уже зная про Холокост все.
Сколько же сделали за столетия евреи для той же Германии! Или евреи СССР, создававшие его промышленность и вооружение в первые пятилетки и упершиеся, в конце концов, в 1949 год.
Или дикая история евреев Хеврона.
Когда погромщики пришли убивать еврея-аптекаря, они точно знали, как заставить его открыть для них двери: они попросили медицинской помощи, знали, что не откажет, что есть у него вот это человеческое, чего они сами лишены. И даже понимая на девяносто процентов, что его сейчас будут убивать, зная, что могут сделать с его женой и дочерью, он не мог не подчиниться: а вдруг правда человек умирает и нужна его помощь. А потом, все-таки жизнь с этими людьми прожил, сколько добра им сделал. Не может быть. Оказалось — может.
Нет, были арабы, которые прятали у себя евреев, — арабы, которые были людьми. Но получается, что лучше бы их и не было. Тогда не оставалось бы ложных надежд. Тогда бы точно знали, что для всего мира они не люди, а «евреи». И твердое знание этого помогло бы спастись.
А так, чуть ли не вся Европа, кроме болгар и датчан, сдала своих евреев Гитлеру.
Но как в это поверить? Да это невозможно. Невозможно моему другу, одному из лучших умов Москвы, которого в свое время близко не подпускала к себе философская и филологическая Москва. Ему бы в свое время — в Израиль. Ну а тут чисто человеческое: а с какой стати? Почему уезжать должен я, родившийся здесь, выросший здесь, родителей здесь похоронивший, а не они? Или я соглашаюсь, что здесь я вообще не человек?
Ну и в итоге, кем должны на самом деле чувствовать себя наши репатрианты в Израиле? Победителями? Или согласившимися на принятие того, что жить им можно только здесь и больше нигде? Что они «евреи»?
Из рядов восточная музыка. Не сразу понять, еврейская или арабская. Для меня грань почти неразличима.
Прошлогоднее ощущение от синагоги в Тель-Авиве на улице Алленби в Йом-Кипур: передо мной спины и плечи мужчин в полосатых одеждах, вокруг суровые смуглые лица, могучие руки. Восточные мужчины, от которых вдруг дохнуло пустыней с кострами, верблюдами, лошадьми — ветхозаветным, изначальным, могучим. Я присутствовал при древнем действе, и эти люди были древними. Пастухами, воинами, строителями. Мужчинами в изначальном смысле слова.
10.20. Солнце уже печет. Но разгрузка товара продолжается.
11.20 (у Стены Плача)
И в мыслях такого не было. Вышел почти наугад из лабиринта еврейских кварталов Старого Города на площадку, которая над площадью перед Стеной Плача. Изготовился для переживаний, и тут зазвонил мобильник. Ира Гробман.
— Ты где?
Я сказал гордо:
— Стою, смотрю на Стену Плача.
— А записку приготовил?
— Ну так вроде мне как нееврею не полагается.
— Бог един! — строго сказала мне Ира.
Вот уж от кого я не ожидал. Я устыдился — чего это ты во всем такой замордованный, сам же сто раз говорил, что бог един. И вообще, чегой-то ты слишком гордый стал. И ведь не гордость это, — гордыня.
И, отговоривши по телефону, спустился вниз, вырвал листок из этой вот книжечки, в которой пишу, вписал главную свою просьбу и добавил еще две попутные. Свернул в трубочку и двинулся. Белую бумажную кипу из корзины взял, на седую свою хохляцкую голову надел, к Стене подошел, руку к ней прислонил. И в этот момент снова мобильник.
Вложил свою записку в широкую, уже почти забитую записками щель и задом-задом, как полагается (это я в путеводителе прочитал) начал пятиться от стены.
И только выйдя с этой площади, отзвонил:
— Ну, Ир, чуть кайф мне не поломала.
— Успел положить-то? Ну вот, мой звонок и значит, что тебя услышали. Ты скажи, каким рейсом ты прилетел, я сейчас звоню в аэропорт насчет твоей потерянной ветровки.
Нет, все правильно. И Ирины звонки вовремя: типа, ты, Сережа, слишком-то не заходись. Надо и меру знать.
Немного погулял по окрестностям площади перед Стеной. Тепло, пасмурно. Влажным духом земли и весенне-осенней зелени пахнуло, и как будто близким дождем, и птицы у Стены кричат, и ощущение покоя как в детстве. И я снова спустился, надел кипу и пошел к Стене, вернее в синагогу под Стеной.
Харедимные. Черные шляпы, бороды. Типа патриархи. Бороды наполовину седые, у тебя такая же была бы. Только на тебе джинсы, футболка. А эти — архаика: торжественные, в черных одеждах старинного покроя, книги читают, которые ты и в старости не можешь прочитать. Они как вызов нынешнему миру. Поневоле смотришь на них снизу вверх, как подросток на взрослых мужчин, на патриархов. Но ты ведь не моложе их, ты тоже старый и седой, ты такой же крупный и солидный. Тебя во все это одень да бороду тебе отпусти — и ты патриархом глянешься. Но мы-то подсознательно ориентируемся на имидж вечного мальчика, то бишь сухощавые, спортивные, загорелые, рубашечка с короткими рукавами, шорты или джинсы, бейсболка на голове. Тут другое — зависть и уважение к их мужеству быть стариками.
На выходе из синагоги: опять прохладный влажный воздух, каменная стена, клоки растений, которые еще Верещагин рисовал, и чистый, утренний, ясный деревенский звук — птичий щебет сверху.
15 ноября
10.40 (кафе «Вчера-позавчера»)
Сижу в кафе во дворе, читаю газеты. Записываю вчерашнее.
Вечер 14 ноября:
К пяти поехал к Юлии Винер. Купил цветы. Немного смущал формат встречи, то есть визит читателя к писателю. Разрешение на этот визит получил через Игоря Б. Но получилось легко. Пили кофе, и у нее можно курить.
Высокая сухощавая смуглокожая семидесятилетняя женщина, и сейчас видно, какой она была красавицей. Некоторая затрудненность движений, проблемы, как я понял, с позвоночником, — последствия автомобильной аварии. Трудно писать рукой, пишет на компьютере. Читать может только лежа. Читает с «Киндла». Точно такого же, как и у меня. Попросила мой «Киндл», чтобы посмотреть, чего там у меня закачено. Почитала. Хмыкнула на Бялика и Рубина в списке. Спросила что такое «Возвращенная молодость», я сказал, Зощенко. Спросила про Горалик. Увидела себя — «Ага, и я тут есть».
Я немного рассказал про свои впечатления от ее стихов и прозы. Она комментировала. Шестнадцать лет жила с мужем возле Греческой церкви рядом со стенами Старого города — отсюда «Гефсиманский сад». «Место для жизни» писалось как отдельные рассказы, без мысли о едином цикле. Описываемый во всех рассказах цикла взрыв произошел в ее доме, в булочной, дверь в которую справа от входной двери ее подъезда. «Я вышла из булочной, зашла в свой подъезд и начала подниматься по лестнице, и вот тут рвануло. Буквально через полторы минуты».
Про «Былое и выдумки» — «Ничего не помню про “Новый мир”. В каком помещении мы были, как говорили с Твардовским. И не помню, большой или нет был кабинет. Я всегда удивлялась памяти мемуаристов: и название улиц помнят, и про то, кто и что говорил. Я мало чего вот так помню. Поэтому я назвала свои воспоминания “Былое и выдумки”. Может, оно было так, как я написала, а может, и не совсем так».
Про стихотворение о тете, про которое я сказал, что оно единственное для меня из прочитанного в современной поэзии, которое — на уровне темы Холокоста. Оно мне тоже нравится, сказала Винер.
Потом я спросил, кем она себя считает. Русским писателем или израильским, пишущим по-русски.
— Я не знаю. Никогда не задумывалась. Я пишу по-русски, потому что русский считаю самым богатым. Я люблю иврит, но никогда не смогу писать на нем. Тут все просто. Выросшие в еврейской культуре пользуются этими словами, которые идут для них из Торы. И в их устах это язык многоуровневый. Я не росла на Торе. И я, соответственно, не знаю всех традиций употребления слова. Для меня иврит — средство общения. А в русском слове чувствую его пространство.
Я сказал, что, читая ее «Любовь к языкам», завидовал. Для себя не видел смысла изучать языки — возможность оказаться за границей казалось мне абсолютно невероятной, а читать по-английски «Москоу ньюс» смешно. Читать в оригинале англичан и американцев? Но все равно лучше Кашкина или Риты Райт-Ковалевой я не смогу прочитать.
— Нет-нет, Райт-Ковалева не смогла перевести «Над пропастью во ржи». Она сделала свой перевод, далекий от духа оригинала. Тема перевода для меня острая. Не будем про это.
— Не будем.
— А как вы уезжали?
— Уехала в 1971 году, чтобы а) перестать наконец мерзнуть, б) избавиться наконец от своего еврейства.
— Что вы понимаете в данном случае под еврейством?
— В России я была ассимилированной еврейкой. Я чувствовала себя гражданином мира. Но мне все время казалось, что когда ко мне хорошо относятся, когда меня любят, то любят, несмотря на то что я еврейка. Ну а где лучше всего избавляться от такого комплекса? В Израиле. И внешне, и внутренне. Внешне получилось. Внутренне нет. Раньше, в Москве, когда я слышала на улице имя Сарра, я ежилась. Мне казалось оно некрасивым, каким-то ущербным. Но сейчас Сарра — это для меня прекрасное еврейское имя.
— Вы почувствовали свободу, оказавшись в Израиле?
— Я не знаю, как пользоваться этим словом. Не знаю, что этот такое. Первые полгода я была просто счастлива. Я как будто стала другим человеком, даже физически. Когда я приехала сюда, мне было тридцать четыре года, мне давали двадцать четыре. Ну а потом для меня началась реальная израильская жизнь. Это сложная на самом деле страна. Скажу так: я прожила здесь полжизни. Я люблю эту страну. Считаю, что евреи должны иметь свое государство. Но — не любой ценой. Нет, я желаю всяческих успехов своей стране, но предпочла бы, чтоб успехи достигались немного по-другому.
— Но тогда, если я вас правильно понял, Израиля просто не будет.
— А его и так не будет.
Я рассказал про свои впечатления от вида нынешней израильской молодежи, которой, похоже, нет дела до эсхатологии, они просто живут и намерены жить всегда и, соответственно, делать все, что для этого нужно. Винер слушала внимательно, не возражала.
Про последнюю русскую алию: «Когда-то это была другая страна — русские евреи в девяностые годы привезли ужасное — спиртное. При нас было только плохое кислое вино, которое употреблялось на ритуальных службах. Тут даже пиво было сладким. А сейчас везде бары, в которых пьют спиртное. Я помню, как по приезде шла по улице и увидела лежащего мужчину. Я прошла мимо. Решила, что пьяный. Я прошла, а все окружающие кинулись к нему. Оказалось, человек упал не по пьяни. Тут другая была жизнь. А сейчас пьют».
Проговорили часа полтора. Плотненько, без вежливых пауз. Было видно, что она устала. В половине седьмого распрощались. Подарила мне книгу своих стихов.
С говорливым таксистом-арабом доехал до Рамота. Позвонил в дверь, открыла Алла, в комнате громко работал телевизор. Алла сказала: «Война. С ХАМАСом. Наши убили ракетой их военного министра».
Телевизор был включен на израильский канал, Леня переводил. Показывали кадры, снятые сверху (спутник?). Картинка черно-белая. Улица, по ней движется в потоке машин вытянутый силуэт легковушки, белый на черном фоне, он обведен красным овалом, легковушка обгоняет два больших силуэта — похожи на автобус и на грузовой фургон, — силуэт легковушки оказывается на относительно открытом пространстве, и в этот момент белая вспышка заливает экран. Потом — кадры, снятые с земли. День, разноцветная улица. На первом плане блестящий новенький, без единой царапинки капот автомобиля, далее, на месте салона, черное обгорелое мятое железо. Вокруг люди, рядом автобус. Мужчина подбирает с асфальта какие-то осколки — то ли машины, то ли ракеты. Чуть дальше за полицейским оцеплением — толпы людей. Это убили лидера боевиков ХАМАСа Ахмеда Джабари. Леня переводит диктора: «В машине был также и его сын. Похоже, он тоже погиб». То есть стопроцентно убит, судя по тому, что на экране.
Следующий сюжет: жиденькая толпа палестинцев, традиционно протестующих осенью против поселенцев на Территориях; бросают в израильских солдат камни. Тут же — европейские леваки. В толпе уже кричат про мученика веры несчастного Ахмеда.
Пресс-конференция Нетаньяху, он краток: делаем все, чтобы защитить жителей нашего юга. Более миллиона израильтян сейчас в поле поражения. Спасибо им за мужество.
Репортажи из находящихся уже четвертый день под обстрелом Ашдода, Ашкелона, Беер Шевы. Красно-желтые кадры. Освещенные фонарями куски асфальта, деревья, стены домов — ни людей, ни машин. Люди не выходят из домов.
Информация об обстрелах сектора Газа: уничтожаются склады ракет, способных лететь далее сорока километров.
Студия: какой-то генерал и комментаторы. Говорится о том, что заседание правительства произошло накануне, решение о начале операции было принято, но не оглашалось: Нетаньяху продолжал говорить о режиме ожидания, президент поехал на Голаны — это, как я понял из Лениных комментариев, было формой дезинформации, чтобы палестинцы не были готовы сегодня к решительным действиям Израиля.
На экране министр обороны Барак, официальное извещение: мы начали операцию «Амуд анан» («Облачный столп»). Ее цели: сломить агрессивность боевиков, уничтожить ракетный потенциал в секторе Газа, уничтожить лидеров террористов.
14.35 (Моше Яним)
Вместо того чтобы идти сегодня в университет с Мириам, как было запланировано, гуляю по городу. Мириам позвонила и сказала, что в университете назначено землетрясение, и ей предписано проводить учения, то есть учить студентов, по каким лестницам и в каком порядке следует эвакуироваться. Экскурсия моя в университет откладывается на неделю. Но боюсь, что теперь, из-за войны, ее вообще не будет.
Неожиданно исполнил свою мечту — года три назад Леня прогуливал меня по какому-то замечательному району на склоне горы, который (склон) были наполовину городом, наполовину парком, а точнее лесом с поляной, и посередине поляны был деревянный стол; оттуда открывался вид на Старый город. И потом в Москве мне вспоминалась эта поляна, и слюнки капали от мысли приехать в тот лес-парк на целый день с ноутбуком, посидеть за тем столом в одиночестве, пописать с натуры.
Закончив записывать в кофейне вчерашний день, я прошел по улице Соломона вниз до конца, потом по какой-то улочке вышел на широкую улицу с монастырем на другой ее стороне. Перешел ее, ориентируясь на высокую четырехугольную с круглым куполом башню над крышами, похожую отчасти на минарет, и оказался на не слишком широкой старой зеленой улице. Слева от меня все та же минаретная башня, напротив нее через улицу могучее здание, монументальностью своей напоминающее московские комоды тридцатых годов. Справа от этого монстра тянулся сад, я вошел в него и оказался в том самом лесу-парке с видом на Старый город, о котором мечтал. Только лес этот был все же больше парком, и не таким безлюдным, как мне представлялось. Скорее наоборот. Стол из моих воспоминаний стоял там же, где и ему полагалось, только заставленный пластиковыми бутылками и тарелочками с едой, вокруг носилась орда старшеклассников. По дорожкам прогуливаются парочки. Солнце косое, свет яркий, тени. Молодые и не слишком молодые люди. Музыка из транзисторов. Гогот подростков. Короче, праздник жизни.
Ну а как же война, которая уже идет?
Поскольку за стол сесть не удалось — для этого сюда, видимо, утром надо приезжать, — я выбрал на склоне свободную скамейку с видом на Старый город.
Я в Мишкенот Шаананим, он же — Моше Ямин.
Под ногами плиты каменной дорожки. Надо мной олива с узкими листьями, как бы чуть запыленными солнцем. Моя тень на камнях у ног. И тени от деревьев, стекающие по разлинованному ими склону вниз. Трава на склоне густо-зеленая в тени и чуть белесая, осенняя уже — на солнце. Скользящий вниз взгляд упирается в светло-серый, почти белый сейчас низкий каменный парапет. За парапетом, почти вровень с ним черепичные крыши старинного квартала, который изначально был пригородом старого Иерусалима для неимущих, потом, в середине прошлого века, — местом обитания местной богемы, тех же полунищих художников, ну а сейчас это, возможно, самый дорогой, самый респектабельный жилой район города, район-сад с узкими улочками, образованными из старинных каменных домиков, превращенных в виллы, это я помню по той давней прогулке с Леней. Над крышами несколько стрел кипарисов и вдали, за ложбиной — Геенной Огненной — стены на вершине горы стены Старого Иерусалима. Вернее стена. Плоское панно. Глухое почти, с вертикальными тенями выступающих из нее башен. А сверху бледное, цвета выбеленной бирюзы небо. Правее — гора Сион с Успенской церковью. Та самая гора Сион.
Это пафосная часть пейзажа. Так сказать, иерусалимское раздолье. Природное и архитектурное, хотя здесь отделить одно от другого невозможно.
По дороге на гору вдали разноцветной лентой — дробно, пунктиром — поднимающаяся из Геенны Огненной группа экскурсантов.
Девочка что-то кричит кошке, которая неторопливо — привыкла — поднимается вверх по склону на мою дорожку.
Две вороны ковыляют на склоне. Какие-то они громоздкие здесь.
19.25 (у Прайсманов)
У Лени с Аллой гостья, берет интервью у Лени как одного из знаменитых репатриантов начала восьмидесятых. Зазвонил телефон. Трубку взяла Алла.
— Ты врешь, — крикнула она в трубку и повернулась к Лене: — Тель-Авив обстреливают!
Включили телевизор на русском канале. Раненых и убитых нет.
На экране хроника дня — вспышки запусков ракет.
Сбили семь палестинских ракет.
Потом прямой репортаж с улиц ночного уже Тель-Авива. Улицы полупустые.
Ракета из сектора Газа упала вроде бы в море. По городу не попала ни одна.
16 ноября
11.32 (у Прайсманов)
Утро провел дома. Смотрел ТВ, стирал. Леня уехал по делам. В час едем гулять по городу.
По ТВ: ночь прошла относительно спокойно. 17 ракет. Две долетели, остальные сбил Железный купол, долетевшие взорвались возле зданий, но никаких жертв и раненых. Израиль готовится к наземной операции, перебрасывают войска. Объявлен призыв 16000 резервистов. Сейчас обстрел слегка притих. Палестинцы немного стреляют, израильтяне нет — в сектор Газа с визитом солидарности прибыл премьер-министр Египта, на три часа. Возможно, договариваться с палестинцами, чтобы они не очень взбухали. Чтобы не было большой войны. Обама, типа, очень просит. А им, египтянам, надо же как-то отрабатывать крупу, которую им Штаты отсыпают.
В перерывах перед рекламой по ТВ показывают ролик, как вести себя во время ракетного обстрела: в бомбоубежище следует бежать, только если вы уверены, что успеете добежать. Лучше всего закрыться в специальной защищенной комнате. Или сесть на пол в любом помещении без окон на улицу. Спуститься на пару этажей по лестнице и сесть там на пол подальше от окон. Если сигнал тревоги застал вас на улице, то укрытие нужно искать в подъезде ближайшего дома.
Инструкции идут так плотно, что я уже выучил все наизусть.
Завтра приезжает в сектор Газа премьер-министр Туниса. Опять Израиль прекратит обстрел. Европа держится отстраненно.
Убито 19 человек в секторе Газа.
22.18 (у Прайсманов)
Гуляли по городу. Алла с Леней устроили мне экскурсию. Машину оставили возле площади Франции. Далее пешком.
Перешли площадь через сквер. В сквере группа молодежи, паренек стоял с плакатом прямо на проходе. Леня выматерился: опять леваки! Когда мы приблизились, Леня сказал ему что-то. Парень промолчал.
— Что у него на плакате, Лень?
— Написано «Еще одна плохая война для Израиля», в смысле позорная война. Я сказал ему «Сукин сын». Ничего. Возражений не последовало.
Гуляли все по тому же Моше Ямин. Узкие улицы из одно— и двухэтажных домиков-вилл, образующих единое тело, лестницы с яруса на ярус — кварталы на склоне. На нижних улицах низкие каменные оградки, за ними зеленые дворики, как продолжение — пространство комнаты, в которую мы смогли заглянуть через распахнутые двери; ну а улочка, по которой мы идем, как продолжение этих двориков. Абсолютно приватное пространство. С неимоверным количеством зелени — сосны, пихты, оливы, пальмы и пальмочки, банановые деревья, лавры, эвкалипты, агавы, алоэ, цикламены, герани и проч. и проч. Леня с Аллой не знают даже половины названий этих растений.
Алла перевела мне надпись на камне, стоящем в крохотном посреди улочки сквере-клумбе со стволиком кипариса, цветущим кустом и тремя рядами разных цветов: «Семкин сад». Рядом каменное крылечко старого дома, из которого в трех десятках сантиметров от входной двери встает могучий ствол старого эвкалипта. Каменные стены по краям широких лестниц, по которым мы спускаемся с яруса на ярус, затянуты вьющимися растениями. Город-сад.
Со стороны Старого города через ущелье Геенны, в которое мы спускаемся, время от времени доносилась стрельба. То частая и гулкая — из автоматов, то — отдельные отрывистые хлопки. Слышно хорошо. Там сегодня пятничные службы у мусульман, а поскольку страна на особом положении, власти с утра объявили, что допуск к Храмовой горе будет ограничен по возрасту и по гражданству, то есть — только по израильским паспортам. Судя по звукам из Старого города, там что-то серьезное.
Из парка вышли на улицу Кинг Давид, к тому монументальному, хотя в нем всего шесть этажей, но именно монументальному зданию, которое я снимал накануне. Оказалось, что это и есть то самое здание отеля «Кинг Давид», где в тридцатые-сороковые годы располагалась штаб-квартира британской администрации, а также французское консульство, и, соответственно роскошный по тем временам отель этот был местом официальной и неофициальной тусовки дипломатов и журналистов. Именно в этом здании произошел знаменитый теракт еврейских боевиков из «Иргуна» в 1946 году, после того как англичане наехали на еврейские киббуцы по всей Палестине и провели массовые аресты членов «Хаганы». Взрывчатку пронесли «молочники» в молочных бидонах, установили в подвале кафе, расположенного у подножия британского сектора здания, затем позвонили по телефону в полицию, в газеты и непосредственно в английскую администрацию с сообщением о том, что через полчаса произойдет взрыв, и предложили начать эвакуацию людей. Французы тут же стали выводить своих людей, англичане проигнорировали, сказали: мы не подчиняемся евреям. В результате погибло восемьдесят человек.
Здание это по-прежнему отель, один из самых старых и респектабельных. Мы зашли. Желто-мраморный холл с могутными квадратными колоннами, с коврами на полу, свет из огромного окна и от люстр-плафонов. В углу — концертный рояль. Мы устроились в мягких креслах вокруг стеклянных (знак уже сегодняшнего времени) столиков в холле, полистали взятые со стойки ресепшен буклеты и туристские карты Иерусалима. Неподалеку в кресле у колонны, выпрямив спину, сидела моложавая женщина с мальчиком — кого-то ждали, видимо отца семейства, задержавшегося в номере. На женщине был строгий серый пиджачок-жакет и такая же светло-серая шляпка с узкими полями, и я окончательно почувствовал себя в нуаровском фильме сороковых годов.
Потом поехали искать место для ужина, все рестораны закрыты — вечер пятницы, начался шабат.
Доехали до центра, начали подниматься к улице Яффы по проулочкам-дворам, уставленным ресторанными столиками. Народу почти нет. То ли холодно, то ли еще рано для вечерней жизни. Леня с Аллой выбрали ресторан. Уютно и даже как бы тепло от желтых ламп и завешенных графикой и фотографиями стен. Играет музыка.
Нам принесли три монументальные папки с листами меню, и когда мы открыли их, Леня вдруг вскинул голову, и Алла тоже напряглась, ну а меня немного удивила странная аранжировка мелодии из усилителей — в музыку вплелось какое-то монотонное навязчивое пиликанье.
— Азака? — спросил Леня стоявших неподалеку официанток.
— Кен, — удивленно ответили ему.
— Да не может быть!