Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией Абашин Сергей
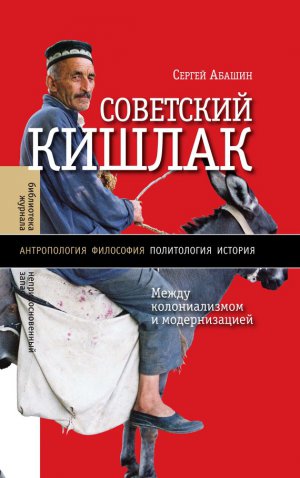
Введение
В ПОИСКАХ ОБЪЯСНЕНИЯ
У этой книги долгая и трудная история. Она была задумана давно. Еще в 1995 году, получив грант Фонда Веннер-Грен (The Wenner-Gren Foundation), я провел почти полгода в Ленинабадской (ныне Согдийской) области Таджикистана, где бльшую часть времени жил в узбекском кишлаке Ошоба, а часть времени собирал всевозможные сведения об этом кишлаке в архивах областного центра Ходжент и районных центров Канибадам и Шайдан (Илл. 1, 2). В 1997 году я продолжил сбор сведений в архивах Душанбе и Ташкента, а в 1998 году – в областных архивах Ферганы и Намангана1. Разного рода материалов – публикаций, документов, интервью, наблюдений – набралось много, но что с ними делать, признаюсь, я представлял плохо. Я совершенно не знал, какой вопрос должен задать себе, какую проблему могу увидеть в своих материалах, с каким теоретическим аппаратом и понятийным словарем буду описывать то, что видел, слышал и читал. Почему так случилось?
Мое становление как ученого происходило в рамках позднесоветской исторической и этнографической традиции, где господствовала догматическая версия марксизма. Конечно, внутри этой традиции существовали разные направления, между представителями которых шли порой ожесточенные дискуссии, что открывало некоторое пространство для свободомыслия. Кроме того, в университете преподавали зарубежную историографию, а некоторые западные книги даже переводились на русский язык (почти потрясением стала для меня, например, книга британского антрополога Эдварда Эванса-Причарда «Нуэры», которая была переиздана в СССР в 1985 году!2) – все это позволяло увидеть краем глаза или хотя бы представить, чт происходит (точнее – происходило) «там», в несоветской науке.
Илл. 1. Карта Таджикистана
Илл. 2. Карта Аштского района Согдийской области Таджикистана
На рубеже 1980—1990-х годов идеология, которая определяла теоретический язык исследований, была полностью дискредитирована, писать в прежней манере стало немодно и неинтересно, да и недостатки старых концепций сделались очевидными. Значительная часть предыдущего опыта обучения и чтения, обсуждений и размышлений оказалась в новой ситуации не нужна молодому ученому ни для получения грантов (главного финансового источника выживания после краха СССР), ни для налаживания научных контактов в открывшейся для советских граждан глобальной науке. И главное – я сам в какой-то момент испытал разочарование в прежних идеях, оно накапливалось на протяжении моей учебы в университете, где схоластика, изучение отвлеченных, оторванных от жизни схем было превалирующим занятием. Большую роль в усилении таких настроений сыграли первые опыты полевой этнографии в 1988—1991 годах, когда на протяжении четырех лет я ежегодно по два-три месяца в одиночку или с российскими и узбекскими коллегами проводил исследования в разных кишлаках Ферганской области Узбекистана. То, что я видел и испытывал тогда, оказалось трудно передать с помощью понятий, которым я был обучен. В этом общем контексте сформировалось убеждение в необходимости радикальной смены приоритетов и теоретического языка.
В 1990-е годы появился более широкий доступ к идеям других научных школ, теориям и дискуссиям, имевшим место за пределами бывшего СССР, но это мало что меняло. Во-первых, в силу ограниченности моей языковой компетенции и невозможности получать необходимые книги и статьи на руки (библиотеки просто перестали комплектоваться новой литературой, да и старый набор был далеко не полным) этот доступ к мировым знаниям был весьма относительным. Во-вторых, самому сориентироваться в огромном море авторов и текстов, понять, как они соотносятся друг с другом, какие направления представляют, каковы тенденции научной актуальности, было крайне сложно. К тому же действовал эффект переводов: тех же Фуко и Бурдье, ссылку на которых сегодня можно найти во многих российских работах, очень быстро и в большом количестве перевели на русский язык, сделали доступными, поэтому их понятийный словарь и подходы усваивались в первую очередь, иногда без учета той критики и того контекста, которые работы этих авторов имели на Западе.
Все это вместе не давало никакой внутренней уверенности для того, чтобы приступить к разбору полевых и архивных материалов по Ошобе. Книгу пришлось отложить. Это объясняет, почему между началом исследования в 1995 году и активной стадией написания настоящего текста – такой большой временной разрыв.
Более десяти лет ушло у меня на другие проекты, связанные, в частности, с проблематикой национализма3. Все эти годы я занимался – и продолжаю заниматься, – по сути дела, самообразованием, стараясь хоть как-то восполнить свои представления о современных социальных концепциях и исследованиях, читая новые книги и статьи и непосредственно общаясь со многими зарубежными коллегами, которые в те же 1990-е и 2000-е годы начали интенсивно изучать бывшее советское пространство. В самой России за это время появились ученые и целые направления, которые пытались предложить новое осмысление российской/советской/среднеазиатской истории и этнографии.
Вернуться к книге об Ошобе я решил только в 2009 году, когда получил возможность в течение пяти месяцев работать в Центре славянских исследований в японском Университете Хоккайдо, где смог наконец получить полноценный доступ к современной литературе. В 2010 году я продолжил работу в архивах Ходжента и Канибадама, а также побывал в Ошобе, где за девять дней успел собрать много дополнительной информации. В частности, мне удалось сделать много фотоснимков архивных дел, видов кишлака и личных фотографий – в 1995 году я был лишен такой технической возможности. А кроме того, я собрал некоторую информацию о том, что произошло в кишлаке за прошедшие пятнадцать лет.
Возвращение к книге спустя такой значительный срок изменило мои первоначальные цели. Конечно, момент распада советского строя и начало другой эпохи, перестройка экономики и социальной жизни, новые конфликты, новые идеи, новые действующие лица – все это само по себе очень интересно. Но сугубо антропологический фокус на сегодняшний день потерял какой бы то ни было смысл, так как события и вообще ситуация, которые имели место в начале 1990-х годов, уже сами превратились в историческое прошлое. К тому же в 1995-м я собирал материал, наверное, по инерции, главным образом о советских реалиях, распад же прежней эпохи я скорее переживал, чем изучал. Поэтому в итоге моя книга стала превращаться в работу историко-антропологическую, посвященную скорее не постсоветскому времени, а советскому и даже, когда материалы это позволяют, досоветскому.
Изменение замысла диктовалось или облегчалось и тем обстоятельством, что в последние десять—пятнадцать лет можно было наблюдать значительный рост интереса к имперской и советской истории Средней Азии4, чего нельзя сказать об антропологическом изучении постсоветского периода, результаты которого пока остаются весьма скромными (хотя и здесь в самые последние годы, кажется, происходят сдвиги). Развернувшиеся дискуссии об особенностях российской имперскости, о природе советского строя, об итогах трансформаций в XIX—XX веках, произошедших в различных сферах (ислам, положение женщины, национализм, колхозная экономика), создали такие рамки, в которых можно выбирать ту или иную позицию, отстаивать ее или опровергать, применять различные теоретические схемы, ставить новые вопросы и вести осмысленный диалог. Именно поэтому, видимо, немалое число антропологов, занимающихся постсоветским пространством, пишут сегодня на исторические темы. Я также решил пойти по этому пути.
В фокусе моих интересов будут понятия, которыми обычно описывается и характеризуется среднеазиатское общество, – традиционное/нетрадиционное, модернизированное/немодернизированное, советское/несоветское, колонизированное/неколонизированное. В основной части книги я покажу, как неоднозначно эти понятия соотносятся с фактами и свидетельствами, собранными мной в Ошобе. Такая задача требует, конечно, каких-то теоретических рамок и отсылок к ведущимся на более широком научном поле исследованиям и дискуссиям. Во введении я попытаюсь прочертить эти рамки, чтобы было ясно, под каким углом зрения я рассматриваю и анализирую свой материал, – кратко, опираясь на историографию, я попробую показать проблемность перечисленных выше понятий, споры, которые они вызывают, и направления поисков, которые ведутся, чтобы оправдать и обновить их либо отвергнуть.
Традиционность
Краткий анализ идей, обсуждаемых в книге, начну с советских корней. Разумеется, я не претендую на полное и подробное описание разных мнений и вопросов, а затрону лишь те, которые, как мне кажется, оказали влияние на мои собственные размышления об Ошобе.
Описывать советский язык постановки и обсуждения тех или иных проблем непросто. Дело в том, что он существовал и менялся в особом политическом и идеологическом режиме, который предъявлял довольно жесткие требования к тому, чт и как говорится, подвергал сказанное и написанное внимательной цензуре. В этом режиме дискуссия часто велась полунамеками, подчеркнуто марксистская риторика могла скрывать не вполне марксистские предпочтения, да и вообще все имеющиеся разногласия, которые могли проявляться в устных диспутах, не находили своего отражения в литературе. Здесь мне отчасти помогает не только внимательное чтение советских книг и статей, но и своеобразное включенное наблюдение, то есть личное знакомство со многими советскими исследователями, беседы с ними, знание академической повседневности. Взгляд изнутри дополняет тексты, позволяет увидеть в последних то, что иногда осознанно или неосознанно в них пряталось, говорилось иносказательно, а это дает, как мне кажется, более полную и точную картину состояния умов ученых в советские годы.
Пожалуй, самая сложная для советских этнографов проблема состояла в том, как писать о современности. Эта общая проблема включала в себя множество частных вопросов: с какого времени заканчивается не-современность и начинается современность, какие признаки считать несовременными или современными? Не буду вдаваться в подробный анализ мнений по всем этим пунктам, а остановлюсь кратко лишь на понятии пережитков, вокруг которого разворачивались дебаты среди ученых, писавших о Средней Азии.
Изначально понятие «пережитки» использовалось, чтобы реконструировать прошедшие стадии исторического развития, и подразумевало своего рода артефакты срони археологическим, которые затерялись где-то под толщами земли, утратили свое прежнее значение и которые надо раскопать и с их помощью узнать о том, что было когда-то, в исчезнувшие эпохи. Такой взгляд приводил к интересному эффекту: в некоторых местах обнаруживались огромные залежи подобных артефактов-пережитков, поэтому делался вывод, что кое-где прошлое сохраняется по сей день, а пережитки являются действующими элементами социальной жизни. Эти места прошлого локализовались на тех или иных территориях, в различных социальных группах и культурах, а путешествие этнографа, предпринятое для их поисков, воспринималось и описывалось как путешествие из настоящего в глубь веков. Средняя Азия принадлежала, с точки зрения российских ученых, именно к таким местам.
Такое положение дел сохранялось еще в 1930-е годы, когда этнографы воспринимали среднеазиатские общества как отсталые. Классические работы того времени так и назывались: «Следы первобытного коммунизма у горных таджиков Вахио-боло» и «Патриархальная домашняя община и общинные дома у ягнобцев»5. Советский этнограф Александр Кондауров, проводивший исследования в 1934—1935 годах в Ягнобе (высокогорной области Таджикистана), так формулировал свою цель: «…изучение тех остатков предшествующих стадий общественного развития ягнобцев, которые еще можно засвидетельствовать в настоящее время или о которых можно говорить, что они существовали в недавнем прошлом…»6. При этом понятие пережитков оставляло поле для маневра – их всегда можно было объявить содержанием или формой, сутью или оболочкой, в зависимости от личных предпочтений либо идеологических требований. Тот же Кондауров утверждал, например, что прошлое в настоящем как бы уже и не совсем прошлое: при феодальном строе та же община уже не была настоящей первобытной общиной, а служила «оболочкой для эксплоатации трудящихся», большие же домохозяйства при социализме («в эпоху великой Сталинской конституции») перестали быть «патриархальными общинами в собственном смысле слова»7.
Похожую манипуляцию с понятием пережитков демонстрировали так называемые колхозные монографии 1950—1960-х годов8. По Средней Азии таковых было шесть, в том числе одна по Таджикистану и две по Узбекистану9. В исследованиях принимали участие не только московские и ленинградские, но и среднеазиатские этнографы – иногда в качестве помощников-аспирантов, иногда в качестве соавторов.
Язык, которым были написаны книги в 1950-е годы, отличался демонстративными проявлениями идеологической лояльности, большим количеством цитат из произведений классиков марксизма и партийных лидеров, многочисленными лозунгами, прославляющими достижения советской власти. Вот, например, как это выглядело в узбекской монографии, авторами которой были замечательные этнографы Ольга Сухарева и Муршида Бикжанова: «…история селения Айкыран и образовавшегося в нем колхоза им. Сталина отражает победу ленинско-сталинской национальной политики нашей партии. Она показывает в подробностях грандиозную перестройку всей жизни и быта узбекского народа, вызванную Великой Октябрьской социалистической революцией…», и далее: «Главной задачей, которую поставили перед собой авторы настоящего труда, было выявление черт, порожденных эпохой социализма, в быту и культурном облике современного сельского населения. Мы старались показать, как эти новые, прогрессивные черты складываются в борьбе с пережитками феодального прошлого, особенно живучими в области идеологии…»10.
Издание колхозных монографий сопровождалось жаркими спорами, в которых, благодаря постановке вопросов методики и методологии, обсуждалось, как нужно смотреть на среднеазиатское общество, каким его видеть. Толчком к спорам послужило разочарование первыми результатами изучения колхозного крестьянства. Публикации на эту тему выглядели формальными, шаблонными, поверхностными, скучными. Московский этнограф Павел Кушнер выступил со статьей11, в которой провозгласил, что причиной неудачи или тупика является несовершенство методики полевых исследований. Вместо анкетных опросов и разведок он предложил шире использовать стационарный метод исследования с длительным проживанием в поле и с практикой наблюдения за тем, что происходит в жизни изучаемого общества. Другим направлением критики Кушнера стал тот факт, что этнографы слишком много внимания уделяли истории колхоза, организации колхозного производства, разного рода цифрам по колхозной экономике, тогда как «национальная специфика» культуры и быта проходила мимо их внимания. Он выступил за отказ от «экономизма» и за изучение «народной жизни в ее бытовых проявлениях»: «Разве социалистическое сознание колхозников формируется только под влиянием колхозной экономики?»12 Кушнер предложил, в частности, поставить в центр изучения не колхоз, а селение, мотивируя это тем, что не все сельские жители являются членами колхоза и что жизнь людей не сводится только к колхозной жизни.
Этнографы, поддержав стационарные исследования13, высказали, однако, и опасения, что «…частные, местные явления… могут быть ошибочно признаны общими для республики и народа…», поэтому «…как бы ни был типичен избранный для работы колхоз, его нельзя исследовать обособленно»14. Что же касается предложения Кушнера отказаться от изучения колхозного производства, то оно встретило возражения15. Кто-то критиковал ученого за «бытовизм» и настаивал на том, что этнографы обязательно должны изучать экономику, так как все стороны жизни тесно связаны между собой. Кто-то был против того, чтобы противопоставлять колхоз и село, поскольку колхоз сливается с селом, да и сам колхоз – это не только производственный, но и «общественно-политический» коллектив. Кто-то, наконец, писал, что недостаточно обращаться к памяти и восприятию людей – нужно работать и со статистикой, архивами, анкетами, чтобы составить полное представление об обществе.
К концу 1950-х годов характер критики колхозных монографий изменился: если раньше их авторов обвиняли в том, что они преувеличивают значение пережитков, то теперь был выдвинут противоположный упрек – в том, что они скрывают многие недостатки, показывают жизнь приукрашенной, без проблем и «отрицательных сторон колхозной жизни», замалчивают существование социальных противоречий в обществе16. Это изменило взгляд ученых, которые задались вопросом, почему пережитки сохраняются. Пожалуй, наиболее углубленно на эту тему среди этнографов размышлял Глеб Снесарев17.
Снесарев резко выступил против тех, кто отвергал наличие пережитков: «Оспаривать наличие этих пережитков и степень их отрицательного влияния на некоторую часть населения нашей страны могут только те, кто стоит в стороне от жизни, не сталкивается с окружающей действительностью»18. Он считал, что поскольку внимание к пережиткам ослабло, то сложилось мнение, что они лишились прежнего значения и быстро отмирают, хотя «дело обстоит значительно сложнее». Ученый полагал, что надо не только раскрыть «подлинную картину их бытования», но и установить причины сохранения тех или иных пережитков до наших дней, при этом, по его словам, «было бы неверным искать какую-то единую, универсальную, все объясняющую причину этих явлений. Причины могут быть различны у разных народов, в разных слоях населения, у лиц разного возраста, наконец, – в женском быту»19.
Снесарев разделил причины сохранения пережитков на общие и специфические. К первым он отнес «отставание сознания от развития производительных сил и производственных отношений», Великую Отечественную войну и ее последствия, влияние капиталистического окружения, недостатки культурно-воспитательной работы. Во вторые – специфические – московский этнограф включил культурную отсталость женщин и изоляцию быта семьи, «одной из наиболее консервативных ячеек общества»20. Другой специфической причиной было существование общественного мнения и общины: Снесарев подчеркнул, что «реликты общины занимают, несомненно, одно из первых мест» среди причин сохранения религиозных пережитков, «…элат с его замкнутостью, с особым внутренним укладом, построенным на старых традициях, с влиянием группы стариков является той ячейкой, в которой консервируются пережитки прошлого»21.
Что касается последнего пункта про общину, то Снесарев не пояснял, как, собственно, сама эта община смогла дожить до 1950-х годов. Но на эту тему еще в далеком 1949 году высказывалась московский этнограф Татьяна Жданко, которая обнаружила, что у каракалпаков родовая организация по-прежнему играет заметную роль в колхозной жизни, а колхозные бригады представляют собой по сути родовые подразделения22. Похожие наблюдения сделала ленинградский этнограф Роза Рассудова, которая в последней колхозной монографии, изданной в 1969 году, недвусмысленно писала о том, что узбекские колхозы в окрестностях Самарканда формировались и развивались на основе общинных структур, общинные же интересы совпадали с колхозными23.
В конце 1980-х к проблеме пережитков в среднеазиатском обществе возвращается еще один московский этнограф – Сергей Поляков. В 1989 году он издал небольшую книжку «Традиционализм в современном среднеазиатском обществе»24. Следуя логике Снесарева, Поляков объявил, что книга посвящена традиционализму, и дал определение этому явлению: «“традиционализм”, “традиционное общество” – это полное отрицание чего-либо нового, привнесенного извне в привычный, “традиционный” образ жизни. Традиционализм не просто выступает против нового. Он активно требует постоянной корректировки образа жизни по старой, изначальной или “классической” модели»25. При этом он критиковал понятие пережитков: «К сожалению, исследования современного традиционализма не всегда дают реальную картину <…> Помимо несовершенства, а чаще и просто негодности методов сбора первичной информации (анкетирование), неприемлема в подавляющем большинстве исследований и методологическая основа понимания явления. Оно трактуется и оценивается только как пережиток ранних форм общественного сознания, что и влечет за собой дезинформацию на всех уровнях о реальном значении традиционализма в среднеазиатском обществе. Только пережитком, в марксистском понимании этого явления, он никогда не был. Традиционализм всегда выступал как отражение социально-экономического строя, как образ жизни, основанный на специфической хозяйственной структуре»26.
В отличие от других своих коллег, в том числе Снесарева, Поляков видел в советской Средней Азии не отдельные фрагменты несовременности, а внутренне целостное несовременное общество, включающее в себя все основные элементы такового: общину, семейно-родственную группу, мужские объединения. Эти элементы, в свою очередь, опираются на «мелкобуржуазное производство», иначе говоря, на теневую экономику, которая дает основные источники доходов для местного населения. Все это и составляет суть того социального строя, который существовал в регионе в советское время, тогда как политические институты и идеология являются лишь прикрытием, формой без содержания. Такова была логика его интерпретации.
Сходную с точкой зрения Полякова позицию в конце 1980-х годов разделяло, пожалуй, большинство советских этнографов и специалистов в других дисциплинах27. Например, в статье С.В. Чешко «Средняя Азия и Казахстан: современное состояние и перспективы национального развития», которая появилась в том же 1989 году, также говорилось, что преобразования советского времени не привели к разрушению прежних, досоветских структур и отношений: «Патриархально-общинный уклад модифицировался в своеобразный колхозно-общинный уклад с чертами крепостной зависимости»28. При этом автор подчеркивал, что коллективизация способствовала «…консервации и воспроизводству патриархально-общинных и феодально-патриархальных форм социальной организации», тогда как индустриализация «проводилась преимущественно на базе местного европейского населения <…> и мало затронула коренное сельское население»29.
Упомяну еще две статьи, которые были опубликованы в журнале «Восток» в 1991 году: Юрия Александрова «Средняя Азия: специфический случай экономической слаборазвитости» и Валентина Уляхина «Многоукладность в советской и зарубежной Азии»30. Хотя эти авторы не занимались изучением Средней Азии, а были специалистами по зарубежным странам, хотя оба они были экономистами, а не этнографами и хотя, наконец, их статьи вышли в последний год существования СССР, когда критика советского строя была нормой, – названные статьи демонстрируют те точки зрения и те способы мыслить, которые сформировались в советское время и, очевидно, прятались за разными жанрами эзопова языка. В обоих текстах, написанных под явным влиянием упомянутой выше книги Полякова, Средняя Азия описывается через аналитическую рамку третьего мира.
Александров ввел для характеристики среднеазиатской экономики понятия слаборазвитости и периферии. Автор говорил о «централизованном перераспределении», о «мощных центрах частных интересов и давления», которые в советской экономике доминировали и подчиняли себе все другие хозяйственные секторы. Хлопковая монокультура, основанная на принудительном труде в колхозах, превратилась в самодостаточное монопольное производство, которое утратило связь с задачами развития Средней Азии. Александров прямо сравнивал среднеазиатскую экономику с прежними колониальными порядками в Индонезии, где голландцы развивали сахарные плантации, консервируя местные традиционные социальные структуры, и называл среднеазиатское общество квазисовременным31. Правда, исследователь избегал того, чтобы называть советскую Среднюю Азию колониальной, хотя фактически описывал ее именно в качестве таковой.
В статье Уляхина использовалось понятие многоукладности, которое восходит к работам Ленина о переходе к социализму32, – очень популярное в 1960—1970-е годы в качестве объяснения происходивших в третьем мире процессов. По мнению автора, «модернизация по-советски, узко понимавшаяся как индустриализация по преимуществу» не смогла создать целостную экономическую систему отношений, «регион оказался неподготовленным к привнесенной извне индустриализации», поэтому здесь сохранились другие общественно-экономические уклады, в первую очередь «органичное для Средней Азии» мелкое производство и социальная структура «доиндустриального прототипа»33. Однако, рассуждал автор, в советское время различным укладам не была предоставлена возможность постепенного развития и власть пыталась искусственно насадить крупнопромышленный государственный уклад, что и создавало в среднеазиатском обществе проблемы, дисбалансы и тупики. Пафос статьи заключался в том, что нужно отказаться от политики навязывания многоукладному обществу какой-то одной модели, предоставить всем формам хозяйствования легальный статус и обеспечить тем самым подлинную модернизацию.
Итак, советские этнографы – и представители других научных дисциплин – не могли не заметить, что общие вроде бы для всего советского общества трансформации в Средней Азии имели свою специфику. Проводимые властью реформы, которые должны были нивелировать различия, не достигали своей цели – среднеазиатские республики по-прежнему оставались другим/особым миром внутри одного государства. Понятийный словарь, который находился в распоряжении этнографов, позволял им описывать этот мир как «прошлое», которое по ряду причин (их список и являлся предметом разногласий) задержалось в «настоящем», что в итоге логически неизбежно вело к игнорированию вообще каких-либо изменений, а далее – и к отказу среднеазиатам в самой способности меняться. Концепция традиционализма усложняла понимание советского общества, позволяла увидеть в нем многообразие социальных – а также культурных – отношений. Но при этом она заменяла закрашенную в один цвет картину на простую двухцветную схему, в которой две половины – традиционализм и модерность – противопоставлялись друг другу как несовместимые полюса.
Модерность
Мнение о том, что среднеазиатское общество было и остается по существу традиционным, получило в 1990-е годы широкое распространение в российской науке34. Однако остается вопрос, чт с ним произошло или не произошло в советское время, были ли хотя бы какие-то результаты у тех реформ, которые проводились в советскую эпоху, и если были, то каким образом их можно описать и охарактеризовать?
Поляков в статье «Современная среднеазиатская деревня: традиционные формы собственности в квазииндустриальной системе» предложил заменить понятие социализма понятием индустриального общества и рассматривать советское общество как переходное от доиндустриальной «общественно-производственной системы» к индустриальной35. По его мнению, перехода этого не произошло и сложилась квазииндустриальная система, которая на самом деле представляла собой «аграрное среднеазиатское общество уже в сталинской, общинно-крепостнической форме»36. Поляков, таким образом, оставаясь в рамках марксистского языка, пытался как-то подправить его с помощью новых терминов, чтобы описать объект своего исследования.
Российский демограф Анатолий Вишневский в статье «Средняя Азия: незавершенная модернизация» отказался от сложной марксистской терминологии и взял на вооружение простую дихотомию «традиционность/модерность». Вишневский пишет, что вхождение региона в Российскую империю было «историческим поворотом», вовлечением его в модернизационные процессы, хотя «застойность» среднеазиатского общества не была поколеблена, поскольку советская «модель ускоренной экономической модернизации» не была ориентирована на Среднюю Азию и имела там «лишь ограниченное применение»37. В результате модернизация этого региона началась, но осталась, как полагает автор, незавершенной. Хотя изменения привели к усилению «горизонтальных связей» и кризису «локальных интеграторов», в целом, однако, среднеазиатское общество осталось «вертикальным» (иерархизированным, сегрегированным) и сохранило, пусть в скрытом виде, все основные элементы традиционности – общинные структуры, пронизанные родовыми и семейно-родственными связями, ограничение самостоятельности индивида, распределение социальных полномочий «по вертикали». Советская система, по мнению Вишневского, играла при этом противоречивую роль: с одной стороны, она не мешала традиционализму и даже консервировала его, с другой – «несомненно смогла запустить механизм модернизации», но «не сумела довести ее до конца»38.
Теория (или теории) модернизации, в рамках которой Вишневский сформулировал свое понимание среднеазиатских реалий, подвергается ожесточенной критике уже не менее полувека. Значительную часть претензий к ней сформулировал в уже далеком 1973 году Дин Типпс в статье «Теория модернизации и сравнительное изучение обществ: критическая перспектива»39. Он разделил претензии на три группы: идеологические, эмпирические и методологические.
Критика идеологической составляющей заключается в том, что, говоря о будто бы универсальной модерности, сторонники этого понятия за точку отсчета либо за основную модель берут западное общество или даже англо-американское, относя все, что с ним не совпадает, к традиционализму. При этом ими не учитывается в полной мере тот факт, что западное общество, которое само включает в себя разные социальные и культурные типы, сформировалось в конкретных обстоятельствах, не являющихся общими и одинаковыми для всех. В этой схеме заложена, как считал Типпс, возникшая после Второй мировой войны асимметричность отношений между разными странами, где доминирующие силы диктовали подчиненным свои правила и ценности как универсальные. Теория модернизации несет на себе, следовательно, явные черты этноцентризма и идеологической предвзятости.
Эмпирическая критика, о которой писал Типпс, указывает на «несостоятельность взгляда теории модернизации на природу традиции и модерности, их динамики и взаимосвязей»40. Типпс обратил внимание, например, на то, что модерность вряд ли можно анализировать как закрытую систему, в которой разные процессы взаимосвязаны и изменения в одной сфере обязательно ведут к изменениям в других. В действительности можно наблюдать либо параллельную трансформацию тех или иных элементов, либо даже обратное воздействие – когда модернизация одной сферы ведет к традиционализации другой (например, появление новых средств информации приводит к распространению знаний о традициях и их усилению). Здесь можно вспомнить рассуждения британского историка Эрика Хобсбаума об изобретении традиций, которое происходит во всех, в том числе современных, обществах (например, в виде национальных традиций)41.
Типпс также указал, что в дихотомии современность/традиционность возникают сложности с определением выражения «традиционное общество». Последнее определяется как антисовременность, а не через перечисление его собственных характеристик, ему приписывают тотальность и неизменность, тогда как реальные сообщества, которые попадают в категорию традиционных, порой довольно существенно отличаются друг от друга и претерпевали (продолжают претерпевать) разнообразные трансформации. Типпс писал также, что такая дихотомия не учитывает взаимодействия современных и традиционных обществ между собой. Я бы добавил, что до сих пор эти общества рассматриваются как спортсмены на соревнованиях, один из которых вырвался вперед, а другие его догоняют или безнадежно отстают. Типпс говорил, в частности, что общества, прошедшие через колониализм, являются, как правило, гибридными, то есть не модерными и не традиционными42. К понятию гибридности я еще вернусь, когда речь будет идти о (пост)колониальной критике, но сейчас, думаю, уместно вспомнить работы американского социолога-марксиста Иммануила Валлерстайна, который предложил не рассматривать социальный строй каждой страны в отдельности, а исследовать единую миросистему со своими центрами, перифериями и полуперифериями43. В такой перспективе современность и традиционность становятся не изначальными характеристиками того или иного общества, а результатом неэквивалентного распределения власти и ресурсов в рамках мировой экономики. Другими словами, традиционность – это тоже современность, но современность периферии, а не центра.
Наконец, методологический изъян теории модернизации состоит, по мнению Типпса, в том, что она носит излишне обобщающий характер, сводя вместе различные процессы, которые имеют свои собственные объяснения. К тому же то, что называется современностью, обычно связано с нынешним состоянием дел, с тем, как оно видится в настоящий момент, а это придает взгляду телеологический характер. Американский социолог отметил также проблематичность сопоставления современных и традиционных обществ, которая связана с тем, что понятие «общество» применительно к разнообразным ситуациям может иметь разное толкование – речь идет о явлениях различного масштаба и, сооветственно, разных способах анализа.
Вслед за критикой теории модернизации появилось множество попыток переосмыслить феномен модерна. В мою задачу не входят систематизация и критический разбор всех этих позиций; укажу лишь на несколько из них, чтобы показать общее направление рассуждений на данную тему.
Например, британский социолог Энтони Гидденс в книге «Последствия современности» попытался обойти или решить методологические проблемы, на которые указал Типпс44. Вместо обществ он стал рассматривать модусы «дистанциации пространства и времени» как разные способы организации социальных отношений. Отказываясь от исторической телеологии и замкнутой в себе модерности, Гидденс выделил четыре институциональных кластера, которые автономны друг по отношению к другу и вместе определяют содержание современности, – капитализм, индустриализм, надзор и военная власть. Гидденс не отрицал, что модерность является по происхождению западным проектом, но, говоря о поздней модерности, или глобализации, он настаивал, что речь идет о «мировой взаимозависимости и планетарном сознании», в позднюю модерность включены «концепции и стратегии, которые происходят из незападного окружения»45. Предложенная модель сохраняет, таким образом, универсалистскую перспективу для анализа истории и общественной жизни.
Попыткой выйти за пределы этноцентризма стало изучение множественной (полицентричной, альтернативной) модерности. Как писал израильский социолог Шмуэль Айзенштадт, «…процессы, на деле происходившие в модернизирующихся обществах, опровергают унификаторские и гегемонистские предпосылки, характерные для западного понимания модернизации»46. Понятие множественной модерности позволяет различить разные институциональные и идеологические модели, которые являются современными и при этом связаны с особенностями культурных традиций и проделанного исторического пути. Это понятие позволяет также увидеть разнообразных акторов современности, даже если они привержены антизападной и антимодерной риторике, и их взаимодействие. Модерность не равна вестернизации, пишет Айзенштадт, хотя западная модель и является основной референтной ссылкой для остальных моделей. В ряду вариантов модерности он рассматривает советское общество и разного рода колонизированные сообщества, которые заимствовали элементы западной культуры и одновременно создали свои собственные, оригинальные программы и интерпретации модерна, воплотившиеся в разного рода местных идентичностях, коммунальных формах общежития и этикета, религиозных практиках и идеологиях, местных политических институтах и так далее. Тем не менее все эти модели сохраняют «базовые проблемы модерности», которыми, по мнению израильского социолога, являются глубокая рефлексивность, использование медиа, идеологизация и политизация дискуссии о современности, стремление осмыслить реалии «нового глобального контекста», высокая поляризация жизненного пространства, тотальные формы насилия47.
Американский политолог Тимоти Митчелл выражает скептическое отношению к идее множественной модерности, справедливо указывая на то, что если модерность многовариантна, то неясно, в чем ее сила, которая позволяет ей становиться инструментом экспансии и власти48. Митчелл предлагает иную концепцию. По его мнению, те социальные и политические практики, которые называются модерными, сложились как раз не в Европе, а в процессе ее взаимодействия с другими частями света; более того, он указывает, что эти практики зарождались нередко в колониях, а после этого уже переносились в метрополии. Именно в этом взаимодействии, продолжает исследователь, возникали и формировались представления о модерности и европейскости/западности с их претензиями на универсализм, единственность и гомогенизирующий эффект. Модерность производилась как западный мир, тогда как «…мир, лежащий за пределами Запада, должен был играть роль иного и внешнего, которое очерчивает пространство модерна»49.
Развивая свою идею о том, что модерность – это представление и даже своего рода инсценировка, Митчелл подчеркивает: «Модерн, как и капитализм, определяется стремлением к универсальности и однозначности <…> И все же полное единство и полная унификация в его рамках недостижимы. Каждый шаг на пути к модерну должен преумножать его общую глобальную историю, хотя на любом таком этапе возникают отклонения, создающие возможность противоречий, которые, в свою очередь, могут подтачивать единство и тождественность. В таком случае модерн становится не слишком адекватным, но неизбежным термином, описывающим все отклоняющиеся истории подобного типа»50. Иначе говоря, незавершенность – такая же черта современности, как и ее претензии на универсализм, этот разрыв обусловливает сложную игру вокруг категории модерности, с попытками ее присвоения, монополизации или, напротив, отторжения51.
Мне представляется, таким образом, что дискуссии о модерности идут в направлении усложнения понимания самого понятия модерности и способов его применения к тем или иным ситуациям. Парадокс в том, что выставленная оценка – неудача модернизации, неудовлетворенность ее результатами – не означает отсутствия существенных трансформаций, а сама по себе уже является чертой иного, чем прежде, восприятия истории и ценностей. В такой оценке уже заложены отношения, которые связывают между собой различные социальные пространства (называемые «традиционными» и «современными») и создают возможность обмена опытом и влияниями. Следовательно, тот факт, что среднеазиатское общество не стало индустриальным (капиталистическим, рациональным, секулярным и так далее), еще не говорит о том, что оно вообще никак не менялось или что эти изменения не были радикальными. Он скорее говорит о том, что в советском государстве Средней Азии отводилась определенная роль, для нее существовал собственный проект реформ и, соответственно, в ответ возникал свой опыт присвоения модерности.
Советскость
Еще одним источником вдохновения при написании книги стали для меня споры по поводу того, чем было советское время и каким образом нужно его описывать. Опять же, не буду подробно расследовать все нюансы этой дискуссии, а укажу лишь некоторые из поставленных в ее ходе вопросов, которые привлекали мое внимание и как-то пересекались с наблюдениями и размышлениями по результатам моего собственного исследования в узбекском кишлаке.
Один из вопросов я бы сформулировал, наверное, так: является ли советское общество итогом социального эксперимента, осуществленного группой облеченных властью или захвативших ее людей (большевиков или коммунистов), или же советское общество было многослойным конгломератом самых разнообразных классов, групп и сообществ, которые находились в непрерывном взаимодействии друг с другом? Или так: были ли советские люди винтиками советской машины, ее порождением и ее жертвой, либо они существовали как самостоятельные акторы со своими собственными интересами и представлениями, которые могли совпадать с интересами власти, а могли и противоречить им? В этих или несколько других вариациях данный вопрос стал активно обсуждаться среди американских историков в 1970—1980-е годы, что получило известность как спор тоталитарной школы и ревизионистской52.
О позиции ревизионистов можно судить, в частности, по работам американского историка из Чикагского университета Шейлы Фицпатрик. Она отвергает подход представителей так называемой тоталитарной школы, согласно которому советский человек был полностью подчинен абсолютной власти большевиков. Одной из главных тем ее книги «Сталинские крестьяне» становится сопротивление крестьян советскому строю53. Сопротивление в трактовке Фицпатрик – это не обязательно вооруженные восстания и бунты, но еще и работа спустя рукава, мелкое воровство, невыходы в поле, уклонение от работы, бегство из деревни, разного рода слухи, антиправительственные и апокалиптические разговоры, различные способы саботажа, инакомыслия и так далее54. Другая тема – стратегии «активного и пассивного приспособления», «манипулирования» государственными институтами в местных интересах, включая попытки крестьянина «поставить колхозы на службу собственным интересам», восходящим к представлениям об общине (моральном сообществе55): «Бльшую часть всего происходившего в 30-е гг. можно рассматривать как процесс притирания, перетягивания, притяжения и отталкивания…», когда происходили постоянные «своего рода повседневные переговоры и соглашения», в результате которых государство порой шло на уступки, при этом «крестьянин мог привычно ругать колхозы <…> и столь же привычно <…> соглашаться с тем, что колхоз принес ему все мыслимые и немыслимые выгоды, причем ни одна из этих затверженных позиций не могла служить отражением его истинного мнения как мнения отдельного человека, имеющего свой собственный счет прибылей и убытков, принесенных колхозом ему лично, собственные претензии и стремления»56.
Придерживаясь той же логики, в следующей книге – «Повседневный сталинизм»57 – американская исследовательница делает ключевым понятием своего анализа повседневность, не упоминая больше о сопротивлении. Она опять обращается к теме стратегий выживания и продвижения, рассматривая сталинизм (или советский строй в целом) как «целый комплекс институтов, структур, ритуалов, образующих в совокупности среду обитания homo sovieticus»58. Ее внимание соответственно смещается на этнографию советского общества и концентрируется на таких явлениях, как жилье (коммуналки и бараки), торговля и спекуляции, знакомства и связи, блат, новые формы бытового поведения, смена имен, развлечения, привилегии, ордена и знаки почета, спецпереселенцы, бомжи, семейные отношения, аборты, кухонные разговоры, самоубийства и так далее.
В книге «Срывайте маски» Шейла Фицпатрик пишет о формах самопрезентации советских людей59. Это исследование – о создании или, точнее, пересоздании идентичностей и о практиках (чистки, самокритика, доносы), которые сопровождали этот процесс. «Людям предстоит переосмыслить себя, сформировать или найти внутри себя личность, способную жить в постреволюционном обществе. Этот процесс поиска есть одновременно реконфигурация (новая интерпретация знаний о себе) и открытие (новое понимание собственной значимости). Он неизменно требует стратегических решений (“какое место я займу в новом мире?”), а порой стимулирует и глубокую онтологическую рефлексию (“кто же я есть на самом деле?”)»60. Фицпатрик рассматривает советские идентичности как эффекты, сконструированные внешними культурными и социальными порядками и нормами, при этом она употребляет метафору масок или ролей, которые человек разыгрывал в течение жизни, наполненной разнообразными ритуалами.
Книга «Срывайте маски» затрагивает тему, которая оказалась в центре новых дискуссий и провела новый концептуальный водораздел – на этот раз между условно называемыми ревизионистами и сторонниками изучения советской субъективности. Последние – их иногда называют новыми ревизионистами – в какой-то мере развивают идеи предшественников о том, что советские люди были самостоятельными акторами истории, а не марионетками в руках государства, и в то же время критикуют этих предшественников за то, что они превратили советскость в искусственную и поверхностную конструкцию, в маску, которую можно было надеть и снять. Главный тезис этой критики, проистекающий из фукольдианских идей61, состоит в том, что власть – это более сложная и многомерная реальность, которая не локализуется в каком-то определенном месте, а пронизывает собой все представления, действия и практики. Это означает, что концепция противостояния или параллельного существования двух сфер – государственной власти (сталинского/советского режима) и общества – ложная, а это, в свою очередь, означает, что фокус исследования должен смещаться с изучения сопротивления или приспособления в сторону изучения стратегий и тактик освоения советскости, превращений ее в собственное «Я» жителями СССР.
Первым, как считается, сформулировал такой подход американский историк Стивен Коткин в книге «Магнитная гора: сталинизм как цивилизация». Он писал: «Сам большевизм, даже на стадии его вызревания, нельзя рассматривать просто как набор институтов, группу личностей или идеологию. Он всегда представлял собой совокупность наполненных содержанием символов и мировоззренческих установок, языка и новых форм речи, новых моделей поведения на публике и в частной жизни, и даже новых стилей одежды – короче говоря, непрерывный опыт, посредством которого можно было вообразить и воплотить в жизнь новую цивилизацию, называемую социализмом»62. Аналитическим новшеством у Коткина, по сравнению с Фицпатрик, является более сильный акцент на том, как советский строй смог преобразовать человека и общество, как большевики смогли навязать свой язык, заставить или убедить людей «говорить по-большевистски» и «жить по-социалистически», принять ценности революционной утопии в качестве своих собственных. Коткин пишет о том, что советские люди имели «возможность изощренных, хотя и неравноправных, сделок с режимом», могли – до известного предела – «поторговаться» с ним, пытаясь его видоизменить, причем шли на это не только из простого расчета, но и принимая цели режима. Он отвергает попытки рассматривать советское общество в качестве варианта традиционной архаики (морального сообщества), будто бы сохранившейся под советской маской. Для него большевистская программа – вполне модернистский проект, который создавал современное, пусть и со своей спецификой, понимание человеком самого себя как индивида63.
С более, я бы сказал, радикальным желанием пересмотреть прежние подходы к исследованию советского общества выступил другой американский/немецкий историк Йохан Хелльбек, который назвал свою книгу «Революция в моем сознании»64. Радикализм в данном случае заключается в том, что исследователь, используя фукольдианский подход, смотрит на советскость с точки зрения конструирования советской субъективности, советского «Я», которое осмысляется, описывается и создается в личных дневниках (а также в письмах, автобиографиях и так далее). Хелльбек возвращается, в частности, к понятию идеологии, от которого отказались ревизионисты. Он считает, что вместо изучения того, как люди сопротивлялись или приспосабливались к ней, необходимо обратить внимание на то, как идеология «распаковывалась» и «персонализировалась» в индивиде, превращая последнего в осознающего себя в качестве «советского субъекта»65. «Коммунистический проект, – объясняет историк, – может рассматриваться как грандиозный “Я”-проект по превращению несовершенных партикуляристских человеческих существ в универсальных социализированных субъектов»66. Важно уточнить, что это не означает возвращения к тоталитарной модели, поскольку Хелльбек наделяет отдельного человека правом не только слепо следовать идеологической доктрине, но и интерпретировать ее, достраивать, изменять, даже сопротивляться и оспаривать, оставаясь в рамках того понимания модерного «Я», которое было обусловлено советской доктриной67.
Хелльбек свой анализ применяет только к сталинскому или раннесоветскому времени, а о позднесоветском пишет неопределенно как о времени «зрелого цинизма» и «войственного языка»68. Это кажется несколько странным, поскольку именно в 1970—1980-е годы советская субъективность стала способом людей мыслить о себе и окружающем мире, «говорить по-большевистски» (если воспринимать слово «большевистскость» как синоним советскости) стало означать «говорить обыденной речью». Более того, именно в 1970—1980-е годы государство не прибегало к репрессиям, чтобы с помощью насилия заставить гражданина быть советским человеком. Советский человек создавал себя сам, на основе тех дисциплинарных практик, о которых писал Фуко. Этому позднесоветскому парадоксу посвятил свою книгу «Это было навсегда, пока не кончилось: Последнее советское поколение» американский антрополог (родом из Ленинграда) Алексей Юрчак69.
Юрчак не принимает участия в споре между старыми и новыми ревизионистами и не ссылается ни на Фицпатрик, ни на Хелльбека, но его размышления разворачиваются вокруг тех же вопросов, которые обсуждают историки сталинизма70. Как и сторонники модели советской субъективности, он видит проблему в бинарном описании советской действительности (официальная культура и контркультура, официальная и теневая экономика, тоталитарный язык и контръязык, публичная и частная субъектность, реальное поведение и притворство и так далее). Как и сторонники модели советской субъективности, американский антрополог российского происхождения обращается к анализу дискурса и форм знаний, которые не даны в каких-то зафиксированных состояниях, а постоянно воспроизводятся и реинтерпретируются в повседневности.
Алексей Юрчак полагает, что в 1950-е годы, после смерти Сталина, идеологический дискурс претерпел «гипернормализацию» и стандартизацию, в результате чего поиск правильной его интерпретации сменился простым исполнением ритуалов, указывающих на идеологическую лояльность. Поскольку же смысл идеологем стал менее важным, то у людей появилась возможность, сохраняя эту самую лояльность, создавать «новые, непредвиденные смыслы, интересы, виды деятельности и типы существования», которые могли как-то соотноситься с идеологемами, противоречить им или просто находиться в каком-то параллельном сосуществовании с ними. Однако эти практики не были сопротивлением советскому режиму: «Им не обязательно было конфликтовать с политическими и идеологическими установками системы; еще более важно то, что им даже позволялось пользоваться возможностями, ресурсами, положительными идеалами и этическими ценностями, предлагаемыми системой, избегая при этом негативного и репрессивного давления с ее стороны»71. Позднесоветский режим, утверждает Юрчак, создал условия для сосуществования множества различных стилей жизни, которые были одновременно внутри и вне советскости, воспринимались как нормативные и как свои.
Споры о советскости позволяют, как мне кажется, переформулировать проблему традиционности/модерности в проблему производства эмоций, идентичности, лояльности, идеологии, культурных практик, уйдя от жесткого экономического детерминизма, который все еще нередко подразумевается, когда речь заходит об успехах или неудачах произошедших в XX столетии изменений. Была ли, стала ли Средняя Азия «советской» и что это означало, какие смыслы вмещало в себя это определение, какие последствия и эффекты влекла за собой принадлежность к сфере советского? Такого рода вопросы дают возможность перейти от внешней оценки состояния общества к внутренней (само)-интерпретации людьми своего опыта.
Колониальность
Для Фицпатрик, Хелльбека и Юрчака не актуален вопрос об имперской природе советского строя, хотя в их работах постоянно фигурируют ссылки на исследователей (пост)колониализма. Они спорят о природе власти, о том, как последняя реализует свои проекты – с применением насилия или с помощью идеологии, – о способности людей сопротивляться, приспосабливаться, формировать свое «Я» и свои идентичности, находиться одновременно внутри и вне идеологии. В этих исследованиях, за редким исключением72, не ставится вопрос о культурных различиях, о том, как отношения власти преломляются в них. Отчасти это связано, видимо, со спецификой источников – все упомянутые авторы пишут главным образом о России и населении русских регионов, не сравнивая их с нерусскими частями СССР. Возможно, однако, что исследователи не видят какой-то особой колониальной специфики советского строя, а имеющихся в их распоряжении понятий власти, тоталитаризма, сопротивления самих по себе для них вполне достаточно, чтобы описывать реалии советского времени.
Тем не менее в историографии существует отдельное направление, которое занимается изучением советской национальной политики и форм советскости в нерусских регионах. Среди американских историков развернулась дискуссия: являлся ли СССР империей и можно ли отношения между разными частями советского общества рассматривать как колониальные? В качестве примера могу привести две точки зрения по вопросу о советской национальной политике 1920—1930-х годов – Терри Мартина и Фрэнсин Хирш73. Мартин считает неверным называть советское государство империей, имея в виду классические империи XIX века, и предлагает более витиеватое название – «империя положительной деятельности» (или, как чаще переводят, «позитивного действия», есть и еще один вариант – «позитивной дискриминации»), которая не столько угнетает окраины, сколько предоставляет им привилегии и даже помогает создавать сами нации вопреки, казалось бы, идее, что нации подрывают империю74. Хирш, признавая особенности политики СССР, говорит, что ее интересует вопрос не «что», а «как»; при этом она обращается за помощью к работам Бенедикта Андерсона, Николаса Диркса и Бернарда Кона75, в которых анализировались «культурные технологии управления» и колониальное доминирование в европейских империях76.
Пожалуй, наиболее остро ставит вопрос об имперской природе СССР немецкий историк Йорг Баберовски в книге «Враг есть везде: Сталинизм на Кавказе»77. Изучая политику Российской империи и СССР (в 1920—1930-е годы) в мусульманских регионах Закавказья, он приходит к однозначному выводу не только о колониальном характере большевистской власти и столкновении разных культур, но и о том, что «большевистский стиль насилия» родился на периферии и лишь потом был перенесен в центральные регионы России, и, соответственно, «феномен сталинизма можно понять только в его имперском измерении»78. Впрочем, многие исследователи склонны видеть в СССР скорее своего рода «гибридную целостность, комбинирующую элементы централизованной империи и высокомодернистского государства», что несколько размывает аналитическую схему, но в то же время позволяет гибко описывать советское общество с разных позиций79.
Вопрос о колониальности в СССР отчасти (но не полностью) пересекается с проблематикой сталинизма/советскости и представляет собой новый ракурс, который обычно выпадает из поля зрения ученых, занимающихся этой эпохой. В частности, с точки зрения ревизионистов, возникает дополнительный вопрос – создавала ли риторика «старших» и «младших» братьев, с ее требованием признавать элементы русской/российской культуры в качестве базовых, какие-то новые разграничительные линии, новые механизмы доминирования, сопротивления и приспособления? В аспекте проблемы советской субъективности вопрос состоит в том, была ли такая субъективность у населения, которое могло воспринимать себя (или представляться) чужим по отношению к основному – русскому или российскому – обществу?
Ссылка на колониальность кажется естественной и даже привлекательной80. Во-первых, она позволяет увидеть культурные различия между разными группами советского населения и ввести культурное измерение в анализ отношений власти. Во-вторых, она дает возможность раздвинуть рамки анализа и включить в поле зрения не только советское время, но и период вхождения Средней Азии в состав Российской империи, то есть принять во внимание более длительную временню перспективу и сравнить споры о советском обществе со спорами о типичности или нетипичности Российской империи81. В-третьих, ссылка на колониальность позволяет произвести сравнительный анализ опыта СССР с опытом мировых империй.
Однако само по себе называние СССР империей не упрощает задачу анализа. В исследованиях нет какой-то единой точки зрения по вопросу, что такое империя, а сами такого рода исследования по своему размаху на порядки превосходят всю литературу о советском времени, опираются на разные и даже противоречивые подходы. Приведу несколько примеров.
Книга американского литературоведа палестинского происхождения Эдварда Саида «Ориентализм», которая вышла в свет в 1978 году, сразу после опубликования стала мировым интеллектуальным бестселлером82. Саид продемонстрировал, и весьма ярко, что знание о Востоке (научное, литературное, изобразительное), последние столетия формировавшееся в европейских странах, никогда не было нейтральным по отношению к практике завоевания и подавления, которую Европа осуществляла во взаимоотношениях с неевропейскими культурами и территориями. Это знание, каким бы оно ни было – более правдивым или более ошибочным, более негативным или более положительным, всегда являлось инструментом колониального угнетения. Ориентализм как способ мысли был также «западным стилем доминирования, реструктурирования и осуществления власти над Востоком»83. Саида прежде всего интересовало, как европейские политики, ученые, художники дискурсивно создают образ «Востока» и как в этом образе формируется зависимое положение неевропейских культур, поэтому для него были важны ссылки на рассуждения Мишеля Фуко о вездесущем характере власти и рефлексия итальянского коммуниста Антонио Грамши о гегемонии.
Несколько иначе расставляют акценты приверженцы изучения так называемых угнетенных, или подчиненных (subaltern studies). Основатель этого направления в науке, индийский историк Ранаджит Гуха, в книге «Элементарные особенности крестьянских мятежей в колониальной Индии» оспаривал две позиции – марксистскую и национальную, согласно которым, поскольку в мятежах в колониальной Индии XIX века не было заметно ни классового, ни национального начала, их следует считать спонтанными и иррациональными84. Гуха же находит в этих событиях их собственную логику, указывая, что крестьянская культура имеет ряд специфических черт (в том числе общинность, разного рода региональные и кастовые лояльности, ритуальные формы поведения, «негативное сознание» и так далее), которые определяют практики и идентичности мятежников во время беспорядков. Эту скрытую культуру индийский историк, живущий в Европе, называет культурой подчиненных, подчеркивая тем самым, что элитные идеологии заставляют ее молчать и подчиняют своим схемам и интересам.
В 1990-е годы школа изучения подчиненных стала разворачиваться в сторону более критического рассмотрения европейского знания в целом и в направлении поиска аутентичных форм «своей» культуры, которые существуют за пределами западного влияния и сопротивляются ему85. Важными для такого поворота стали работы Эдварда Саида и Джеймса Скотта, а также М. Фуко и Ж. Деррида.
Индийско-американский историк и политолог Парта Чаттерджи в книге «Нация и ее фрагменты» отказался от преимущественно марксистских рамок дискуссии, которую вел Гуха, и сосредоточился на анализе националистического прочтения колониализма86. Чаттерджи обратил внимание на парадокс: с одной стороны, идея нации была изобретена в Европе и привнесена в колонии как элемент модернизационного проекта колонизаторов, а затем заимствована местной элитой, осознавшей себя национальной, с другой же стороны, местный национализм принял антиколониальную форму и пытался отличить себя от Европы, осознать свою самость. Чаттерджи предложил разграничить мир колонизированных на две части – внешнюю (или материальную) и внутреннюю (или духовную). Во внешней части господствовал политический национализм и индийская элита говорила на универсалистском европейском языке, заимствуя у той же Европы идейный словарь и технические достижения. Внутренняя же часть, которая включала в себя язык повседневного общения, семью, женщину, общину, разные региональные и религиозные идентичности, оставалась сферой, где местные жители были самостоятельными акторами, строящими свою социальную жизнь и историю, неподвластные колониальному проектированию.
Попытку преодолеть эссенциалистские мотивы, которые неизбежно возникали при разделении внешнего и внутреннего миров, предпринял американский историк индийского происхождения Гиян Пракаш. В целом ряде работ он предложил обратить внимание не столько на разделение колонизаторов и колонизированных, сколько на сложное их взаимодействие, на противоречивое расщепление идентичностей и практик87. Проблематика доминирования и сопротивления, критика универсалистских нарративов остались в поле зрения Пракаша, но в большей степени он стал подчеркивать их неоднозначность и погруженность в исторический контекст. Пожалуй, это была попытка выйти за рамки школы изучения подчиненных, хотя ученый настойчиво определял себя в качестве ее последователя.
Сходное с идеями Пракаша развитие критика колониализма, но уже за рамками изучения подчиненных, получила у американского литературоведа индийско-парсского происхождения Хоми Бхабхи. В книге «Местоположение культуры» он предложил метафору гибридности, которая позволяет характеризовать такие неопределенные состояния, как «нахождение в разных местах одновременно» или «быть тем же, но уже не совсем тем же»88. Бхабха видит различные стратегии – камуфляж, мимикрию, надевание масок, которые позволяют избежать полного слияния с другим или однозначного отторжения от него89. Гибридность идентичности, поведения, культуры имеет дисциплинирующий эффект, о котором писал Фуко, поскольку позволяет колонизируемому принимать власть колонизатора, смотреть на себя и на мир его глазами, считать мир колонизатора своим миром, при этом оставаясь исключенным из него или дискриминированным. Бхабха видит в такой гибридности источник неудовлетворенности, неврозов и конфликтов, оставляя, как я понимаю, в поле своего внимания колониальную проблематику подчинения и сопротивления, хотя и перенося ее на персональный уровень, даже помещая внутрь человека.
Я назвал здесь лишь некоторых авторов тех работ, которые относятся к постколониальным исследованиям, но даже из этого краткого экскурса видно, что они дают набор весьма разных методологических подходов. При этом в изучении империй существует множество других направлений и групп, представители которых видят иные темы и проблемы и, в свою очередь, критически оценивают взгляды и выводы представителей постколониальных исследований90.
В качестве примера сошлюсь на работы британского историка Кристофера Бейли, причисляемого к так называемой кембриджской школе изучения колониальной Индии. Бейли упрекает сторонников изучения подчиненных в том, что они выдвигают эклектичный и не вполне ясный набор установок91. В своих работах этот ученый последовательно разоблачает построения своих оппонентов и их теоретических кумиров92. По его мнению, империи не были созданы европейскими странами, а возникли в результате взаимодействия европейских стран и неевропейской элиты, развивавшей свои ормы капитализма и торговой экспансии и имевшей сложную социально-политическую структуру93. Индийский национализм, утверждает Бейли, произрастает из прежнего, доколониального регионального и общинного патриотизма, создавшего «концептуальную сферу, кластеры институтов и умонастроения масс», из которых затем сформировались национальные идеи94. Вместо ориентализма и имперского дискурса британский ученый предложил рассматривать повседневные потоки информации, способы их накопления и перемещения, на которые у колониальной власти не было монополии95. Наконец, Бейли написал собственную историю «рождения современного мира», не испугавшись обвинений в создании очередного большого нарратива96.
Отдельное направление в изучении понятий империи и колониализма развивают также, к примеру, американский историк Фредерик Купер и – в российском научном поле – редакторы журнала «Ab Imperio»97. Суть их подхода выражается в желании раскрыть «множественность собственно имперских голосов, генеалогий и контекстов», показать сложную конфигурацию власти и соподчинения, в которых позиции сильных и слабых постоянно меняются и переопределяются. Как и Бейли, эти исследователи призывают к более внимательному изучению исторического контекста и критически относятся к тому, чтобы нагружать понятие империи негативными характеристиками. В отличие от Бейли, который дистанцируется от теоретических схем и призывает изучать экономическую и социальную историю, они, напротив, ссылаются на того же Фуко и включают себя в число тех, кто в первую очередь изучает дискурсивные и нарративные виды отношений. В этом их взгляды сближаются с точкой зрения Пракаша.
Рассмотрение колониальности не столько как суммы неких исчисляемых признаков, сколько как особого типа нарратива и даже идентичности выводит на вопрос о том, почему значительная, если не подавляющая, часть среднеазиатского общества не мыслила и сегодня не мыслит себя в качестве «(пост)колониальной». Можно ли данный факт объяснить успешной социальной политикой советской власти и ностальгией по ней в эпоху постсоветского упадка и кризиса? Или же это результат (тоже успешный!) основательной идеологической промывки мозгов, подкрепленный беспрецедентными репрессиями? Поиск ответа заставляет постоянно держать в поле зрения тему насилия, доминирования, манипулирования и не поддаваться искушению затушевать неравенство, которое всегда присутствует в социальных и культурных взаимодействиях.
Локальность
Несмотря на разную генеалогию, понятия традиционности и модерности, советскости и колониальности пересекаются, переходят друг в друга путем ссылок и заимствований, а также параллельного изучения близких тем. Споры о традиционности предполагают постановку проблемы признаков модерности, вопрос о советской модерности требует колониального ракурса. Поляков, говоря о традиционном обществе, думает так же, как и ревизионисты, при этом проблематизация субъектности (способности к действию) сближает описания Фицпатрик, Гухи и Чаттерджи, а поворот к дискурсивной перспективе объединяет точки зрения Митчелла, Хелльбека, Юрчака и Бхабхи, гибридность же в теориях последнего напоминает, пусть и отдаленно, многоукладность, о которой пишет Уляхин. Наблюдая за этими интеллектуальными поисками и дебатами, мы видим непрерывно расходящиеся и сходящиеся линии размышлений.
Я не ставлю перед собой задачу ни придерживаться какой-то одной линии и подгонять свои материалы под ту или иную «правильную» схему, ни пытаться искусственно объединить разные линии/схемы в некую сложную конструкцию. У меня нет таких амбиций. К тому же и то и другое, как я себе представляю, не соответствует современным тенденциям в историографии, где господствуют скепсис в отношении больших нарративов и склонность к деконструкции любых понятий и теорий. Я скорее намерен скользить от одной линии к другой, наблюдать за разными понятиями, примерять их к своему случаю, смотреть на изучаемое сообщество с разных концептуальных точек зрения. Моя позиция не равна позиции эмпиризма и отрицанию теории, что было бы ложной попыткой скрыть тот язык (те языки), который определяет мой взгляд. Это не будет и всеядностью, но скорее пониманием, что реальность не сводима к чему-то одному, а прерывиста, разорвана и может быть осмыслена через столь же разорванное множество языков. В данном случае я подписываюсь под словами американских антропологов Джорджа Маркуса и Майкла Фишера, которые, говоря об усложняющейся реальности, написали в книге «Антропология как культурная критика», что современные исследования характеризуются «эклектизмом, использованием набора идей, свободных от утвердившихся парадигм, критическим и рефлексивным взглядом на проблему, а также восприимчивостью к различным влияниям, вне зависимости от их практической реализации, и терпимым отношением к неопределенности касательно направления исследования и неполноты некоторых его перспектив»98.
Маркус и Фишер говорили об «экспериментальном моменте» в антропологии, то есть о поиске новых тем, новых вопросов и ракурсов, новых этнографических техник, которые позволили бы критически смотреть и на саму исследовательскую работу, и на привычные стандарты описания и объяснения. Но хотя «отцы» постмодернистской антропологии на самом деле понимали эксперимент очень широко – как любой критический разрыв с прежними схемами, – я не уверен, что мою книгу можно отнести к числу экспериментальных. Скорее наоборот, жанр монографического изучения одной деревни принадлежит к разряду многократно воспроизводимых и осмысленных99, да и давно, в общем-то, устаревших. Этот жанр не раз критиковался и за стремление приписать отдельному месту закрытость, изолированность, зафиксированность, целостность (системность/органичность) и неизменность, и за желание этнографа отделить себя от этого места и обеспечить отсылкой к нему («я там был», «я это видел сам») как его экзотизацию, так и «истинность» выводов100. В этом жанре заложены, таким образом, многочисленные ограничения, которые предопределяют и искажают этнографическое исследование, загоняют его в очень узкие рамки определенного взгляда на мир.
Тем не менее попробую сформулировать несколько исходных позиций, чтобы обосновать если не оригинальность выставляемого мной на суд читателей исследования, то по крайней мере те намерения, которыми я руководствовался. Ключевым словом здесь становится локальность – с ее помощью или сквозь ее призму я собираюсь взглянуть на проблемы традиционности, модерности, советскости и колониальности в изучаемом мной узбекском кишлаке Ошоба. Такой подход требует некоторых пояснений.
Во-первых, локальность не связана с проблемой типичности, репрезентативности или усредненности. Я изначально пытаюсь уйти от экстраполяции своего случая на всю Среднюю Азию или на какие-то национальные государства, будь то Узбекистан или Таджикистан. Я изначально пытаюсь увидеть специфичность одного узбекского кишлака, в каком-то смысле даже его уникальность и исключительность, всю совокупность местных особенностей географии, хода истории, личных биографий. Говоря об одном кишлаке, я предлагаю увидеть среднеазиатский регион как внутренне сложное пространство, в котором существует множество таких кишлаков, где рядом с общими тенденциями присутствуют маргинальные исключения, которые либо подтверждают правило, либо опровергают его. Тем самым мой текст подразумевает критику самого понятия «Средняя Азия» как целого, как отдельной сущности – по аналогии с критикой понятий «Индия», «Африка», «Восточная Европа», «Восток» и так далее101. Я предлагаю увидеть разные «Средние Азии», которые пересекаются между собой или оказываются очень непохожими одна на другую, меняются во времени и по-разному оцениваются со стороны102. При этом, критикуя (само)ориентализированную «Среднюю Азию», я хотел бы избежать и национальной перспективы, которая эссенциализирует целостность региона в соответствии с национальными (этническими) границами и располагает отдельные, неизменные сущности в границах «Узбекистана», «Таджикистана» и других государств, оформившихся исторически недавно. Внимание к частности и отдельности должно, как я надеюсь, показать разнообразие тех пространств, которые обычно приписываются той или иной сущности, и в то же время вызвать поиск сравнений и ассоциаций, различий и сходств – то есть привести к конструированию новых сущностей, новых объектов рассмотрения.
Во-вторых, говоря о локальности, я стараюсь избегать исключительно территориального ее понимания и не ставлю знак равенства между словами «местный» и «локальный». Локальность – это не только и не столько место и «точка обзора», для меня это еще и «точка зрения», способ видеть процессы, отношения, события, понятия, теории. С высоты птичьего полета, возможно, видны большие социальные потоки, несущиеся сквозь время, и в них, наверное, можно различить даже отдельные течения – экономические процессы, демографические, политические и прочие. Я же хочу, не поднимаясь так высоко, посмотреть, каким образом отдельные человеческие жизни (или повседневности) разворачиваются одновременно в разных течениях, как разные позиции – родственные, политические, религиозные, этнические, классовые – смешиваются, накладываются друг на друга, закручиваются в водовороты, растекаются по разным направлениям и опять собираются в потоки. Локальный взгляд – это, следовательно, способ критиковать любые метанарративы и детерминизмы, это способ понимать, что любая общая схема имеет свои аналитические пределы. Локальный взгляд – это своего рода «насыщенное описание», о котором говорил американский антрополог Клиффорд Гирц103 и которое позволяет раскрыть возможности разных интерпретаций, проследить взаимосвязи разных тем и проблем, увидеть то, что с высоты птичьего полета кажется несущественным или вообще невидимым.
В соответствии с этим принципом я отказался от того, чтобы писать книгу в виде монографического исследования с хронологическим обзором истории и всех сторон жизни узбекского кишлака Ошоба. Моя книга – это серия очерков, посвященных ряду конкретных случаев и отдельным темам, которые, как мне кажется, сами собой соединяются в одну цепочку. Я лишь протягиваю эту цепочку через всю книгу – она позволяет удерживать взгляд, не дает ему рассредоточиться и утонуть в деталях и в то же время не подменяется жесткой, заранее заданной структурой и разделением целого на части. Локальность, таким образом, каждый раз собирается из разных фрагментов и опять распадается на них, оставаясь направлением взгляда, а не его объектом.
В-третьих, локальный взгляд позволяет добраться, что называется, до «низов», услышать не столько идеологов, элиту и узкую группу привилегированных акторов, сколько самый широкий круг тех, кто жил и живет в Ошобе, соединить самые разнообразные источники, через которые эти голоса доносятся, – публикации, архивные документы, статистику, наблюдения, интервью и устные истории. Мне было важно уйти от доминирования одного голоса, одного вида источника104. Каждый вид источника можно критиковать за свои искажения, умолчания и ангажированность, за то, что он создает свою картинку прошлого и настоящего и тем самым предопределяет выводы исследователя. Но в этих искажениях и ангажированности я вижу особенности разных взглядов на реальность со стороны тех, кто эти источники создавал, то есть участников изучаемой истории, их споры между собой, их конфликты, взаимосвязи. Более того, чтобы избежать тотального доминирования своих интерпретаций, я полностью публикую имеющиеся в моем распоряжении тексты и обильно насыщаю книгу разнообразными цитатами, давая голосам самих ошобинцев звучать если не наравне с моим голосом, то как можно отчетливее. Однако, чтобы не превращать свое сочинение в краеведческое – в сбор, цитирование и пересказ разных интерпретаций, я сохраняю за собой право на собственную трактовку событий и высказываний, на собственный анализ, пусть даже неполный или ошибочный. Я остаюсь в роли автора, который несет главную ответственность за все выводы и определяет канву и логику повествования, не претендуя на некую объективность или равноправие со своими «соавторами»105.
В-четвертых, локальный взгляд, разумеется, не панацея от методологических и эпистемологических трудностей. У него есть свои недостатки. С одной стороны, невозможно знать все о каждом человеке и сообществе, обо всех обстоятельствах истории и всех участниках событий. В любом случае информация о жизни даже небольшого сообщества оказывается в той или иной мере конструкцией самого исследователя, пребывая в зависимости от степени его погруженности в мир исследуемых, от его теоретических и стилевых предпочтений. С другой стороны, объяснение локальности само по себе требует постоянного расширения рамок анализа – до каких-то регионов или даже до масштаба миросистемы в целом. Очевидно, что отдельный кишлак сам по себе, изнутри не производит импульсы к радикальной трансформации своего социального и экономического строя, а скорее принимает их извне и передает дальше, оказывается под воздействием самых разных влияний, приходящих в него из других селений, из городов или от приезжих реформаторов. Многие процессы и события имеют надлокальную или транслокальную конфигурацию и для своего объяснения требуют, следовательно, выхода за пределы ограниченного места. Локальность, иными словами, не есть просто данная изначально «точка», откуда я смотрю, но сознательно удерживается мной в таком качестве.
В этой связи интерес для меня представляет небольшая статья американского антрополога Аржуна Аппадураи «Производство локальности», который различает локальность как категорию или ценность и соседство как одну из социальных форм, в которой локальность может реализовываться106. Одно из определений рассматриваемого явления у него звучит так: «Сложное феноменологическое качество, формируемое серией взаимосвязей между ощущением социальной обязательности, интерактивными технологиями и относительностью контекста»107. Такой взгляд на локальность позволяет ему видеть, как она воображается и конструируется – и внутри этого самого соседства его членами, и усилиями внешних сил, находящихся за его пределами. Аппадураи предлагает смотреть на местные ритуалы, местные хозяйственные практики и, например, местные архитектурные техники, местные знания как на способы постоянного производства и воспроизводства сообщества. Ученый обращает внимание на то, что возникновение национальных государств, массовые миграции и появление электронных СМИ сопровождаются детерриторизацией и дестабилизацией соседств, приводят к переопределению локальности, к ее созданию в новых социальных формах. Источники и факторы воспроизводства локальности могут, таким образом, находиться вне данного конкретного места, они могут быть расположены в разных местах и перемещаться от одного к другому.
Соображения Аппадураи важны для меня в двух отношениях. Я хочу через изучение соседства Ошоба во времени показать, как в нем менялись практики локализации, как местное собщество создавалось и пересоздавалось в разные исторические эпохи. Ретроспективный взгляд усиливает понимание того, что нынешние социальные формы не даны извечно, а находятся в процессе постоянной дестабилизации и нормализации, разборки и сборки. Это означает, что я стремлюсь соединить в книге антропологический анализ с историческим108, другими словами, хочу проследить временню протяженность разных местных практик и представлений, надеюсь увидеть разные траектории исторической динамики – те, которые получили распространение, стали доминирующими, и те, которые угасли, потерпели поражени, маргинализировались. При этом я осознанно избегаю сугубого историзма, принятых членений на формации и стадии, в которых скрываются свои опасности телеологизма и предопределенности. В книге нет ни жесткой хронологической последовательности разделов, ни широко распространенного чуть ли не магического отношения к некоторым датам – таким, как 1917 или 1991 годы. Время в каждом очерке течет в своем направлении, со своей скоростью, со своими вехами, примеряясь к судьбам конкретных людей и к особым видам практик, которые оказываются в поле моего зрения.
Я также отдаю себе отчет в том, что моя собственная работа сама является одной из таких практик конструирования локальности, о которых пишет Аппадураи. То, какой я увидел и не увидел Ошобу (какие материалы собрал или не собрал), как написал и не написал о ней, уже содержит в себе некий окончательный образ, сколько бы я ни убеждал себя и читателя, что не стремился создавать такой образ. Ошоба, которая возникла в моих представлениях и затем в моей книге, начинает свою собственную жизнь параллельно с той Ошобой или с теми «Ошобами», которая/которые существует/существуют в представлениях самих ошобинцев. Эти образы неизбежно вступят во взаимодействие и даже конкуренцию, причем могу предположить, что моя версия окажется для многих предпочтительнее – хотя бы в силу того, что другие версии будут недоступны для ознакомления. Это неизбежный и трудноконтролируемый побочный эффект любого исследования, когда его результаты определяют восприятие и отношение к тому или иному явлению или реальности. В моих силах лишь понимать возможные последствия, предупреждать их и ожидать критики вместе с альтернативными выводами.
Я хочу сказать несколько слов о технических проблемах, с которыми сталкиваюсь регулярно, когда пишу свои работы. Дело в том, что не существует общепринятого и непротиворечивого написания узбекских (и таджикских) имен, названий и терминов, которые записывались в арабской графике, а затем более ста лет бытовали в кириллическом виде. Точнее говоря, существует несколько противоречащих друг другу способов обозначения кириллицей арабских, персидских и тюркских слов. Это узбекская кириллица, которая содержит несколько дополнительных букв для передачи специфических звуков (свои буквы имеются и в таджикской кириллице). Это профессиональная востоковедческая кириллица, использующая дополнительные диакритические знаки для передачи особенностей арабской графики. Это русская кириллица, которая имеет свои законы транслитерации слов из других языков. Наличие нескольких систем написания осложняется неустоявшимися литературными нормами, а также множеством исторических и региональных/диалектных вариантов произношения и написания тех или иных слов. Привести все это многообразие к общему, логически обоснованному и понятному для обычного читателя знаменателю представляется совершенно невозможным. В настоящей книге я использую такие формы написания имен, названий и терминов, которые соответствуют правилам русской грамматики и сложившимся традициям их написания; в случае когда такой традиции нет, я стараюсь максимально приблизить слово к тому произношению, с которым мне довелось иметь дело.
Приведу единственный пример. В русскоязычных документах начиная с XIX века название кишлака Ошоба писалось как Ашаба, реже – Ашоба и даже Ушаба. В арабографических текстах, как любезно пояснил мне узбекский востоковед Бахтияр Бабаджанов, первая буква иногда была со знаком мадда (), что означает фонему «о», иногда без этого знака, что означает «а» (). Какое из написаний исторически наиболее правильное, сказать сложно. По мнению Бабаджанова, слово «Ашаба», скорее всего, восходит к какому-то согдийскому/восточноиранскому или среднеиранскому термину (это касается значительного числа ферганских топонимов), а в этих языках не было открытого гласного «о». Так или не так, но в настоящий момент – возможно, под влиянием западноиранского/таджикского языка – слово имеет форму «Ошоба», в которой употребляется в официальных документах. Именно эту форму я выбрал в качестве основной в своем тексте, оставив в неприкосновенности только цитаты.
С такими дилеммами я сталкивался очень часто, и каждый раз приходилось делать выбор, учитывая всю совокупность разнообразных факторов. Уточню лишь, что я старался ориентироваться на русскоязычную аудиторию и традицию (в частности, в написании имен и фамилий с добавлением «-ов», даже когда речь идет о XIX веке). В некоторых случаях я даю местный вариант написания, используя узбекскую кириллицу.
Я признателен своим многочисленным коллегам по всему миру, в общении, в том числе и в спорах, с которыми я формировал идею своей книги. Я благодарен Анне Афанасьевой, Бахтияру Бабаджанову, Софие Касымовой, Баходиру Сидикову и Сергею Соколовскому за то, что они согласились прочитать рукопись (или ее части) и высказать свои замечания. Я благодарен людям, которые на разных этапах работы над книгой помогали мне: Аббасхану Асадуллаеву, Адхаму Аширову, Валентину Бушкову, Валерию Германову, Светлане Джексон (Svetlana Jacquesson), Андрею Захарову, Иномджану Мамадалиеву, Акбару Тагаеву, Томохико Уяме (Tomohiko Uyama), Мухиддину Файзуллаеву, Ринату Шигабдинову. Хочу выразить также благодарность жителям кишлака Ошоба и сотрудникам архивов за содействие и благожелательное отношение ко мне и моей работе. Я весьма признателен Умиду Бобоматову, который сам является выходцем из Ошобы, за то, что он взял на себя труд прочитать рукопись и дать свои комментарии и замечания. Особую признательность я высказываю своей супруге Анне Абашиной за помощь в литературной правке текста.
Я благодарен Фонду Веннер-Грен (The Wenner-Gren Foundation), благодаря финансовой поддержке которого в трудные годы я смог осуществить свои полевые исследования. Я благодарен Центру славянских исследований (The Slavic Research Center) Университета Хоккайдо, который создал идеальные условия для завершения моего исследования. Я благодарен Российскому гуманитарному научному фонду и Российскому фонду фундаментальных исследований, Фонду Гарри Франка Гуггенхейма (The Harry Frank Guggenheim Foundation), Фонду Макартуров (The MacArthur Foundation), Фонду Сороса (The Open Society Foundations/Soros Foundation), руководству и сотрудникам Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Института востоковедения РАН, Института истории АН Узбекистана, Французского института изучения Центральной Азии (Institut franais d’tudes sur l’Asie centrale), Института социальной антропологии им. Макса Планка (The Max Planck Institute for Social Anthropology) и участникам проекта «От колхоза к джамаату: трансформация сельских исламских общин в бывшем СССР: межрегиональное сравнительное исследование, 1960—2010» Фонда Фольксвагена (The Volkswagen Foundation), которые на разных этапах поддерживали продолжение и развитие моего проекта, а также Американскому совету учебных сообществ (The American Council of Learned Societies) за поддержку работы над книгой на заключительном этапе. Наконец, я благодарен издательству «Новое литературное обозрение» и Илье Калинину за согласие прочитать мою рукопись и опубликовать ее в виде книги.
Очерк первый
ТРИ ВЗГЛЯДА НА ЗАВОЕВАНИЕ109
Один из наиболее активных представителей постколониальных исследований, Гиян Пракаш, анализируя индийскую историографию, выделил несколько этапов изучения региона и несколько разных типов научного дискурса, связанных с осмыслением его истории и культуры110.
Первым из них был ориентализм111. Он являлся «европейским предприятием», создававшимся европейцами для европейской аудитории. Ориенталисты, пишет Пракаш, рисовали в своем воображении Индию как сущность, отдельную от Европы. Это был взгляд извне, который конструировал Индию в качестве другого, полностью противоположного западному миру112. Такое видение Индиибыло эссенциалистским, то есть придавало изучаемому и конструируемому в процессе изучения объекту целостный, гомогенный, неизменный характер, наделяло его постоянными характеристиками, отличными от характеристик Запада (если Запад – рациональный, то Индия – иррациональная, если Запад материалистичен, то Индия духовна, если Европа находится в движении, то Индия спит, и так далее). Это было не просто знание, но знание, которое оправдывало имперское доминирование Европы над Индией, представляло его неизбежностью и закономерностью, вытекающими из сущностных черт индийского общества. Пракаш оговаривается, что ориентализм не оставался одним и тем же на протяжении десятилетий, он накапливал информацию, а представления ориенталистов об Индии уточнялись и корректировались, но прежняя, созданная ими линия размежевания между Индией и Европой и подчиненное положение индийской культуры по отношению к западной все так же оставались основными особенностями такого рода научных рассуждений.
С критикой ориентализма выступила национальная научная историография, возникшая в самой Индии113. Соглашаясь, как полагает Пракаш, с тем же эссенциалистским видением Запада и Индии как отдельных друг от друга и самостоятельных сущностей, сторонники этого течения взамен пассивного, инертного образа Индии, который создавался ориенталистами, предложили свой образ страны – активной и самостоятельной. Индия в их работах была равной Европе, а не подчиненной ей. Используя привнесенные из Европы концепции, классификации и понятия, а также, как заметил Пракаш, ссылки на европейских ориенталистов, индийские националисты поставили под сомнение авторитет и право европейцев говорить об Индии. Внутренние противоречия и даже конфликты внутри национальной историографии, когда одни делали акцент на традиции, а другие – на модернизации, не мешали всем сторонникам этого направления говорить об индийском обществе как о единой, органической, укорененной в истории нации, которая была главным и единственным объектом их интереса, внимания, заботы и защиты. И в этом Пракаш видит «элементы ориенталистского канона», который был усвоен националистами, получившими европейское образование.
После обретения Индией независимости в 1947 году возникло несколько новых течений в изучении региона. Западные антропологи и специалисты по региональным исследованиям нарисовали образ традиционной Индии со своей особой культурой114. Они смотрели на мир с точки зрения культурного многообразия, а не дихотомии Запад/Восток, но в этом подходе, как отмечает Пракаш, сохранялись старые эссенциалистские основания, которые наделяли индийское общество предписанными и заданными свойствами. Марксисты и социальные историки кембриджской школы критиковали и ориенталистскую историографию, и национальную, рассматривая их как идеологические и устаревшие проекты115. Вместо истории борьбы Запада с Востоком и истории подчинения Западом Востока они попытались написать новую историю сложного и нелинейного взаимодействия классов, социальных и региональных групп. Однако Пракаш критикует оба эти течения за то, что в их исследованиях Индия по-прежнему сохраняла статус маргинальной или периферийной части западного мира или глобального (то есть, опять же, западного) модернизма, к канонам и идеалам которого она должна стремиться.
Анализ индийской историографии Пракаш завершает ссылками на работы последователей школы изучения подчиненных, к числу которых он сам себя относит116. В их трудах, по его мнению, взгляд на индийское общество освобождается от тех или иных гегемонистских категорий (Восток, нация, класс, модернизация), навязанных ориенталистским и национальным нарративами, что позволяет увидеть множество изменяющихся позиций – сложное переплетение лингвистических, экономических, социальных и культурных взаимодействий и отношений власти. Индия перестает быть особой и неизменной на протяжении десятилетий и веков сущностью, превращаясь в пространство многообразных социальных и культурных столкновений и пересечений.
Конечно, было бы наивно на основании аргументов Пракаша делать вывод, что школа изучения подчиненных является венцом индийского и вообще любого историографического процесса, исследующего колониализм. Категориальный аппарат, созданный последователями этой школы, сам не всегда свободен от гегемонизма, особенно в тех случаях, когда они начинают искать «подлинно индийские», свободные от западного влияния социальные и интеллектуальные сферы. Я, наверное, присоединился бы к тем, кто считает, что такого рода подчиненные могут стать лишь новой версией экзотического другого, воспроизводя в новой упаковке эссенциализм других понятий (община, каста, бенгальскость). Заслуга представителей этой школы не в том, что они открыли «настоящую», «истинную» историю колониальной Индии, противопоставив ее «лживой», «выдуманной» истории своих предшественников и оппонентов. Главное, на мой взгляд, то, что они указали на существование множества разнообразных, ранее недооцененных перспектив и точек зрения, с которых можно смотреть на историю.
Предложенный Пракашем взгляд на историографию и историю Индии полезен, я думаю, для изучения колониальной истории и историографии Средней Азии – при всех отличиях между этими регионами117. Обсуждение, например, вопроса о том, что имело место в XIX веке – завоевание Россией Средней Азии или ее добровольное присоединение, зашло в тупик, поскольку сторонники двух основных позиций – национальной и имперской – не могут ни переубедить друг друга, ни выстроить какого-либо диалога. Методологический же ракурс, который предлагает Пракаш, включает в себя критику обеих этих гегемонистских категорий и является попыткой показать иные способы описания прошлого, увидеть многообразие нарративов, противоречия между ними и внутри каждого из них, используемые этими нарративами приемы убеждения, преувеличения, подтасовки, умолчания, эмоциональную составляющую, с помощью которых конструируются различные версии произошедшего. Такой подход позволяет прочитать разные варианты донациональной истории и альтернативные региональные истории, услышать голоса женщин, религиозных деятелей, тех или иных социальных групп как особые, идущие вразрез с колониально-ориенталистской и национальной риторикой.
В первом очерке книги, который будет посвящен истории завоевания Ошобы и ее включения в состав Российской империи, я намеренно отказался от написания собственной версии этой истории и анализирую то, как по-разному она видится разными акторами и толкователями. Я предлагаю вниманию читателя три рассказа об одних и тех же событиях в Ошобе в 1875 году, когда Ферганская долина была оккупирована российской армией. Один – это донесения российских военных, участвовавших в событиях того времени, и затем интерпретация этих донесений в трудах имперских военных историков. Второй – описание, которое давали тем же фактам местные интеллектуальные лидеры, и новая оценка произошедшего в постсоветской национальной историографии Узбекистана. Третий рассказ был услышан и записан мной от руки в Ошобе в 1995 году (а в 2010 году дополнен аудиозаписями). Меня в данном случае интересует, как в каждой из этих версий описывается ситуация завоевания, подчинения, сопротивления и противостояния, с каких точек зрения рассматриваются события, какие образы и метафоры используются, какие модели объяснения предлагаются, какие концепции и представления стоят за этими моделями, как происходят процессы вспоминания и забывания, как факты конструируются и встраиваются в изначально заданную логику рассказа.
События осени 1875 года
Прежде чем говорить о нарративах, я должен изложить последовательность событий, чтобы можно было понять, о чем вообще идет речь118.
Итак, летом 1875 года в Кокандском ханстве, которое с момента подписания российско-кокандских договоров в 1868 и 1872 годах фактически находилось под протекторатом Российской империи, влиятельные представители высшей кокандской элиты потребовали низвержения правителя – Худоярхана. Оппозиционное движение приняло такой размах, что в июле последний вынужден был бежать из Коканда в сопровождении российских казаков. На престол взошел его сын Насреддинхан. Смена власти обеспокоила туркестанского генерал-губернатора Константина Петровича фон Кауфмана. Новая кокандская верхушка могла объединиться с бухарским эмиром и правителем Йеттишара Якуббеком119, и эта коалиция, при поддержке англичан, составила бы – как опасался Кауфман – мощную силу, направленную против российского присутствия в регионе.
Под предлогом защиты от действий кокандцев, которые в районе реки Ахангаран120 совершили ряд нападений на российские посты и центр Кураминского уезда – Аблык, военные части в августе стремительно вторглись в Ферганскую долину со стороны города Ходжент121. 22 августа в тяжелом бою была разгромлена большая кокандская военная группировка около крепости Махрам, 29 августа российские солдаты захватили столицу – Коканд, а в течение сентября заняли остальные крупные города Ферганы. Несмотря на продолжавшиеся бои, 22 сентября 1875 года Насреддинхан подписал с Кауфманом новый договор, восстанавливающий российский протекторат над ханством на еще более жестких условиях.
В частности, по соглашению предусматривалась передача всей территории на правобережье Сырдарьи и Нарына – бывшее Наманганское бекство – в состав Туркестанского генерал-губернаторства. Весь восточный склон Кураминского хребта (бывшее Бабадарханское бекство), и в том числе кишлак Ошоба, был включен в состав новой административной единицы – Наманганского отдела (с центром в городе Намангане и дополнительной военной базой в Чусте). Отдел должен был служить своеобразным буфером между Кокандским ханством и основной территорией генерал-губернаторства. Войска, которые здесь располагались, могли контролировать основные перевалы и пути из Ферганы на север и запад, легко появляться в любой части долины, чтобы подавить возможное сопротивление. В то же время естественная граница в виде рек Сырдарья и Нарын затрудняла, как считали тогда российские военные, плохо оснащенным и неорганизованным кокандским отрядам неожиданные нападения на русских. Во главе отдела был поставлен М.Д. Скобелев.
Надежда легко взять под контроль ситуацию в Кокандском ханстве, однако, не оправдалась. 10 октября Насреддинхан тоже вынужден был, вслед за отцом, бежать из Коканда, а новым правителем среди части повстанцев был провозглашен некто Пулатхан. Таким образом, наступил кульминационный момент в конфликте, когда одновременно происходила борьба за власть между различными фракциями кокандского общества и борьба с завоевателями.
Кокандцы небольшими группами перебирались на территорию Наманганского отдела и спокойно перемещались там, находя поддержку среди местных жителей, которые чаще всего даже не понимали, что вдруг оказались подданными России. Одним из наиболее беспокойных районов новообразованного Наманганского отдела была его самая западная часть – горы и предгорья Кураминского хребта, вдоль которого и через который проходили важные пути из Ходжента и Ташкента в Наманган, по ним шли поставки продовольствия и военного снаряжения. Это была территория степей и гор, где не было мест постоянной дислокации российских военных, поэтому кокандские отряды действовали здесь свободно и угрожали затруднить сообщение между основными военными базами. Российские отряды время от времени появлялись на этой территории, вели боевые действия с противником, преследовали его, но ситуация оставалась сложной, поскольку кокандцы нападали внезапно, маленькими группами и быстро рассыпались, исчезая из поля зрения менее мобильных регулярных войск. Малодоступные кишлаки в предгорьях и горах Курамы предоставляли повстанцам запасы и укрытие, а российские военные не решались вести там боевые действия без артиллерии и обозов с провиантом и снаряжением…
Перехожу к деталям. Речь о том, как развивалась ситуация в октябре—ноябре в западной части Наманганского отдела и что происходило в Ошобе и соседних селениях.
Начну с одного донесения о передвижении небольшого отряда из двадцати пяти солдат во главе с майором Ястржемским из Ангренской долины в Наманган, которое весьма художественно передает настроения, существовавшие в тот момент у российских военных. 11 октября экспедиция двинулась из ахангаранской базы и122,
перевалив горный кряж [из долины Ахангарана через Кураминский хребет в Фергану], имела ночлег в небольшой отдельной Курганче123 около кишлака Мулла-Мир [Мулламир]; несмотря на вечер и пост Уразу124, аксакал [старшина, старейшина] деревеньки Мулла-Мир явился, вызванный нашими джигитами, и охотно, за деньги, доставил нам все необходимое. Такое поведение Мулла-Мирского аксакала я объясняю близостью этой деревни к нашей границе и незначительностью населения. На другой день мы проследовали кишлак Бабадархан <…> Бабадарханцы были положительно удивлены нашим внезапным появлением и отнеслись к нашему приходу как-то недоумевая; мы не слыхали ругательных слов и все встреченные жители кишлака старались скрыться или в ворота, или в переулок, а оставшиеся на улице, пугливо прижимаясь к стенкам сакель [глинобитный дом], недоумевая, провожали нас глазами.
Не то было в Шайдане; жители этой большой горной деревни, предуведомленные бабадарханцами, встретили нас иначе; два аксакала босиком ожидали нас перед кишлаком и проводили нас через всю деревню; в середине деревни внутри базара, они радушно предлагали нам ночлег в большой чайхане [общественная чайная], убранной чистыми кошмами [войлочные ковры], но майор Ястржемский отклонил их предложение и категорически объявил им, что будет ночевать с отрядом в поле, около кишлака, и потребовал, чтобы туда была проведена вода и доставлены за деньги дрова, клевер, ячмень и проч., все это было исполнено буквально через два часа125. Такая торопливость в исполнении заставила нас отнестись крайне подозрительно как к аксакалам, так и вообще к жителям деревни Шайдан; тут уже не замечалось недоумение, а скорее проглядывало нечто сознательное, и предупредительность аксакалов давала повод подозревать, что вся деревня Шайдан, узнав о нашем движении и численности, замышляла попытаться ночью врасплох напасть и уничтожить нас.
Впрочем, сам Кауфман, читая такого рода донесения, был настроен по отношению к ним критически и более оптимистично оценивал положение дел. 16 октября он отправился из Намангана в Ходжент, тогда же в селении Самгар, недалеко от Ходжента, был выставлен летучий отряд под командованием полковника Пичугина для поддержки группы, в которой находился генерал-губернатор, в случае нападения на нее126. 19 октября Кауфман во время остановки в селении Камыш-курган писал в письме Скобелеву127:
Во время настоящего моего следования от Чуста к Камыш-Кургану, жители попутных кишлаков, за исключением небольшого кишлака Ашлык [Аштлик] (на переходе между Пунганом и Камыш-Курганом), были большею частью на местах и выходили ко мне навстречу с достарханами128. По рассказам и разным сведениям, жители этих кишлаков замешаны в грабежах и нападениях на наших джигитов <…> Но нельзя не признать, что все эти грабежи и разбои произведены ими по внушению и подстрекательству вождей движения в народе, частью из жителей правого берега Дарьи [Сырдарья], преимущественно из кипчаков129, частью же разбойничьими партиями с левого берега реки.
Под сложившимся у него впечатлением о лояльности местного населения Кауфман решил привлечь местных жителей на свою сторону. Он писал в приказе130:
Для обеспечения сообщения между Самгаром и Чустом, для поимки главных разбойников и коноводов волнения в населении правого берега <…> я остановился на следующей мере: по рекомендации мне лиц, знающих бывшего бабадарханского бека Мирзу-Абдуллу, я назначил его наибом131 всей страны между Самгаром и Тусом [древнее название Чуста] с подчинением штабс-капитану Бекчурину. Я поручил Мирзе-Абдулле набрать сто охотников-стрелков из известных ему бабадарханских жителей. С этими милиционерами наиб Мирза-Абдулла будет следить за безопасностью сообщения между Самгаром и Чустом и вообще за спокойствием в районе между этими двумя пунктами. Я назначил на содержание охотника-стрелка по 10 руб. в месяц на каждого. Наибу Мирзе-Абдулле я определил на первый месяц 300 руб. сер.
В тот же день исполняющий должность военного губернатора Сырдарьинской области генерал-майор Эйлер в докладе сообщил Кауфману о том, что, узнав от Ястржемского о «скопищах» противника в Шайдане, направил туда из Кураминского уезда полковника Гуюса с отрядом солдат132. 23 октября Кауфман дал указание Пичугину, который был в Самгаре, соединиться с отрядами наиба Мирза-Абдуллы и полковника Гуюса в Шайдане. 24 октября отряд Пичугина прибыл в Камыш-курган и остановился неподалеку, в урочище Бахмаль. Однако планы пришлось изменить – в сообщении от 25 октября начальник Кураминского уезда писал133:
Сейчас прибыл ко мне на Куйлюк Наиб Мирза-Абдулла, назначенный Вашим Высокопревосходительством начальником милиционерного отряда, и сообщил мне следующее: что он, собрав около себя 20 джигитов, поехал с ними в сел. Шайдан, чтобы там набрать хороших людей до сотни, что в Шайдане ему удалось приискать еще 20 джигитов; таким образом, около него было уже 40 человек, как в это время Хал-Турсун с язинскими кипчаками и с жителями кишлаков: Ашаба, Гудаса и Ашта окружили его и предлагали ему ехать в Кокан [Коканд], но, что ему удалось, приблизившись к кишлаку Пангасу [Пангаз], с помощью жителей этого селения, бежать в Аблык.
В послании Скобелева Кауфману от 28—29 октября отмечалось, что еще 23 октября он направил отряд во главе с полковником Меллер-Закомельским в кишлак Ак-джар, откуда тот должен был пройти по пути в Бабадархан, Мулламир, Пангаз, Ошобу (где должен был быть 28 октября) и Гудас. Однако этот поход не состоялся из-за активных действий кокандцев около Намангана. 3 ноября Кауфман приказал выставить из Ходжента на Акджарскую переправу на Сырдарье отряд в составе двух рот 3-го Туркестанского стрелкового батальона, взвода 2-й батареи, полусотни оренбургских казаков и 5-й Сибирской сотни. Начальником Акджарского отряда был назначен полковник Пичугин. В задачу отряда входила охрана переправ на Сырдарье на западе Ферганы и дороги от селения Пап до Камыш-кургана, то есть практически контроль всей территории юго-восточных предгорий Курамы134.
В течение нескольких дней подразделения, которые должны были составить Акджарский отряд, прибыли в район, после чего были проведены карательные операции в близлежащих селениях по обоим берегам реки. Из селения Ашт прибыла депутация местных жителей и изъявила готовность помогать русским и снабжать их провиантом. Тем не менее Пичугин был обеспокоен активностью, которую проявляли повстанцы. По его сведениям, в районе его ответственности действовало несколько «шаек», крупнейшей из них – в несколько сотен воинов – руководил бывший бек Аблыка Танаберды (Тангры-Берды-Фарман)135, который находился под началом Зульфакарбека136. Кроме того, были «шайки» под предводительством кипчака Батыркула (из небольшого селения Сарвак), таджика Исмандияра (из окрестностей Ашта), Колтырсуна (из Ошобы), муллы Кушая (из селения Моргузар недалеко от Папа) и киргиза Ишпута137. Основная база кокандцев располагалась около Шайдана.
Чтобы подавить сопротивление в горных районах, полковник решил совершить военный поход в окрестные кишлаки. В поход отправились полторы роты 3-го Туркестанского стрелкового батальона и сотня сибирских казаков, то есть около трехсот человек, артиллерийские орудия с собой в горы не взяли.
16 ноября российские солдаты, выйдя из Ак-джара, достигли Камыш-кургана и там переночевали, на следующий день они прибыли в Шайдан, где полковник Пичугин велел наказать перед народом двух старшин, которых обвинял наиб Мирза-Абдулла и упоминал в своем донесении месячной давности Ястржемский138. После этого отряд направился в Бабадархан, где население не сопротивлялось и выполняло все требования – предоставляло продукты и информацию139. Вечером, далее по пути в Пангаз, Пичугин получил известие, что крупная «шайка» Танаберды и Батыркула предприняла нападение на Шайдан, а потом направилась к Ошобе. Он без промедления, в полдвенадцатого ночи поднял свой отряд и двинулся в направлении Ошобы, где утром 18 ноября состоялось ожесточенное сражение. Разгромив неприятеля и разрушив кишлак, российские военные не стали задерживаться, опасаясь нападения по-прежнему численно превосходившего их противника, и продолжили карательную операцию – вошли в Гудас, жители которого изъявили полную покорность140. 19 ноября отряд Пичугина вышел к Ашту, а вечером того же дня возвратился на позицию у Акджарской переправы. Получив от Пичугина информацию о результатах похода, Кауфман выразил ему, офицерам и низшим чинам «искреннюю благодарность за лихое движение»141.
Имперский нарратив
Донесение Пичугина
В изложенной выше истории меня интересуют события в Ошобе, и в частности сохранившееся описание ожесточенного боя, который состоялся в кишлаке рано утром 18 ноября. Это описание существует в трех вариантах: в виде двух донесений на имя Скобелева и на имя Кауфмана от самого Пичугина и в виде пересказа этих донесений военным историком А.Г. Серебренниковым. Прочитаем все три одно за другим, чтобы увидеть, как изображалась, уточнялась и менялась в них картина произошедшего.
Вот что сообщал Пичугин в донесении от 19 ноября 1875 года на имя начальника Наманганского отдела142:
Вечером 17-го я получил известие, что шайка Тана-Берды ночует у кишлака Ашаба. Подняв в полночь отряд, я направился туда по затруднительной дороге и прибыл к 7 часа утра 18 ноября. Кроме шайки отряд был встречен пальбою из-за стенок кишлака. После упорной, хотя и непродолжительной перестрелки пехота бросилась на штурм. Сопротивление жителей было отчаянное: били людей из-за баррикад и бойниц. Жители пощады не просили и гибли с оружием в руках; женщины кидались с ножами на солдат и бросали в них каменьями. Все было переколото. Затем соединенные шайки Таны-Берды и Батыр-Кула, державшиеся на высотах, в стороне во все время резни, были рассеяны ружейным огнем и скрылись по направлению к Садыку.
В кишлаке (сожжен) осталось более 150 переколотых трупов, за кишлаком и на высотах около сотни. Взято с боя 1 бунчук [древко с конским хвостом, символизирующее власть], 1 значок, 60 сабель, 80 пик, 120 ружей и несколько сот батиков [палка, плеть]. Потеря наша значительна: нижних чинов убито три, ранено 11, ушиблено и контужено 3, лошадей казачьих убито 6.
Не имея вовсе перевязочных средств, я тем не менее счел неудобным не окончить задуманного движения и, окончив разрушение мятежной Ашабы, двинулся далее; 9 носилок с тяжелоранеными замедляли движение, совершаемое по горным труднодоступным тропам. В полночь едва мы прибыли к кишлаку Гудас, который лепится в скалистых ущельях. Таким образом, люди отряда были на ногах 24 1/2 часа, не ели все это время (успели лишь выпить чай), выдержали жаркое дело и прошли по горным тропам в этот тяжелый день 44 версты без арб <…>
Погром Ашабы сильно подействовал на все соседние кишлаки. Раболепствуют донельзя. Исполняют все требования. Накладываю реквизиции и полагаю, что полоса горного района затихла, так что не потребует пока экзекуции со стороны Намангана, за исключением трех воровских кипчакских кишлаков (Чадак, Сарвак и Раджак), куда удалились Тана-Берды и Батыр-Кул с почти разбежавшеюся шайкою.
20 ноября Пичугин описывал те же события в донесении на имя Кауфмана. На этот раз стиль его рассказа был еще более эмоциональным и художественным143:
Желая захватить эту шайку, я в 11 1/2 часов ночи 17 ноября поднял отряд и повел его горными тропами на Ашабу. Нарочно с точностью указываю время подъема, потому что, как Ваше Высокопревосходительство лично убедитесь из моего строго верного фактам донесения, энергия и самоотвержение русского солдата в наступивший затем день 18 ноября, высказались в такой степени, что Ваше Превосходительство можете с гордостью видеть у себя в округе таких солдат.
Пехота шла пешком, арбакешные лошади были навьючены десяточными котлами и пятидневным провиантом. Дорогая была тяжелая, горная, с беспрестанными обрывистыми спусками и подъемами. Затруднительность пути увеличивалась темною ночью. Колонна, пройдя с лишком 20 верст, к семи часам утра приблизилась к аулу, лежавшему в глубокой рытвине [Илл. I, II]144.
Мы шли нижнею боковою дорогою и не видели еще строений. Вдруг были замечены бежавшие конные пикеты с высоты. Я немедленно направил вслед за спасавшимися 5-ю Сибирскую сотню. Сотня вскакала на высоты, пикеты без оглядки бежали в кишлак. Сотня подошла ближе. Вдруг со всех крыш, из-за стенок, заборов был открыт огонь. На высоте также высыпала конная шайка. Сотня несколько отошла, люди спешились, и началась перестрелка. По силе неприятельского огня, по меткости его видно было, что кишлак имеет много ружей и ждал нас давно. Пехота, несмотря на сильно утомительный переход, бегом взбежала на высоту, густая стрелковая цепь залегла по всему гребню, охватывая линию неприятельских стрелков. Перестрелка была чрезвычайно упорна. Для усиления огня я употребил казаков как пехоту. Огонь из кишлака начал слабеть, видно было, как правый фланг неприятельских стрелков побежал назад. Дальнейшая перестрелка вела бы только к потерям людей, потому что горцы – жители Ашабы били замечательно метко. Пехота была двинута на штурм: 3 полувзвода и 2 роты под командою штабс-капитана Бартенева бросились на правую сторону кишлака, взвод первой роты капитана Русанова кинулся на левую. Обе колонны встретили сильнейшее сопротивление, жители били из-за баррикад, из бойниц в саклях, заборах, стенках. Весь кишлак был в баррикадах. Люди наши подвигались неудержимо вперед, офицеры были впереди. Началась резня, или, вернее, ряд отдельных боен, ни один ашабинец не сдавался, все гибли с оружием в руках. Женщины кидались с ножами на солдат или пускали в них с крыш камнями. Наконец кишлак был взят, все легло под штыками. Взвод 2 роты с поручиком Журавлевым взобрался на противоположные высоты против конной шайки и открыл по ней убийственный огонь, та кинулась спасаться, взбираясь под нашим огнем на перевал, и исчезла из виду, оставив на месте несколько десятков трупов <…>
В 9 1/2 часов все было кончено. Изредка гремели выстрелы, потому что отдельные фанатики выскакивали из разных закрытий, стреляли в наших и были тут же избиваемы. Ударив сбор и собрав отряд, я отправил часть отряда для разрушения кишлака. Через некоторое время он представлял сплошную массу огня, в котором горели трупы, завалившие все улицы, сады и дворы, скот, забившийся в разных закутях и все не нужное отряду имущество <…>
В деле 18 ноября как офицеры, так и солдаты вели себя молодцами. Могу упрекнуть только в том, что люди в начале дела слишком рисковали собою, пренебрегая закрытиями, но к концу перестрелки они уже прекрасно применились к местности <…>
Дальнейшее движение в горы представляло некоторые трудности: в колонне было до начала дела 200 штыков и 100 сабель, приходилось идти горами, для 9 носилок нужно было отрядить 72 человека, для носки ружей 54, у меня оставалось свободных всего 70 штыков. Путь вперед шел тесным ущельем, где расположены сады и хутора Ашабы, на пути лежали кишлаки Гудас (около 100 дворов) и Аш [Ашт] (400). В случае нового дела я мог быть поставлен в трудное положение, но отойти назад было невозможно, не потеряв нравственное значение успеха под Ашабою. Кишлакам было заранее объявлено, что русские придут, колебаться было нечего, и отряд, не поев, не отдохнув, сварив только чай, в 2 часа пополудни втянулся в Ашабинское ущелье. Узкая дорога была во многих местах забаррикадирована, разбирали их депутаты от разных кишлаков. По временам раздавались выстрелы, стрелки пристреливали одиночных сартов, показывавшихся из расселин, но по нам не стреляли <…>
Таким образом, люди были на ногах 24 1/2 часа, пили только чай, в это время выдержали горячее дело и прошли 44 версты по едва доступным дорогам. Факт говорит сам за себя, и прибавлять мне к нему нечего.
Горцы били «замечательно метко», «фанатики стреляли в наших», русские солдаты шли «неудержимо вперед», а офицеры были «впереди» – эти новые характеристики добавили драматизма и героизма в описание боя. Автор не жалел красок, подчеркивая трудности, с которыми пришлось столкнуться его отряду, и героизм, проявленный военными. Значительную часть текста, которую я здесь опускаю, составили сведения о захваченных трофеях (оружии, знаменах) и подробное перечисление потерь. Полковник привел, в частности, имена погибших со стороны русских: 1-й роты унтер-офицер Мирошников, 2-й роты стрелок Иванов, 5-й Сибирской сотни казак Мандрышин – трое погибших в бою; еще два казака, урядник Железчиков и Дорогой, были, видимо, смертельно ранены. Пичугин поименно отметил за «заслуги» нескольких военных, например унтер-офицера Шемеля, «отнявшего бунчук и заколовшего 10 сартов»145. В обоих донесениях было названо количество погибших противников (как ошобинцев, так, видимо, и бойцов из «шаек» Танаберды и Батыркула, которые заняли оборону в Ошобе) – 150 «с оружием в руках», кроме того, «в садах, рытвинах, скатах высот, везде валялись трупы» – еще не менее сотни. Сославшись на сомнения Кауфмана по поводу таких больших чисел, Пичугин добавил «с уверенностью», что названная им цифра потерь среди «неприятеля» – минимальная.
Все ли в рассказе Пичугина достоверно? Надо понимать, что перед нами – донесение, направленное в адрес начальства, а вовсе не публикация, предназначенная для общественного обсуждения. Задача подобного рода донесений заключалась, в числе прочего, в том, чтобы выставить свои действия в наиболее выгодном свете и получить все возможные бонусы (похвалы, награды, повышения по службе). Весь текст был строго выдержан именно в таком стиле. Пичугин приписывал защитникам Ошобы упорство и умелость, тем самым указывая на значение победы, одержанной в этом бою русскими. Той же цели служила и «минимальная» цифра 250 убитых – в противовес нескольким погибшим русским солдатам. Разница с двух сторон в числе погибших (250 и 5) выглядела нарочито высокой, и Пичугин старательно ее подчеркивал146.
В донесении ни слова не говорится о том, что в составе российского отряда был назначенный Кауфманом наиб Мирза-Абдулла (и, видимо, его джигиты), который, как можно предположить, был провожатым и указывал дорогу русским. Между тем год спустя сам Пичугин ходатайствовал о награждении бывшего бека серебряной медалью «За храбрость» и почетным халатом за то, что «в деле под Ашабою, 18 ноября 1875 года, находясь в цепи под сильным ружейным, почти в упор огнем неприятельских стрелков, показывал пример редкого хладнокровия»147. В рапорте ничего не было сказано ни о количестве людей из местного населения, которые находились в российском отряде, ни о той роли, которую они выполняли, ни о возможном числе погибших и раненых среди них. Эта небольшая уловка позволяла подчеркнуть свои заслуги, еще больше приукрасить успех.
В других своих донесениях на имя начальства Пичугин всячески демонстрировал решительность и готовность к жестоким мерам. В одном из писем на имя Скобелева этот полковник, недовольный его новыми приказами после отъезда Кауфмана148, писал149:
Как человек военный, то есть человек, показывающий уже зачатки настоящего военного дарования, которому дай Бог впоследствии развиться, Вы должны понять, что после Ашабинского дела нужна не полиция, не посылка мелких отрядов по указаниям участковых начальников, потому что эти отряды могут погибнуть, а штык, военная диктатура и распоряжение начальника, который бы на известном пространстве имел бы безграничную власть, действуя именем Константина Петровича и Вашим150.
Военное донесение как имперский жанр и как вообще любой документ милитаристского содержания отличалось циничным прагматизмом и жестокостью, в нем обсуждались и решались сугубо военные и управленческие проблемы, и поэтому оно освобождалось от необходимости включения каких-то политических и моральных оговорок. В донесении в наиболее простом и ясном виде присутствовало противопоставление тех, кто завоевывает, и тех, кто сопротивляется. Этот конфликт мог быть разрешен только уничтожением и покорением противника с помощью безграничной власти и военной диктатуры. Страдания противника не принимались в расчет, огромное количество жертв с противоположной стороны не умаляло, а, наоборот, подчеркивало безусловность одержанной победы, силу российского оружия. Необходимость такой жестокости была совершенно очевидна Пичугину и его адресату – противник должен быть повержен и должен понести наказание за свое сопротивление.
В донесении подчеркивались все атрибуты победы – потери врага, умелые и самоотверженные действия российских военных, достигнутый результат. Пичугин персонализировал победу, указывая имена героев и жертв с российской стороны – все они должны были быть вознаграждены славой и посмертной памятью. Разумеется, жанр военного донесения предполагал также ответное восхваление и вознаграждение самого Пичугина. Противник же был, напротив, представлен непонятной и безымянной массой, за исключением имен двух главных предводителей, которые, впрочем, не являлись субъектами повествования. Пичугин с некоторым удивлением говорил о яростном сопротивлении, оказанном в Ошобе, о меткости стрелков, о женщинах, участвующих в бою. Но в этом удивлении сквозили, с одной стороны, намек на варварство врага, который идет на бессмысленное самоубийство, а с другой стороны, желание еще раз отметить значение одержанной над столь упорным врагом победы.
Пересказ Серебренникова
Имперский нарратив проявлялся в разных жанрах, каждый из которых диктовал свою логику и свою интерпретацию событий. Донесения одного военного другому уже содержали элементы данного нарратива, при этом оставаясь жанром бюрократического и в то же время секретного, непубличного общения начальника и подчиненного. В этой переписке подчиненный стремился преувеличить свои достижения и преуменьшить неудачи, он мог себе позволить быть циничным и откровенным. Совсем другой жанр – публикация для широкой аудитории. В 1897—1901 годах в журнале «Военный сборник» появилась серия статей историка (по образованию – инженера), проходившего военную службу в Туркестане, А.Г. Серебренникова151. Статьи, посвященные истории завоевания Кокандского ханства, представляли собой авторский пересказ документов и донесений того периода, которые Серебренниковым тщательно собирались и копировались. Автор ставил перед собой скромную задачу – рассказать о кокандском походе, и его не особенно интересовало, каковы были общие цели и интересы империи в регионе. Тем не менее публичный жанр заставлял его говорить во вступительном слове о необходимости и значении завоевания Кокандского ханства. С его точки зрения, оно «…является одним из важнейших событий в наступательном движении русских в Средней Азии, так как с присоединением и умиротворением Кокана Россия покончила с одним из самых сильных и беспокойных своих азиатских соседей и достигла во многих местах естественных границ, каковыми можно считать первоклассные хребты, отделяющие русские владения от Китая на юго-востоке и Индии на юге»152.
Серебренников почти дословно переписывал второе донесение Пичугина Кауфману, придавая ему более правильную литературную форму и усиливая этим эмоциональный эффект от чтения153. Картина, им нарисованная, опять содержала акцент на тех трудностях, которые пришлось преодолеть российским воинам, и на том суровом наказании, которому подверглись жители Ошобы. Описывая драматизм произошедшего, Серебренников словно не видел, что в его описании действия карателей выглядят безжалостными – данный вопрос для него не стоял, хотя в отличие от Пичугина он обращался не к военному начальнику, а к широкой гражданской аудитории. Ему было гораздо важнее, что благодаря этим усилиями достигнут результат – прекращение сопротивления. Вслед за Пичугиным он повторял:
Движение части Ак-Джарского отряда в горные кишлаки северо-западной части Наманганского отдела было выполнено вполне удачно, образцово, а разгром неприятельской шайки в кишлаке Ашабе произвел на окрестных жителей глубокое, подавляющее впечатление и отбил всякую охоту противодействовать и сопротивляться русским. Это движение оказало отличное действие и на общее успокоение населения Наманганского отдела, так как все шайки мятежников, волновавших население, находили всегда хорошее укрытие именно в этой малодоступной части края, населенной воинственными племенами154.
Верный строгому фактологическому подходу, Серебренников не ставил перед собой вопроса о человеческих жизнях. Для него не было необходимости скрывать шокирующие подробности, напротив – десятки жертв и массовые погромы демонстрировали мощь, силу и превосходство русского оружия и российского государства, и это само по себе уже оправдывало жестокость, избавляло от какого-либо морального упрека. Это цена, которую покоренные народы неизбежно платили за достижение Россией «естественных границ» ее имперского расширения. Правда, вместе с описанием того, как российская армия «решительными действиями наводила порядок» в Ферганской долине, Серебренников убеждал читателя, что «…значительная часть мирного и трудолюбивого населения, сильно страдавшего от междоусобий, никогда не сочувствовала беспокойному меньшинству, возбуждавшему остальных к мятежам лишь благодаря насилию, и в глубине души всегда симпатизировала русским, под управлением которых население могло безбоязненно предаваться своим обычным занятиям»155. Впрочем, это утверждение было больше похоже на имперскую демагогию, поскольку события в Ошобе опровергали его, но автор сам не замечал этого противоречия и не искал ему никакого объяснения.
«История завоевания Средней Азии» Терентьева
Имперский нарратив – это не какая-то единая логика изложения и объяснения событий и вовсе не какой-то один автор, обладающий монополией на те или иные образы и аргументы. Это то, что создавалось в разных обстоятельствах разными авторами, обладавшими своими собственными образами и аргументами. Но в то же время у этого нарратива были и общие закономерности, сквозные темы, позволяющие говорить о нем как о едином тексте.
Например, если открыть опубликованную в 1906 году трехтомную книгу российского генерала М.А. Терентьева «История завоевания Средней Азии», которая являлась, пожалуй, самым обширным и авторитетным справочником по данной теме, то мы увидим все основные черты имперского нарратива и одновременно почувствуем авторскую интонацию. В отличие от Серебренникова Терентьев писал историю не отдельных походов и событий, а многодесятилетнего и даже многовекового завоевания Средней Азии. В этом новом масштабе имперские черты становились еще более заметными, а конкретные факты сокращались до небольших упоминаний, полностью подчиняясь логике имперского нарратива.
Несмотря на большой объем своего труда, Терентьев упоминал в нем эпизод с Ошобой, но всего лишь несколькими фразами156:
Пичугин разбил 18-го ноября значительную шайку у горного кишлака Ашаба, который был уничтожен до основания. Отряд, отправленный в горы, состоял всего из 1 роты и 1 сотни. Потеря состояла из 3 убитых и 11 раненых нижних чинов.
Почему этот эпизод неинтересен военному историку?
Первое объяснение – Терентьев вводил градацию существенных событий и несущественных, то есть достойных подробного рассказа, упоминания или забвения. В изложении Серебренникова история тоже имела разную степень детализации описания тех или иных событий, но он скорее следовал за документами и тем, насколько подробно сами первичные материалы отражают определенное событие. Терентьев же, который имел доступ к неопубликованным и опубликованным (тем же Серебренниковым) документам, выстраивал собственную иерархию фактов, подразумевая разную их значимость в общей картине завоевания Средней Азии157. Значительную часть своего рассказа о кокандском походе он посвятил интриге взаимоотношений между Кауфманом, его первым заместителем Колпаковским и Скобелевым, которая была важнее для Терентьева, чем боевые действия в Кураминских горах.
Есть и второе объяснение. Терентьев подверг некоторой коррекции ту жестокую бесстрастность, с какой описывали завоевание Средней Азии многие его предшественники и современники. Он не скрывал того, что произошло с кишлаком, но и не вдавался в детали, не описывал и не смаковал ужасы (те же трупы в горящих домах), не занимался подсчетом числа убитых противников. Почему он этого не делал? Можно было бы предположить, что автор скрывал ужасы войны от впечатлительного и морализирующего читателя, который вдруг стал бы задавать вопросы о человеческой цене войны. Однако была более прозаическая причина: Терентьев довольно критически оценивал действия военных, в том числе те сведения, которые они представляли в своих рапортах. Как он писал во введении, «…не желая быть рабом реляций, я относился к ним критически: панегириков я писать и не собирался, а правду высказать не боялся, мало заботясь о том, понравится ли это тому или другому из деятелей, прославленных уже и превознесенных на полях Средней Азии»158.
Желание знать «настоящую, не приукрашенную и не закрашенную правду» означало для Терентьева не столько описание всех жестоких подробностей боя, сколько сомнение в правдивости той информации, которую давали генералы, старавшиеся произвести впечатление на публику и начальство. В частности, Терентьев был явно «неравнодушен» к Скобелеву, придирчиво и недружелюбно следил за всеми его действиями и отмечал его стремление приписать себе несуществующие или не только собственные заслуги. Он иронизировал над имперским героем, позволяя себе фразы вроде «Неприятель потерял до 3800 человек, по счету Скобелева (чего жалеть бумагу и басурман!)», ставя тем самым победы и успехи последнего под сомнение159. Гигантские цифры потерь кокандцев, в которых соревновались российские генералы и офицеры, вызывали у военного историка скепсис, что, возможно, и стало одной из причин игнорирования многих военных событий в его книге.
Следовательно, рассказ, который был создан Терентьевым, вовсе не был таким уж прямолинейным и некритичным. Он видел ошибки и даже преступления тех, кто представлял империю, тем более что они были объективно направлены против российского закона или русской чести, то есть, в конечном счете, против самой империи. Автор не скрывал, что многие генералы и офицеры жаждали новых наград, которые Кауфман щедро раздавал подчиненным за любые, даже мнимые заслуги. Такая критика внутри самого имперского нарратива некоторых действий империи, безусловно, являлась данью публичному жанру серьезного исследования. Одновременно она была и шагом в развитии имперского нарратива, который искал новых аргументов и новой риторики своего оправдания160 и вовсе не был во всех своих проявлениях лжив и бесчувствен, а мог быть вполне ироничным и наблюдательным.
Терентьев, конечно, не отрицал всех жестокостей и потерь. Как и Серебренников, он вынужден был оправдывать их неизбежностью и целесообразностью произошедшего. В первом томе своей книги Терентьев нарисовал общую картину, предлагая развернутую аргументацию, обосновывающую завоевание Россией Средней Азии161:
Одолев одного врага, Россия тотчас же должна была справляться с другим <…>; в этом как будто и состоит ее дальнейшее призвание: орда за ордою является к ее пределам, стучится, так сказать, в дверь Европы, но суровый страж бесцеремонно выпроваживает непрошенного гостя <…> История дальнейшего движения нашего на восток характеризуется, в общих чертах, таким образом: соседство с дикими, не признающими ни международных и никаких прав, кроме права силы, вынуждало нас укреплять границы линиею крепостей; под защиту этих крепостей являлись, по временам, с просьбою о правах гражданства, то есть о защите, дикие племена, теснимые более сильными; эти новые подданные через несколько времени оказывались хуже врагов; нам приходилось или задавить их окончательно, или прогнать, но и в том, и в другом случае необходимо было оцепить занятую ими территорию рядом новых укреплений, – являлась, значит, новая линия <…> Так перекатными линиями и продвигается Русь на восток в тщетной погоне за спокойствием. И не найдет она этого спокойствия, пока не дойдет до народа, уважающего договоры, народа настолько цивилизованного, чтобы не жить грабежами и разбоем, и настолько сильного, чтобы не допускать нарушения наших границ разбойничьими набегами своих шаек.
В этом отрывке мы видим и отождествление России с Европой, и причисление ее к «цивилизованным» странам, но оправданием для завоеваний является не благородная миссия помощи и просвещения соседних народов, как это станет популярным в других версиях имперского нарратива, а вынужденная защита от «дикарей». В описании Терентьева Россия парадоксальным образом оборонялась, продвигаясь в глубь среднеазиатских территорий и подчиняя их себе. Россия стремилась «нести мир и порядок», но «азиатцы» неизменно нарушали договоры, обманывали, не слушались, за что терпели справедливое и умиротворяющее наказание.
Начиная с 1930-х, и особенно в 1950-е годы, имперский нарратив, упакованный в марксистскую риторику прогресса, опять вернулся в научную и публицистическую литературу162, а в 1990-е и 2000-е годы получил новый импульс на волне постсоветской имперской ностальгии163. Оправдание империи, артикулированное в рассуждениях о «естественных границах» и «защите от варваров», сместилось к поиску «закономерных, объективных» процессов развития и положительной деятельности имперских чиновников на благо местных жителей. В этом новом варианте имперскому нарративу и вовсе перестала быть нужной тема жертв и сопротивления – она практически исчезла из поля зрения, была забыта. Эпизод с завоеванием Ошобы больше не привлекал внимания российских историков.
Национальный нарратив
Участники и свидетели
Имперский нарратив имеет то существенное преимущество, что он воспроизводится в огромном числе документов, которые империя создавала и потом сохраняла в архивах, а также в многочисленных научных, публицистических и художественных работах, написанных за многие столетия. Такая масса текстов сама по себе создает условия для диспропорции между разными мнениями и, соответственно, для доминирования иперской точки зрения над всеми другими.
И все же очевидно, что те, кто воевал с Россией, вовсе не были молчаливой стороной – они думали и говорили о происходившем, обсуждали, создавали свои рассказы. В значительной части последние имели устную форму и не сохранились для историков в полном объеме. Что-то записывалось в виде призывов и донесений – эти документы тоже пропали, за исключением очень редких и случайных текстов, которые сохранились, например, в тех же имперских архивах. Я нашел один такой текст – прокламацию кокандцев, сохранившуюся в русском переводе164:
Прокламация Ак-Бута-Бека и Муллы-Нур-Мухамеда (перевод от 31 октября 1875 г.) за печатью Ак-Бута-Бека, сына Абдулгафара, и Муллы-Нур-Магомеда из Гудаса.
Аксакалам и аминам [старшина крупного селения, в его подчинении могло находиться несколько аксакалов] кишлаков: Пунука, Ашта, Гудаса, Пыскаката [Пискокат], Шайдана, Ашабы, Пангаса [Пангаз]. Проклятые русские в воскресенье рано утром ушли из Ак-Джара в Камыш-Курган. Все вы, старшие и младшие, соберитесь во имя Газата [война, которую ведут воины-мусульмане за веру] и во имя мусульманской веры и встретьте их на Бардын-Куле. Этой службою вы сделаете угодное Богу дело. Для этого посылаем Мама-Захид-Юз-Баши [юзбаши – сотник; здесь есть приписка – «родом из Гудаса»165]; отправьтесь с ним и служите вместе.
Из этого документа видно, что кокандские отряды имели налаженную разведку и поддерживали связь между собой, соблюдая необходимую военную иерархию. Обращает на себя внимание, конечно, сугубо религиозная риторика, которую используют руководители сопротивления для идеологической мобилизации людей, – ссылки на богоугодность и необходимость священной войны против неверных.
Существует также несколько сочинений, написанных местными авторами, в которых была предпринята попытка изложить ход событий времен завоевания и осмыслить произошедшее166. Что любопытно, эпизод завоевания Ошобы был кратко запечатлен в одной из таких исторических хроник – «Тарих-и-джадида-йи Ташканд». Ее автором являлся ташкентский религиозный деятель Мухаммад-Салих-ходжа Ташканди. Он родился в Ташкенте примерно в 1830 году, начальное образование получил у своего деда – муллы Абдурахима-ходжи, жил в Коканде, Бухаре и Самарканде, начиная с 1863 года служил имамом в одной из ташкентских мечетей и был непосредственным свидетелем захвата города российскими войсками, умер предположительно в 1909/1910 году. Над своим трудом Мухаммад-Салих работал в течение 25 лет, с 1863 по 1887/1888 год167.
Рассказывая о боях за Наманган в октябре—ноябре 1875 года, Мухаммад-Салих писал о военных отрядах, которые пришли на помощь русским, – речь шла, видимо, об отряде Пичугина168:
Они прошли через предгорья селения Шахидан [Шайдан] и остановились у селения Ашти, что напротив селения Ашаба, в непосредственной близости к ним. Мусульмане и моджахеды [воины за веру] этих селений узнали об этом, стрелки того упомянутого сообщества [Ошоба] начали обстреливать [нападавших] и ввязались в бой. То сообщество проявило удивительное усердие и старание. И в это время Мирза Абдаллах бик [Мирза-Абдулла], по прозвищу Пансад-гази [пансад/пансадбаши – пятисотник, гази (гозий) – воин за веру] из потомков Мулла Рахматаллаха Пансад-баши, был известен своей подлостью и презренностью и тем, что был у русских оcведомителем и проводником в горных и степных дорогах, довел до этого селения [Ошоба], затем неизвестное число [число, которое невозможно пересчитать] мусульман из селения Ашаба сделали шахидами [погибшие за веру], ограбили и подожгли дома. От того селения они отправились в Шахидан. Там они избили своими пистолетами одного из ученых людей, а Касимбая, которого люди считали своим близким учителем, и Баба Шахида приказали избить палками. У людей Шахидана они взяли штраф. Из селения Шахидан они обратили свои стремена насилия к городу Наманган. И через некоторое время они [отряд русских] присоединились к христианам.
Описание событий в Ошобе у Мухаммад-Салих-ходжи довольно точно повторяло то, что было в донесении Пичугина и других имперских источниках: карательная экспедиция военного отряда в горы; наказание двух авторитетных лиц (аксакалов) в Шайдане; жестокий бой в Ошобе, закончившийся сожжением кишлака; помощь Мирза-Абдуллы российским военным. Разница была лишь в том, что он чуть более подробно рассказывал об участниках событий с кокандской стороны и не давал никаких деталей о русских, которые для него, как и местные жители для Пичугина, представляли единое враждебное сообщество. Существенное же отличие состояло в том, что автор говорил о поражении, а не о победе, и размышлял о его причинах:
Люди Ферганы вступили в распри. Шли брат на брата, племена на племена, городские на степняков, подчиненные на хозяев, простые люди на бедняков, падишахи на дервишей. И наступил великий разброд. И у смутьянов появилось желание без всяких прав захватывать имущество людей, воссев на трон управления, завладеть их дворами и землями, не брезгуя даже покушением на их жен, детей и их семьи и слуг. А в войне за власть поднявшие смуту и мятеж стали чинить бесправные убийства. Они убивали безо всяких шариатских прав потомков тех, кто многие века и годы были правителями и высокородными принцами, величественными сайидами [потомки пророка Мухаммада], квинтэссенцией и отпрысками благородных семей.
В этом продолжении видно, как Мухаммад-Салих-ходжа сместил акцент с жестокостей, творимых русскими, на печаль и сожаление по поводу смуты и жестокостей, которые совершались в самм кокандском обществе – по отношению друг к другу. Мусульмане перестали следовать шариатским нормам, нарушили предписания ислама, отвергли порядок, который зиждется на мусульманской традиции, – это и стало причиной поражения в борьбе с русскими. Религиозный аргумент и здесь являлся главным риторическим элементом исторического нарратива169.
Впрочем, в представленной религиозной риторике можно увидеть еще и своеобразный местный патриотизм. Сожаление Мухаммад-Салих-ходжи о распрях внутри Кокандского ханства – обратная сторона его представлений об идеальном обществе, которое не имеет внутренних противоречий и способно противостоять иноземному завоевателю; в таком обществе различные социальные слои существуют в гармонии, а власть находится в руках легитимной наследственной элиты. Такое воображаемое ташкентским хронистом общество можно было бы даже назвать протонациональным, хотя для превращения в национальное ему не хватало множества необходимых элементов – представления о едином наименовании, едином языке и единой культуре, светского взгляда на эволюционное развитие истории, сильного антиимперского пафоса и так далее.
И еще одно замечание. Говоря о точке зрения Мухаммад-Салих-ходжи, я не хочу тем не менее создать впечатление, что его позицию разделяли все жители Кокандского ханства. Мухаммад-Салих-ходжа представлял в своем сочинении особую точку зрения религиозного интеллектуала, который выражал интересы определенной социальной и даже региональной группы. Он сам смотрел на Ошобу извне, что тоже можно считать чертой протонационального взгляда, который подразумевает идеологическое превосходство говорящего над аудиторией.
Интерпретация Абдуллаева
Процесс формирования национального нарратива прошел несколько этапов: от мусульманских прогрессистов (джадиды и другие170), затем большевистской антиколониальной критики 1920—1930-х годов, оставившей след во всей дальнейшей советской академической традиции171






