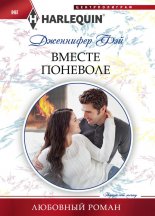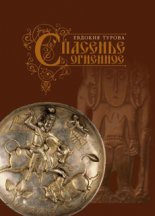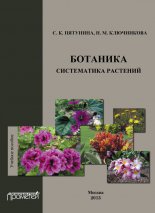Семь столпов мудрости Лоуренс Томас
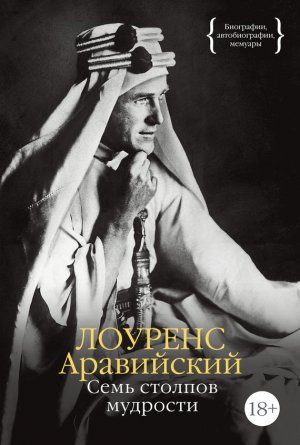
Посвящается С. А.
- Я любил тебя и потому взял в руки людские волны
- и волю свою написал во все небо средь звезд,
- чтобы стать достойным тебя, Свобода,
- гордый дом о семи столбах, чтоб глаза могли воссиять, когда мы придем к тебе.
- Смерть, казалось, была мне служанкой в пути, пока еще не дошли;
- ты нас ожидала с улыбкою на устах,
- но тогда в черной зависти смерть обогнала меня,
- забрав тебя прочь, в тишину.
- Любовь, утомившись идти, нашла твое тело на миг,
- безысходное это касанье во тьме нам было наградой,
- пока нежная длань земли твои черты не узнала;
- и вот ты стала поживой безглазым червям.
- Люди просили возвысить наш труд, воздвигнуть памятник нашей любви,
- но его я разрушил, едва начав; и теперь
- из нор выползают мелкие твари, спеша укрыться
- в тени твоего оскверненного дара.
От автора
Мистер Джеффри Доусон убедил колледж Олл-Соулз предоставить мне в 1919–1920 годах отпуск, с тем чтобы я написал об арабском восстании. Сэр Герберт Бейкер позволил мне поселиться и работать у него в Вестминстере.
В 1921 году был отпечатан сигнальный экземпляр этой книги, и ей посчастливилось стать объектом критики со стороны моих друзей. Я особенно благодарен мистеру и миссис Бернард Шоу за многочисленные и разнообразные, неизменно ценные советы и замечания, в частности, касательно употребления точки с запятой.
Эта книга не претендует на беспристрастность. Прошу рассматривать ее как заметки сугубо личного свойства, основанные на отдельных воспоминаниях. Я не имел возможности делать сколько-нибудь систематические записи: если бы я бесстрастно собирал гербарий впечатлений, в то время как арабы сражались, это стало бы изменой моему долгу перед ними. Любой из моих старших начальников, будь то Уилсон, Доуни, Ньюкомб или Дэвенпорт, мог бы сказать то же самое. В равной мере это относится к Стерлингу, Янгу, Ллойду и Мейнарду, или к Бакстону и Уинтертону, или же к Россу, Стенту и Сиддонсу, Пику, Хорнби, Скотт-Хиггинсу и Гарланду, к Уорди, Беннету и Мак-Индоу, к Бассету, Скотту, Гослетту, Буду и Грею, к Хинду, Спенсу и Брайту, к Броуди и Паско, Гилмену и Гризентуэйту, Гринхиллу, Доусетту и Уэйду, к Гендерсону, Лисону, Мейкинсу и Нанену.
Было много других офицеров и простых солдат, кому это очень личное повествование могло бы показаться недостаточно объективным. Разумеется, еще менее беспристрастным, как, впрочем, и любые рассказы о войне, его сочтут многочисленные безымянные воины, потерявшие веру, – что неизбежно, покуда они сами не возьмутся описать пережитое.
Крэнуэлл, 15 августа 1926 года.
Т. Э. Ш.[1]
Предпосылки арабского восстания
Некоторые англичане, чьим лидером был Китченер, верили, что восстание арабов против турок позволит Англии, воевавшей с Германией, одновременно разгромить ее союзницу Турцию.
Имевшиеся сведения о характере, организации власти арабских племен, а также о природных условиях территорий, которые они населяли, позволили считать, что исход такого восстания будет для них счастливым, и определили стратегию и тактику.
И они сделали все необходимое для того, чтобы такое восстание началось, заручившись формальными заверениями о помощи со стороны британского правительства. Тем не менее восстание шерифа Мекки оказалось для большинства полной неожиданностью и застало врасплох неподготовленных союзников. Оно породило смешанные чувства и вызвало четкое разделение на друзей и врагов, чьи взаимные подозрительность и ревность с самого начала стали угрожать провалом операции.
Глава 1
Некоторые досадные огрехи этого повествования я не могу считать ничем иным, как естественным следствием необычных обстоятельств. Мы годами жили как придется, один на один с голой пустыней, под глубоко равнодушным к людским судьбам небосводом. Днем нас прожигало до костей пылающее солнце, соревновавшееся с сухим, раскаленным, пронизывающим ветром. Ночами мы дрожали от холодной росы, остро переживая свою ничтожность, ибо на мысли о ней не мог не наводить бесконечно глубокий, почти черный купол неба с мириадами мерцающих, словно объятых каждая собственным безмолвием, звезд. Мы – это занятая самою собой, словно всеми позабытая армия, без парадов и муштры, жертвенно преданная идее свободы, этого второго символа веры человека, всепоглощающей цели, вобравшей в себя все наши силы. Свободы – и надежды, в чьем божественном сиянии меркли, стирались прежние, казавшиеся такими высокими, а на деле порожденные одним лишь честолюбием стремления.
С течением времени настойчивая потребность бороться за это идеал превращалась в бескомпромиссную одержимость, возобладавшую над всеми нашими сомнениями – подобно тому, как всадник-бедуин уздой и шпорами укрощает дикого коня. И независимо от нас самих он стал верой. Мы продались ему в рабство, сковали себя некоей общей цепью, обрекли на служение его святости всем, что было в нас хорошего и дурного. Дух рабства ужасен, он крадет у человека весь мир.
И мы отдались не только телом, но и душой неутолимой жажде победы. Мы добровольно отреклись от морали, от личности, наконец от ответственности, уподобившись сухим листьям, гонимым ветром.
Нескончаемая битва притупила в нас заботу о своей и о чужой жизни. Мы равнодушно терпели петлю на своей шее, а цена, назначенная за наши головы, красноречиво говорила об ожидавших нас страшных пытках, если нас схватят враги, но не производила на нас большого впечатления. Каждый день уносил кого-нибудь, а оставшиеся в живых понимали, что они не больше, чем мыслящие куклы в театре Господа Бога.
Действительно, наш Надсмотрщик был жесток, безжалостен, пока израненные ноги могли хоть как-то нести нас вперед. Слабые завидовали тем, чья усталость приговаривала их к смерти, ибо успех виделся таким далеким, а поражение таким близким и неизбежным, таким надежным избавлением от тягот.
Мы постоянно жили то в напряжении, то в упадке; то на гребне волны чувств, то накрываемые их пучиной. Нам была горька эта наша беспомощность, оставлявшая силы жить только для того, чтобы видеть горизонт. Нам, равнодушным ко злу, которое мы навлекали на других или испытывали на себе, казалось зыбким даже ощущение физического бытия; да и само бытие стало эфемерным. Вспышки бессмысленной жестокости, извращения, вожделение – все было настолько поверхностным, что совершенно нас не волновало: законы нравственности, казалось бы, призванные ограждать человека от этих напастей, обернулись невнятными сентенциями. Мы усвоили, что боль может быть нестерпимо остра, печали слишком глубоки, а экстаз слишком возвышен для наших бренных тел, чтобы всерьез обо всем этом думать.
Когда чувства поднимались до этой отметки, ум погружался в ступор, а память затуманивалась в ожидании того, когда рутина наконец преодолеет эти неоправданные отклонения.
Эта экзальтация мысли, оставляя дух плыть по течению и потворствуя каким-то странностям, лишала старого пациента власти над своим телом, была слишком груба, чтобы отзываться на самые возвышенные страдания и радости. Поэтому мы отказывались от своего мыслящего подобия, как от старого хлама: мы оставляли его где-то ниже нас – предоставленное самому себе, лишенное помощи, беззащитное перед влияниями, от которых в иное время замерли бы наши инстинкты. Мы были молоды и здоровы: горячая кровь неуправляемо заявляла о своих правах, терзая низ живота какой-то странной ломотой. Лишения и опасности распаляли этот жар, а невообразимо мучительный климат пустыни лишь подливал масла в огонь. Нигде вокруг не было места, где можно было бы уединиться, как не было и плотных одежд, которые прикрывали бы наше естество. Мужчина открыто жил с мужчиной во всех смыслах этого слова.
Араб по природе своей целомудрен, а давний обычай многоженства почти искоренил внебрачные связи в племенах аборигенов. Публичные женщины в редких селениях, встречающихся на нашем пути за долгие месяцы скитаний, были бы каплей в море, даже если бы их изношенная плоть заинтересовала кого-то из массы изголодавшихся здоровых мужчин. В ужасе от перспективы такой омерзительной торговой сделки наши юноши стали бестрепетно удовлетворять незамысловатые взаимные потребности, не подвергая убийственной опасности свои тела. Такой холодный практицизм в сравнении с более нормальной процедурой представлялся лишенным всякой сексуальности, даже чистым. Со временем многие стали если не одобрять, то оправдывать эти стерильные связи, и можно было ручаться, что друзья, трепетавшие вдвоем на податливом песке со сплетенными в экстатическом объятии горячими конечностями, находили в темноте некий чувственный эквивалент придуманной страсти, сплавлявший души и умы в едином воспламеняющем порыве. Другие в жадном стремлении покарать себя за похоть, которую не в силах были обуздать в какой-то дикой гордыне, исступленно предавались любым разрушительным привычкам, сулившим им наслаждение физической болью или вызывающей непристойностью.
Меня, чужестранца, не способного ни мыслить как они, ни разделять их чаяния, но исполненного чувства долга, послали к этим арабам, чтобы вести их вперед, поддерживая и развивая в них все, что было на пользу Англии в войне, которую она вела. Но если мне не было дано постигнуть их нравы и характер, то единственное, что мне оставалось, – скрывать свои собственные, избегая тем самым трений в общении с ними, не вызывая разногласий и не подвергаясь критике, но вместе с тем упорно расширяя свое негласное влияние. Разделяя тяготы их жизни, я стал для них своим, и не мне быть их апологетом или адвокатом. Теперь, сменив экзотические одежды людей песчаной пустыни на свой старый пиджак, я, казалось бы, вполне могу довольствоваться ролью стороннего наблюдателя событий, покорного вкусам театра нашей жизни… но честнее будет письменно засвидетельствовать, что тогдашние идеи и события развивались естественным путем. То, что сейчас представляется бессмыслицей или садизмом, в походе или сражении казалось либо неизбежным, либо не заслуживающим внимания.
Руки у нас постоянно были в крови, и нам дано было право на это. Мы ранили и убивали людей, едва ли испытывая угрызения совести, – столь недолговечна, столь уязвима была наша собственная жизнь. Скорбная реальность такого существования предопределяла безжалостность возмездия. Мы жили одним днем и принимали смерть, не задумываясь о завтрашнем. Когда появились причина и желание карать, мы вписывали в историю свои уроки орудийными залпами или же просто вырезали непокорных, попавших нам под руку. Пустыня не приспособлена для изощренных, медлительных судебных процессов, и там нет тюрем, куда можно было бы посадить по приговору этих судов.
Разумеется, награды и удовольствия обрушивались на нас столь же неожиданно, как неприятности, но по крайней мере для меня они имели меньшее значение. Бедуинские тропы тяжелы даже для тех, кто вырос в пустыне, а для иностранцев просто ужасны: это настоящая смерть заживо. Когда приходил конец какому-либо переходу или работе, у меня не оставалось сил ни для того, чтобы записать свои ощущения, ни для того, чтобы в редкие минуты досуга полюбоваться возвышенным очарованием пустыни, порой нисходившим на нас в наших странствиях. Красоты в моих заметках отступали перед жестокостью. Мы, несомненно, больше радовались редким мирным передышкам и возможности ни о чем не думать, но сейчас мне вспоминаются скорее ярость сражений, смертельный страх и роковые ошибки. Жизнь наша не сводилась к тому, что вы прочли (есть и такое, о чем говорить хладнокровно просто стыдно), но написал я о том, что в ней действительно было, и о ней самой. Дай Бог, чтобы люди, читающие это повествование, не пустились из ложного романтизма и страсти к неведомому проституировать, на службе другому народу.
Тот, кто отдается в собственность иноземцам, уподобляется йеху из свифтовского „Путешествия Гулливера“, продавшему свою душу тирану. Но человек – не бессмысленная тварь. Он может восстать против них, убеждая себя, что на него возложена некая особая миссия; критиковать их, стремясь превратить в нечто, чем без него, руководствуясь собственными желаниями, они никогда не захотели бы стать. Тогда он мобилизует весь свой прежний опыт, чтобы оторвать их от родной среды. Или же, как случилось со мной, подражает им во всем настолько естественно, что они в свою очередь начинают подражать ему. И тогда, претендуя на место в их среде, он отходит от своей собственной, но претензии эти пусты и совершенно несостоятельны. Ни в том, ни в другом случае он не волен сделать ничего стоящего, ничего такого, что можно было бы по праву назвать его собственным поступком (если, конечно, не думать об обращении в иную веру), предоставляя им возможность на основании этого молчаливого примера решать, что делать или как реагировать на происходящее.
В моем случае попытка годами жить в арабском обличье, вжиться в образ мыслей арабов стоила мне моего английского “я“ и позволила совершенно иными глазами увидеть Запад и нормы его жизни. Мое представление о нем разрушилось без следа. В то же время я был бы не вполне искренен, если бы стал утверждать, что готов влезть без остатка в шкуру араба. Это была бы чистая аффектация. Человека нетрудно сделать неверующим, обратить же в другую веру куда сложней. Я утратил одно обличье и не обрел другого, уподобившись гробу Мухаммеда из нашей легенды, обрекшись глубокому одиночеству и чувствуя презрение – нет, не к людям, – а ко всему тому, что они творят. Такая отстраненность порой настигает человека, опустошенного долгим физическим трудом и продолжительной изоляцией. Его тело продолжает машинально двигаться, а рассудок словно покидает его и критически созерцает из ниоткуда, дивясь тому, что наделало это трухлявое бревно и зачем. Иногда все лучшее, что есть в таких людях, превращается в пустоту, а там недалеко и до умопомешательства, и я верю, что такое может постигнуть человека, попытавшегося смотреть на вещи сквозь призму сразу двух образов жизни, двух систем воспитания, двух сред обитания.
Глава 2
Первой трудностью в понимании сути арабского движения было определить, кто же все-таки они такие, эти арабы. Название этого „синтезированного“ народа год за годом, медленно, но неуклонно меняло свой смысл. Когда-то арабом называли просто аравийца: была страна, которая звалась Аравией. Однако сути проблемы такая связь не раскрыла. Существовал язык, который называли арабским, и именно он в данном случае является критерием оценки. Это был язык, на котором говорили Сирия и Палестина, Месопотамия, а также население большого полуострова, именовавшегося на географических картах Аравийским. До арабских завоеваний эти области населяли разные народы, говорившие на языках арабской семьи. Мы называем их семитскими, но (как бывает с большинством научных терминов) это неправильно. Однако арабский, ассирийский, вавилонский, финикийский, древнееврейский, арамейский и сирийский языки были тесно взаимосвязаны, и сведения об их взаимном влиянии, даже об общем происхождении, подтверждаются нашим знанием. Если облик и обычаи разных арабоязычных народов Азии имеют оттенки, подобные мелким различиям между головками мака, которым засеяно обширное поле, то в основных чертах они очень сходны. Их можно было бы с полным правом назвать собратьями, – собратьями, осознавшими, порой на горьком опыте, свое родство.
Области Азии с арабоязычным населением занимали территорию, очертания которой приближались к параллелограмму. Его северная сторона простиралась от Александретты на Средиземном море, через Месопотамию, на восток к Тигру. Южной стороной был берег Индийского океана от Адена до Маската. На западе эта территория граничила со Средиземным морем, Суэцким каналом и Красным морем и простиралась до Адена. На востоке ее границей были Тигр и берег Персидского залива до Маската. Эта территория, по площади равная всей Индии, была родиной тех, кого мы называем семитами, и на ней так никогда и не осели никакие другие племена, хотя египтяне, хетты, филистимляне, персы, греки, римляне, турки и франки неоднократно пытались это сделать. Все они в конечном счете оказывались разбиты, а их рассеянные представители-одиночки тонули в массе прочно сцементированной семитской расы. Семиты порой и сами делали набеги за пределы этой зоны и, в свою очередь, терялись в чужом для них внешнем мире. Египет, Алжир, Марокко, Мальта, Сицилия, Испания. Сицилия и Франция либо поглощали, либо изгоняли семитских поселенцев. Только в африканском Триполи да в вечном чуде еврейства дальние родственники семитов получили какое-то признание и обрели опору.
Происхождение этих народов остается академической проблемой, но для выяснения истоков их восстания важно понимать сущность тогдашних социальных и политических различий между ними, которые нельзя оценить, не обращаясь к географии. Их массив объединял ряд крупных регионов, большие физико-географические различия между которыми определили различия в образе жизни населявших их народов. На западе этот параллелограмм на пространстве от Александретты до Адена ограничен гористым поясом, именовавшимся на севере Сирией, который, постепенно опускаясь к югу, последовательно назывался Палестиной, Мидианом, Хиджазом и наконец Йеменом. Средняя высота этого пояса над уровнем моря составляет, вероятно, тысячи три футов, с пиками – от десяти до двенадцати тысяч. Он обращен на запад – обильно орошается дождями, обволакивается туманом с моря и плотно заселен.
Южный край параллелограмма образует другая гряда гор, в противоположность первой – необитаемых. Граница его начиналась на наносной равнине, именуемой Месопотамией, южнее Басры переходившей в прибрежное плоскогорье Кувейта и Хасы, до Катара. Большая часть этой равнины заселена. Необитаемые горы и равнины окаймляют безводную пустыню, в сердце которой лежит архипелаг богатых водой густонаселенных оазисов Касема и Арида. Эта группа оазисов была истинным центром Аравии, колыбелью ее самобытного духа и наиболее ярко выраженной индивидуальностью. Пустыня охватывает базисы со всех сторон, делая их абсолютно недоступными для контактов. Сама пустыня, выполнявшая эту важную охранную функцию вокруг оазисов и тем самым определявшая характер всей Аравии, однородна. К югу от оазисов это море непроходимого песка, простирающееся почти до густонаселенного обрывистого побережья Индийского океана, отгораживавшего его от истории арабов и от всякого влияния арабской морали и политики. Хадрамаут, как тогда называли это северное побережье, был объектом истории Голландской Ост-Индии и тяготел скорее к Яве, нежели к Аравии. К западу от оазисов, между ними и горами Хиджаза лежит пустыня Неджд – царство гравия и вулканической лавы, кое-где смешанных с песком. К востоку от этих оазисов, между ними и Кувейтом, расстилается так же усыпанное гравием пространство, но с довольно протяженными участками мягкого песка, делавшего труднопроходимыми проложенные здесь дороги. К северу от оазисов лежал пояс песков, а за ним – гигантская равнина из гравия и лавы, заполнявшая все пространство между восточной частью Сирии и отмелями Евфрата, с которых начиналась Месопотамия. Проходимость этой северной пустыни для людей и автомобильной техники позволила арабскому восстанию добиться легкого успеха.
Горы запада и равнины востока всегда были самыми густонаселенными и деятельными частями Аравии. В частности, на западе горы Сирии и Палестины, Хиджаза и Йемена то и дело оказывались втянуты в орбиту европейской жизни и политики. Этнически эти плодородные, процветающие горы тяготели к Европе, а не к Азии, совершенно так же, как арабы всегда смотрели в сторону Средиземного моря, а не Индийского океана, руководствуясь как своими культурными предпочтениями, так и предпринимательскими интересами, а в особенности экспансионистскими устремлениями, поскольку проблема миграции была в Аравии самой крупной и самой сложной движущей силой, имеющей для нее всеобщее значение. Однако в разных арабских регионах она могла проявляться по-разному.
На севере (Сирия) рождаемость в городах была низкой, а смертность высокой из-за антисанитарии и беспокойной жизни, которую вело большинство населения. Вследствие этого чрезмерные массы крестьян устремлялись в города и поглощались ими. В Ливане, где санитарные условия жизни находились на более высоком уровне, имел место еще больший ежегодный отток молодежи в Америку, что грозило (впервые после эллинской эпохи) изменить облик всей области.
В Йемене дело обстояло иначе. Там не было внешней торговли и отсутствовала изобиловавшая рабочими местами промышленность, которая могла бы создавать скопления населения во вредных для здоровья местах. Таким образом, города оставались исключительно торговыми и по уровню экологии и простоте уклада жизни были сравнимы с обычными деревнями. Поэтому численность населения там медленно, но неуклонно увеличивалась; уровень жизни опустился очень низко, и повсеместно давала о себе знать перенаселенность. Йеменцы не могли эмигрировать за моря. Судан был еще хуже, чем Аравия, и немногочисленным родам, отважившимся отправиться туда, чтобы получить право на существование, пришлось радикально менять образ жизни и отказываться от своей культуры. Они не могли двигаться на север, вдоль горной гряды: этот путь преграждали священный город Мекка и ее порт Джидда; пояс чужестранцев постоянно подпитывался переселенцами из Индии, с Явы, из Бухары и из Африки, весьма жизнеспособными, крайне враждебными семитскому национальному самосознанию и поддерживаемыми вопреки экономическим, географическим и климатическим соображениям искусственным фактором мировой религии. Поэтому перенаселенность Йемена становилась экстремальной, и единственный выход виделся на востоке, в виде захвата силой более слабых общин на его границе, все ниже и ниже по горным склонам вдоль Видиана, полупустынного района крупных водоносных долин Биши, Дауасири, Раньи и Тарабы, текущих в пустыни Неджда. Этим слабым кланам постоянно приходилось уходить от полноводных источников и изобильных пальмовых рощ к скудным родникам и чахлым деревцам, пока они в конце концов не оказывались в зоне, где занятия сколько-нибудь рентабельным земледелием оказывались практически невозможными. Тогда они принимались восполнять убытки от своего бесприбыльного хозяйства разведением овец и верблюдов, и с течением времени само их существование все больше попадало в зависимость от стад этих животных.
Наконец, под очередным нажимом дышавшего им в спину потока чужестранцев население пограничного района (теперь почти полностью скотоводческого) оказалось выброшено из последнего оазиса в девственную пустыню, чтобы превратиться в кочевников. Этот процесс, который следует рассматривать сегодня через призму отдельных семейств и родов, отметив миграцию каждого конкретными фамилией и датой, неминуемо должен был начаться с первого же дня полного заселения Йемена. Видиан к югу от Мекки и Таиф полны памятных свидетельств и названий населенных пунктов, оставленных пятью десятками родов, ушедших отсюда, чьих потомков можно сегодня найти в Неджде, в Джебель Шаммаре, в Хамаде и даже на границах с Сирией и Месопотамией. Здесь был отправной пункт миграции, фабрика кочевников, исток Гольфстрима пустынных бродяг.
Однако образ жизни людей пустыни отличался такой же подвижностью, как у обитателей холмов. Основой экономики было обеспечение питания верблюдов, которые лучше всего размножались в суровом климате нагорных пастбищ с их сочными и питательными колючками. Бедуины жили этим занятием, а оно в свою очередь формировало образ их жизни, определяло распределение земель между племенами и перемещения кланов, вынуждая их переходить соответственно на весенние, летние и зимние пастбища по мере того, как стада поочередно поедали скудную растительность на каждом из них. Рынок верблюдов в Сирии, Месопотамии и Египте не только определял численность населения, которое могла прокормить пустыня, но и строго регулировал стандарт его жизни. Бывало, что и пустыня оказывалась перенаселенной; тогда происходило вытеснение разросшихся родов, и люди, расталкивая друг друга локтями, устремлялись по единственному свободному пути на восход. Они не могли идти на юг, к негостеприимным пескам и морю. Не могли и повернуть на запад, потому что там ступенчатые склоны Хиджаза кишели горцами, извлекавшими все возможные преимущества из своей защищенности. Иногда они направлялись к центральным оазисам Арида и Касема, и тогда, если племена, искавшие себе новый дом, были сильны и энергичны, им удавалось занять часть удобных земель. В противном случае, если сил недоставало, жителей пустыни постепенно вытесняли на север, вплоть до хиджазской Медины и недждского Касема, пока они в конце концов не оказывались на развилке двух путей. Они могли направиться на восток, в сторону Вади Румма или Джебель Шаммара, или же по Батну к Шамие, где могли бы стать прибрежными арабами Нижнего Евфрата, или постепенно подняться по отлогим уступам под Тадмором в северной пустыне – лестнице, ведшей к западным оазисам Хенакии, Хейбару, Тейме, Джауфу и Сирхану, пока судьба не приведет к Джебель Друзу в Сирии, или же напоить свои стада близ Тадмора в северной пустыне по пути в Алеппо или Ассирию.
Но и тогда давление не прекращалось: продолжала неуклонно действовать тенденция вытеснения к северу. Племена оказывались у самой границы земледелия в Сирии или Месопотамии. Благоприятная возможность и голос желудка убедили их в выгодности разведения коз, затем овец, а впоследствии они стали засевать землю в надежде добыть хоть немного ячменя для животных. Теперь они уже не были бедуинами и подобно всем крестьянам начали страдать от опустошительных набегов кочевников. Они стали незаметно приобщаться и к крестьянскому делу и скоро обнаружили, что превратились в землепашцев. Таким образом, мы видим, что целые кланы, родившиеся в высокогорьях Йемена и вытеснявшиеся более сильными кланами в пустыню, невольно превращались в кочевников, стремясь просто выжить. Мы видим, как они бродяжничали, с каждым годом продвигаясь чуть севернее или чуть восточнее, когда судьба посылала им одно из двух – либо хорошую дорогу, либо девственную пустыню, пока в конце концов это не приводило их из пустыни снова к лукошку сеятеля, за которое они брались с такой же неохотой, с какой начинали свой робкий опыт кочевой жизни.
Это был круговорот, укрепивший сообщество семитов. На севере вряд ли нашелся бы хоть один семит, чьи предки в какие-то мрачные времена не прошли через пустыню. Каждый из них в той или иной степени отмечен печатью номадизма, этой глубочайшей и жесточайшей социальной дисциплины.
Глава 3
Поскольку кочевые и оседлые арабы Азии – не две различные расы, а просто разные ступени социального и экономического развития, то резонно ожидать общих черт сходства в их мышлении, и еще естественнее – в любых плодах их деятельности. С самого начала, при первой же встрече с ними обнаруживалась всеобщая чистота и твердость веры при почти математически строгом соблюдении налагаемых ею ограничений, даже порой отталкивающей своими неприемлемыми для европейца особенностями. У семитов не было полутонов в регистре зрительного восприятия. Для этого народа существовали лишь основные цвета, точнее даже только черный и белый, и они всегда воспринимали мир только в его внешних очертаниях.
Это был догматический народ, презиравший сомнения, наши современные лавры и тернии. Они не понимали наших метафизических неопределенностей, нашего самокопания. Им были понятны только истина и ложь, вера и неверие и чужды сдерживающие нас колебания или более тонкие нюансы нашего поведения.
У этого народа черно-белые не только одежды, но и души до самых глубин: не просто в своей прямолинейной ясности восприятия и выражения, но и в оценках. Мысли семитов были свободны только в чрезвычайных обстоятельствах. Превосходной степенью они пользовались очень избирательно. Порой казалось, что они непоследовательны в своих суждениях, но они никогда не шли на компромисс: вплоть до абсурдного финала они следовали логике сразу нескольких несовместимых мнений, не ощущая этой несовместимости. С холодной головой, уравновешенные в суждениях, невозмутимо чуждые порыву, они качались от одной асимптоты другой[2].
Это был ограниченный, узко мыслящий народ, чей инертный умявлял собою невспаханное поле покорного смирения. Его воображение было пылким, но не творческим. В Азии было так мало собственно арабского искусства, что практически можно было бы сказать, что искусства у арабов не было вообще, хотя среди имущих классов встречались достаточно либеральные покровители искусств, которые поддерживали таланты в области архитектуры, керамики или различных ремесел, проявлявшиеся у соседей или среди рабов. Не занимались они и сколько-нибудь заметной промышленной деятельностью. К этому не были приспособлены ни ум их, ни тело. Они не изобретали философских систем и не создавали сколько-нибудь сложной мифологии. Они следовали своему курсу между идолами племени и пещеры. Будучи из всех других народов наименее подвержены болезням, они принимали дар жизни, не задаваясь никакими вопросами, как аксиому. Для них она была неизбежностью, заповеданной человеку, неким узуфруктом, не подлежавшим критике. Самоубийство было невозможно, обычная же смерть не несла горя.
Это был народ эмоциональный, импульсивный, идейный, раса индивидуальной одаренности. Действия этих людей были потрясающи на фоне повседневного покоя, их великие выглядели еще величественнее в сравнении с общим уровнем толпы. Их убеждения были инстинктивными, действия интуитивными. Главным для них были вопросы веры: почти все они монополисты богооткровенных религий. Среди последних выжили три: две из них были экспортированы к несемитским народам. Христианство, переведенное на греческий, латинский и прагерманский языки и проникшееся их далеко не одинаковым духом, завоевало Европу и Америку. Ислам в его по-разному трансформированных вариантах подчинял себе Африку и некоторые части Азии. Все это были семитские успехи. А их неудачи оставались с ними: Уделом окраин их пустынь были остатки ослабленной веры.
Многозначителен тот факт, что полное разрушение павших религий происходило там, где пустыня встречалась с возделанными землями. Это внушалось последователям всех вероисповеданий. Впрочем, то были лишь констатации, лишенные веских доводов; для их авторитетного подтверждения нужен был пророк. Арабы называли число пророков – сорок тысяч, мы записали в свой реестр не меньше нескольких сотен. Среди них не было ни одного из девственной пустыни.
Жизнь их подчинялась определенному шаблону. По рождению они принадлежали к густонаселенным городам, однако непонятное страстное стремление тянуло их обратно в пустыню. Там они жили в течение более или менее продолжительного времени в размышлениях и физическом воздержании, а потом возвращались с отчеканенными в фантазиях посланиями, дабы проповедовать их своим прежним, но уже усомнившимся адептам. Основатели трех крупных вероисповеданий в своей деятельности подчинились именно этому циклу; возможное совпадение воспринималось как закон, подтвержденный параллельными жизнеописаниями бесчисленного множества других – несчастных неудачников, чье истинное призвание мы могли бы оценить не меньше, но время и крах иллюзий не помогли им иссушить души до готовности взойти на костер. Для городских философов стремление уйти в глушь всегда было непреодолимым, и, вероятно, не потому, что там они находили вездесущего Бога, а потому, что в своем уединении отчетливее слышали живое слово, которое затем несли людям.
Общей основой всех семитских верований, победивших или проигравших, была вездесущая идея ничтожности мира. Непримиримое отвержение материи привело их к проповеди наготы, самоотречения, нищеты; атмосфера этой новации беспощадно душила умы пустыни. Первое знакомство с их самоочищением бедностью состоялось у меня в то время, когда мы были уже далеко от холмистых равнин Северной Сирии, у руин романского периода, которые, как верили арабы, были остатками дворца, построенного каким-то принцем для своей королевы. Говорили, что глина для этой постройки ради пущего богатства сооружения замешивалась не на воде, а на драгоценных цветочных маслах. Мои проводники, обладавшие поистине собачьим чутьем, водили меня из одной комнаты с обвалившимися стенами в другую, замечая: „Здесь жасмин, вот это фиалка, а это роза“.
В конце концов меня позвал Дахум: „Идите-ка сюда, понюхайте сладчайший аромат из всех“. Войдя в главные покои, мы подошли к зияющим оконным проемам в восточной стене и стали глотать широко открытыми ртами трепетавший за ними легкий, нематериальный, спокойный ветер пустыни. Его слабое дыхание рождалось где-то за далеким Евфратом и много дней и ночей медленно струилось над выжженной травой к первому рукотворному препятствию на своем пути – стенам нашего разрушенного дворца. Казалось, что, встретившись с ними, ветерок заволновался, замешкался, залепетав что-то совсем по-детски. „Это, – сказали мне мои спутники, – лучше всего: у него нет запаха“. Мои арабы повернули спинами к ароматам и прочей роскоши, выбирая то, чего с ними не могло разделить все человечество.
Бедуин здешней пустыни, родившийся и выросший в ней, всей душой слился с этой обнаженностью природы, слишком суровой, чтобы связать с ней судьбу по доброй воле, – по той очевидной, но невысказанной причине, что здесь он оказался бесспорно и очевидно свободным. Он расстался с материальными связями, комфортом, всякими излишествами, избавился от вещей, осложняющих жизнь, чтобы обрести личную свободу, чреватую голодом и смертью. В голоде как таковом он не видел добродетели; с ним остались маленькие пороки, и даже кое-какая роскошь – кофе, пресная вода, женщины – все, что ему удалось сохранить. В его жизни были воздух и ветры, солнечный и лунный свет, открытые просторы и великая пустота в желудке. Не было ни обычных людских трудов, ни изобильной Природы; лишь небо над головой да земля под ногами, по которой до него не ступал ни один человек. Здесь он неосознанно приближался к Аллаху. Аллах не был для него ни божеством в человеческом образе, ни осязаемым, ни нравственным, ни всеблагим, ни природным: 'achr'omatos, 'aschem’atistos, 'anaph’es[3], то есть непостижимым, но всепоглощающим Существом, истоком всего происходящего, а природа и материя были лишь отражающим Его зеркалом.
Бедуин не мог почувствовать Аллаха в себе: он слишком верил в то, что это он сам пребывает внутри Аллаха. Он не мог представить себе ничего, что было бы или не было Аллахом, единственным в своем величии; и все же такое не исключало простоты, будничности, непритязательности этого всецело здешнего Бога, который был для арабов сутью их пищи, смыслом их походов и страстей, их самых обычных помыслов, духовной опорой и спутником, что было совершенно немыслимо для тех, чей Бог с такой печалью отгораживался от них безысходностью их плотской недостойности и декорумом официального поклонения. Арабы не считали неуместным втягивать Аллаха в свои слабости и вожделения, совершая неблаговидные поступки. Слово „Аллах“ было у них самым употребительным; наше красноречие много теряет от того, что мы называем своего Бога самым коротким и самым неблагозвучным из наших односложных слов.
Эта вера пустыни представляется невыразимой словами, да и мыслью тоже. Она скорее ощущается как некое влияние, и те, кто пришел в пустыню достаточно давно, чтобы не думать об ее огромных пространствах и пустоте, неизбежно приходили к Богу как к единственному прибежищу и генератору ритма существования. Бедуин мог бы быть номинальным суннитом или же номинальным ваххабитом, или чем угодно еще в семитских границах, и принял бы это с легкостью, на манер стражника у врат Сиона, потягивающего пиво и посмеивающегося средь сионистов. У каждого отдельного кочевника была своя богооткровенная религия, не устная, не традиционная, не выраженная, а порожденная в нем инстинктом; и поэтому мы воспринимали все семитские религии (их характер и сущность) как постулирующие пустоту мира и полноту Аллаха; соответственно их выражением были способности и возможности верующего.
Житель пустыни не мог не считаться со своей верой. Он не был ни евангелистом, ни прозелитом. Он пришел к этой глубокой самососредоточенности в Боге, закрывая глаза на мир и на все многообразные возможности, реализацию которых может обеспечить только доступ к деньгам и соблазнам. Он обретал истинную веру, могучую веру, но в каких узких пределах! Бесплодный опыт обкрадывал его, лишая способности сострадать, извращал его человеческое добросердечие, навязывая образ пустоты, в котором он и прятался. Соответственно он мешал не только просто стать свободным, но и быть довольным собой. За этим следовало наслаждение от причинения страданий, жестокость, которая значила больше, чем трофеи. Араб пустыни не знал радости, подобной радости от добровольного сдерживания страстей. Ему приносили наслаждение самопожертвование, самоотречение, самоограничение. Он придавал обнаженности мысли такую же чувственную окраску, как наготе тела. Он спасал свою душу, возможно, и в отсутствие опасности, но в рамках жесткого эгоизма. Его пустыня была превращена в духовный ледник, в котором хранилось в неприкосновенности, но и не совершенствуясь во все времена, его видение единосущности Аллаха. От случая к случаю в пустыню являлись охотники из внешнего мира в надежде отнять у природы поколение, которое можно было бы обратить в свою веру.
В городах этой веры пустыни невозможно было себе представить. Она была одновременно слишком странной, слишком простой, слишком неосязаемой для экспорта и общего употребления. Эта идея, основа веры всех семитских религий, ожидала востребования в городах, но ей предстояло быть сильно разбавленной, чтобы стать нам понятной. Вопли избиваемых были слишком пронзительны для многих ушей: дух пустыни прорывался сквозь нашу грубую оболочку. Пророки возвращались из пустыни со своими отрывочными представлениями о Боге и, словно через закопченное стекло, демонстрировали нам отдельные свидетельства Его величия и блеска, которые в полном объеме ослепили и оглушили бы нас, погрузили в молчание, сделали бы из нас то, что они сделали с бедуинами, превратив в диких, оторванных от действительности людей.
Апостолы в попытках избавить себя и ближних от всего земного согласно слову Господа потерпели неудачу, столкнувшись с человеческими слабостями. Чтобы жить, любой селянин или горожанин должен заполнять каждый свой день радостями приобретения и накопления и, избегая неприятностей, стремиться к вершинам преуспеяния. Блестящее презрение к жизни, доводящее иных до голого аскетизма, приводит человека в отчаяние. Он беззаботно проматывает все что имеет, в том числе и родовое наследство, в неудержимом стремлении к концу. Еврей в брайтонском „Метрополе“, скряга, поклонник Адониса, развратник из злачных мест Дамаска, – все это свидетельства семитской способности наслаждаться и одновременно проявления нервозности, которые на другом полюсе приводили к самоотречению ессеев или ранних христиан, или же первых калифов, находивших пути в рай, бесконечно далекие от нищенства духом. Семиты балансировали между вожделением и самоотречением.
Арабы способны влезть в свою идею как в петлю, потому что не связанная обязательствами лояльность их мышления превратила их в покорных слуг. Ни один из них не выйдет из игры, пока не придет успех, а с ним и ответственность, и чувство долга, и обязательства. Затем идея уходит, и все заканчивается руинами. Без веры их могли принять в любом месте на свете (но не на небе) благодаря их земным богатствам и удовольствиям, которые те доставляют. Но если на этом пути им встречался проповедник какой-либо идеи, которому негде приклонить голову и который кормится подаяниями подобно птицам небесным, они расставались со всем своим богатством ради его вдохновения. Они были неисправимыми детьми идеи, бездумными и лишенными расовых предрассудков; и у них с неизбежностью тело противостояло Душе. Разум их был странным и темным, полным депрессии и экзальтации, не знавшим правил, но более пылким и плодовитым в вопросах веры, нежели любой другой на свете. Это был народ начал, для которого абстракция была сильнейшим побудительным мотивом, процесс – бесконечным мужеством и многообразием, а конечный результат – ничем. Они были неустойчивы как вода и подобно воде могли в конечном счете возобладать надо всем. На заре времен они волнами обрушивались на берега жизни. Каждая волна разбивалась, но подобно морскому прибою уносила хоть крупицу гранита, на который падала, и в один прекрасный день очередная волна получала возможность беспрепятственно прокатиться по тому месту, где когда-то был материальный мир, и Аллах мог появиться на поверхности этих вод. Одну такую волну (и не последнюю) поднял я, раньше, чем это сделало дыхание идеи, и она обрушилась на Дамаск. Откат этой волны, разбившейся о законные обстоятельства, со временем породит новый прилив.
Глава 4
Первое же крупное продвижение на Средиземноморское побережье показало миру способность любого захваченного идеей араба к краткому выплеску бурной физической активности. Но когда запал выгорел, столь же очевидными оказались отсутствие у арабов терпеливости и рутина семитского мышления. Они игнорировали нужды захваченных ими провинций, проявляя нескрываемое отвращение к любой системе, и им пришлось искать помощи побежденных или же еще более враждебных к ним иностранцев в управлении своими рыхлыми зарождавшимися империями. Так в начале Средних веков в арабских государствах стали обосновываться тюрки, поначалу в качестве слуг, затем помощников, быстро превращаясь в злокачественную опухоль, душившую прежнюю политику. Последней фазой этого процесса стала неприкрытая, злобная враждебность, с которой Хулагиды или Тимуриды, удовлетворяя свою кровавую похоть, сжигали и разрушали все, что раздражало их малейшей претензией на превосходство.
Арабская цивилизация по своему характеру была скорее абстрактной, нравственной и интеллектуальной, нежели прагматичной, но отсутствие общественного сознания делало эти превосходные личные качества арабов бесполезными. Они чувствовали себя счастливыми на том историческом этапе: Европа стала варварской, в умах людей стиралась память о греческой и римской цивилизациях. Напротив, свойственная арабам тенденция подражания свидетельствовала о стремлении к культуре и образованию, их умственная деятельность прогрессировала, а государства процветали. Их реальной заслугой было сохранение некоторых достижений античного прошлого для средневекового будущего.
С приходом турок это счастье превратилось в несбыточную мечту. Азиатские семиты постепенно подпали под турецкое ярмо и оказались в состоянии медленного умирания. У них отняли все их достояние. Их умы увядали под леденящим дыханием военного режима. Турецкое правление было полицейским, а турецкая политическая теория такой же жестокой, как и практика. Турки прививали арабам мысль, что интересы любой секты выше патриотизма, что даже самые мелкие заботы провинции превыше нации. Искусно разжигая разногласия между арабами, они сеяли среди них недоверие друг к другу. Арабский язык был изгнан из судов и учреждений, в том числе правительственных, и из высшей школы. Арабы могли служить только государству, жертвуя своими национальными особенностями. Эти меры подспудно отвергались. Семитский протест заявлял о себе многочисленными восстаниями в Сирии, Месопотамии и Аравии против самых грубых форм турецкого внедрения, проявлялось также и сопротивление наиболее коварным попыткам абсорбции.
Арабы не желали поступаться своим богатым, гибким языком в пользу грубого турецкого: наоборот, они привносили в турецкий язык множество арабских слов и хранили сокровища своей литературы.
Они утратили свою географическую принадлежность, национальную, политическую и историческую память, но тем сильнее держались своего языка, утвердив его почти на всей территории отечества. Первейшей обязанностью каждого мусульманина было изучение Корана, священной книги ислама и одновременно крупнейшего памятника арабской литературы. Сознание того, что эта религия принадлежит ему, и только ему дано понять и применять ее на практике, определяло для каждого араба оценку деятельности турок. Потом произошла турецкая революция, падение Абделя Хамида и утвердилось верховенство младотурок. Для арабов горизонт на короткое время расширился. Движение младотурок было мятежом против иерархической концепции ислама и панисламистских теорий старого султана, который, добиваясь положения духовного вождя всего мусульманского мира, надеялся стать и его светским правителем. Молодые политики восстали и бросили его в тюрьму, побуждаемые всплеском конституционалистских теорий суверенного государства. Таким образом, в то время как Западная Европа только начинала подниматься от национализма к интернациональной идее и ввязываться в войны, далекие от расовых проблем, в Западной Азии начинался переход от религиозной соборности к националистической политике и к мечте о войнах уже не за веру или догмат, но за самоуправление и независимость. Эта тенденция проявилась раньше всего и сильнее всего на периферии Ближнего Востока, в небольших Балканских государствах, и поддерживала беспримерную жертвенность в борьбе, целью которой было отделение от Турции. Позднее националистические движения прокатились по Египту, Индии, Персии и наконец охватили Константинополь, где эта тенденция оказалась подкрепленной и конкретизированной американскими идеями в области образования. Эти идеи, вброшенные в исконную духовную атмосферу Востока, образовали взрывчатую смесь. Американские школы с их исследовательской методикой обучения способствовали развитию независимости суждений и свободному обмену взглядами. Без всякой специальной заданности они обучали революции, поскольку в Турции ни один человек не мог стать современным, оставаясь при этом лояльным к режиму, если он по рождению относился к покоренным народам – грекам, арабам, курдам, армянам или албанцам, которых туркам удавалось так долго держать под своим гнетом.
Младотурки, ободренные первыми успехами, увлеклись логикой своих принципов и в знак протеста против панисламистской идеи проповедовали османское братство. Легковерные из числа подвластных им народов – гораздо более многочисленных, чем сами турки – поверили, что их призывают к сотрудничеству во имя строительства нового Востока. Устремившись к этой цели (и начитавшись Герберта Спенсера и Александра Гамильтона), они выдвинули идейные платформы радикальных перемен и провозгласили турок своими партнерами. Турки, напуганные силами, которым невольно позволили заявить о себе, задавили эти очаги так же внезапно, как дали им разгореться. Они провозгласили лозунг Yeni Turan – „Турция для турок“.
Впоследствии эта политика обратит их усилия на освобождение тюркского населения, находившегося под властью России в Средней Азии, однако прежде всего они должны были очистить свою империю от подвластных им народов, которые сопротивлялись режиму. Прежде всего следовало разделаться с арабами, крупнейшим чуждым компонентом Турции. Соответственно были разогнаны арабские депутаты, объявлена вне закона арабская знать. Арабские выступления и арабский язык подавлялись Энвер-пашой более жестоко, чем это делал до него Абдель Хамид.
Однако арабы уже вкусили свободы. Они не могли сменить свои идеи столь же быстро, как поведение, и сломить их крепкий дух было нелегко. Читая турецкие газеты, они в патриотическом экстазе заменяли слово „турок“ словом „араб“. Подавление вызывало в них болезненную жестокость. Лишенные легального выхода своих чувств, они становились революционерами. Арабские общества ушли в подполье, превратившись из либеральных клубов в очаги заговоров. Старейшее арабское общество Ахуа было официально распущено. В Месопотамии его заменил опасный Ахад, глубоко засекреченное братство, состоявшее почти исключительно из арабских офицеров, служивших в турецкой армии, которые поклялись овладеть военными знаниями своих хозяев и обратить эти знания против них же во имя служения арабскому народу, когда пробьет час восстания.
Это было крупное общество с надежной базой в Южном Ираке, где власть находилась в руках бесчестного Сейеда Талеба, этого нового Джона Уилкса арабского движения[4].
В него входили семеро из каждых десяти офицеров, родившихся в Месопотамии, и совет этого общества был связан такой железной дисциплиной, что его члены до самого конца занимали высокие командные посты в Турции. Когда наступил крах, Алленби устроил Армагеддон и Турция пала, один из вице-председателей этого общества командовал разбитыми частями отступавших палестинских армий, а другой вел турецкие силы через Иордан в зону Аммана. Позднее, после перемирия, крупные посты на турецкой службе все еще занимали люди, готовые сменить хозяев по первому слову своих арабских вождей. Большинство из них этого слова так и не услышало. Эти общества были исключительно проарабскими, не желали сражаться ни за что другое, кроме независимости арабов, и не желали видеть преимуществ оказания поддержки союзникам, а не туркам, поскольку сомневались в наших заверениях в том, что мы не посягнем на их свободу. На самом деле многие из них предпочитали Аравию, объединенную с Турцией на условиях полного подчинения, пассивной Аравии под более мягким контролем нескольких европейских держав, разделенную на сферы влияния.
Еще более значительным, чем Ахад, был Фетах – общество свободы в Сирии. Землевладельцы, писатели, врачи, крупные общественные деятели объединялись в это общество с общей присягой на верность, паролями, символикой, прессой и центральной кассой для разрушения Турецкой империи. Пользуясь проворством сирийцев – шумного, словно обезьяны, народа, по ловкости сравнимого с японцами, но весьма недалекого, – они быстро создали громадную организацию. Они искали помощи извне и надеялись, что свободы можно будет добиться путем уговоров и убеждения, без жертв. В постоянных поисках сильного союзника они налаживали связи с Египтом, с Ахадом (члены которого со свойственной месопотамцам суровостью скорее их презирали), с шерифом Мекки и с Великобританией. Деятельность этой организации была глубоко законспирирована, и хотя правительство подозревало о ее существовании, оно не располагало надежными сведениями ни о ее лидерах, ни о членах. Режиму приходилось воздерживаться от преследования Фетаха до момента, когда можно было бы нанести меткий удар, не раздражая сверх меры английских и французских дипломатов, формировавших в Турции современное общественное мнение. С началом войны 1914 года эти агенты покинули Турцию, предоставив турецкому правительству полную свободу для репрессий.
С объявлением мобилизации вся власть оказалась в руках Энвера, Талаата и Джемаля – самых безжалостных, умных и тщеславных из младотурок. Они поставили перед собой задачу полного искоренения нетурецких движений в государстве, в особенности арабского и армянского национализма. Прежде всего они обнаружили весьма привлекательное и удобное оружие в виде секретных документов, оставшихся в здании французского консульства в Сирии. Это были копии переписки по вопросам свободы арабов между консульством и одним из арабских клубов, не связанным с Фетахом. Членами этого клуба были представители более болтливой, но менее опасной интеллигенции сирийского побережья. Турки, разумеется, были в восторге: „колониальная“ агрессия в Северной Африке создала Франции черную репутацию у арабоязычных мусульман. Это помогло Джемалю показать единоверцам, что арабские националисты оказались неверными, предпочтя Францию Турции.
Разумеется, для Сирии подобные разоблачения не были новостью, но среди членов общества были известные и уважаемые люди, в том числе университетские профессора; их арест и осуждение, ссылки и казни глубоко потрясли страну, и арабы Фетаха поняли, что, если они не воспользуются этим уроком, их судьба будет точно такой же. Армяне были хорошо вооружены и организованы, но руководители предали их. Они были разоружены и постепенно истреблены: мужчинам устроили резню, женщины и дети, которых грабил каждый прохожий, гибли на зимних дорогах при выселении в пустыню, лишенные одежды и пищи. Младотурки истребили армян не потому, что те были христианами, а потому, что были армянами. По этой же причине они загоняли арабов-мусульман и арабов-христиан в одни тюрьмы и вешали их вместе на одной виселице. Джемаль-паша подвергал все без разбора классы, состояния и конфессии в Сирии одинаковым притеснениям и опасностям, создавая тем самым предпосылки для всеобщего восстания.
Турки подозревали арабов, служивших в армии, и надеялись использовать против них тактику расселения, как против армян. С самого начала возникли транспортные затруднения, и в 1915 году в Северной Сирии произошла опасная концентрация арабских дивизий (около трети солдат турецкой армии и были арабоязычны). При первой возможности их расформировывали, направляя маршевыми колоннами в Европу, на Дарданеллы, на Кавказ или на Канал, куда угодно, лишь бы они оказались поскорее на передовой, или же отводили подальше от соотечественников, чтобы те не могли ни видеть их, ни оказывать им помощь. Была объявлена „священная война“, дабы придать младотурецкому лозунгу „Единство и прогресс“ подобие некоей традиционной легитимации – вроде боевых порядков арабского халифа – в глазах клерикалов. И шерифу Мекки было предложено – или скорее приказано – откликнуться на этот лозунг.
Глава 5
Положение шерифа Мекки в течение длительного времени было ненормальным. Титул „шериф“ предполагал происхождение от пророка Мухаммеда по линии его дочери Фатимы и ее старшего сына Хасана. Чистокровные шерифы были включены в родословную – громадный свиток, находящийся в Мекке под охраной эмира, выборного шерифа шерифов, благороднейшего и старшего над всеми. Семья пророка, насчитывавшая две тысячи человек, последние девять столетий осуществляла в Мекке светское правление.
Старые османские правительства относились к этому клану пэров со смесью почитания и подозрительности. Поскольку они были слишком сильны, чтобы их уничтожить, султан спасал свое достоинство тем, что торжественно утверждал эмира. Это формальное утверждение спасало лишь на определенный срок, пока турки не сочли, что Хиджаз им нужен как непреложная собственность, как часть обустройства сцены для нового панисламистского подхода. Успешное открытие Суэцкого канала позволило им поставить гарнизоны в священных городах. Они проектировали Хиджазскую железную дорогу и усиливали свое влияние на племена с помощью денег, интриг и военных экспедиций.
По мере того как власть султанов укреплялась, они старались все больше самоутвердиться рядом с шерифом, даже и в самой Мекке, и не упускали случая сменить шерифа, окружившего себя слишком большой пышностью, и назначить преемником представителя соперничающего семейства в надежде извлечь обычные выгоды из этого соперничества. В конце концов Абдель Хамид отправил кое-кого из этого семейства в Константинополь, в почетный плен. В их числе оказался будущий правитель Хусейн ибн Али, которого держали в тюрьме почти восемнадцать лет. Он воспользовался этим, чтобы дать своим сыновьям – Али, Абдулле, Фейсалу и Зейду – современное образование и возможность накопить необходимый опыт, который впоследствии помог им привести арабские армии к успеху.
Когда пал Абдель Хамид, менее изощренные младотурки пересмотрели его политику и вернули шерифа Хусейна в Мекку в качестве эмира. Он сразу же взялся за беспрепятственное восстановление власти эмирата и упрочение своей позиции на прежней основе, поддерживая тесный контакт с Константинополем через своих сыновей – вице-председателя турецкого парламента Абдуллу и гласного от Джидды Фейсала. Они держали его в курсе политической атмосферы в столице до самого начала войны, когда поспешно вернулись в Мекку.
Развязывание войны вызвало трудности в Хиджазе. Прекратилось паломничество, а с ним – доходы и бизнес священных городов. Были все основания бояться, что в порты перестанут приходить индийские суда с продовольствием (ведь номинально шериф был подданным врага). А поскольку провинция почти не производила собственного продовольствия, она неминуемо должна была оказаться в опасной зависимости от доброй воли турок, которые могли уморить ее голодом, закрыв Хиджазскую железную дорогу. Ранее Хусейн никогда не бывал в положении отданного на милость турок; в данном же, весьма несчастливом случае они особенно нуждались в том, чтобы он примкнул к их джихаду, священной войне всех мусульман против христианства.
Для того чтобы эта война стала действительно популярной, она должна была получить поддержку со стороны Мекки и в этом случае могла утопить Восток в крови. Хусейн был почитаем, практичен, упрям и глубоко набожен. Он чувствовал, что священная война доктринально несовместима с агрессией и абсурдна в союзе с христианской Германией. Поэтому он отказался от турецкого предложения и одновременно обратился с полным достоинства призывом к союзникам – не дать провинции умереть от голода, поскольку его народ совершенно не виноват в сложившемся положении. В ответ турки немедленно установили частичную блокаду Хиджаза, введя контроль движения на железной дороге, перевозившей паломников. Британия оставила свое побережье открытым для судов с продовольствием, движение которых подпадало под специальное регулирование.
Однако требование турок было не единственным из полученных шерифом. В январе 1915 года Йисин, возглавлявший месопотамских офицеров, Али Реза, глава офицеров Дамаска, и Абдель Ганн эль-Арейси, действовавший от имени гражданского населения Сирии, направили ему конкретное предложение о подготовке военного мятежа в Сирии против турок. Угнетенный народ Месопотамии и Сирии, комитеты Ахада и Фетаха взывали к нему как в отцу арабов, мусульманину из мусульман, величайшему из князей, старейшему и знатнейшему о спасении от зловещих козней Талаата и Джемаля.
Хусейн, как политик, как правитель, как мусульманин, как реформатор, а также как националист, был вынужден прислушаться к их призыву. Он послал своего третьего сына Фейсала в Дамаск для обсуждения планов этих людей и для подготовки доклада. Старшего сына, Али, он отправил в Медину с приказами о тайном формировании любой ценой отрядов из деревенских жителей и из мужчин хиджазских племен и о поддержании их в состоянии готовности к действиям по зову Фейсала. Политику Абдулле, второму сыну, он поручил вступить в переписку с Британией для выяснения ее позиции в отношении возможного восстания арабов против Турции.
В январе 1915 года Фейсал сообщил, что местные условия благоприятны, но что общий ход подготовки войны складывается вопреки их надеждам. В Дамаске находились три дивизии арабских войск, готовые к восстанию. Две другие дивизии в Алеппо, проникнутые идеей арабского национализма, наверняка должны были присоединиться, если начнут другие. И по эту сторону Тауруса была только одна турецкая дивизия, так что имелась полная уверенность в том, что восставшие завладеют Сирией с первого же удара. С другой стороны, общественное мнение не было готово к крайним мерам, а военные не сомневались, что войну выиграет Германия, и выиграет быстро. Если же, однако, союзники высадят свой Австралийский экспедиционный корпус (готовившийся в Египте) в Александретте и таким образом прикроют сирийский фланг, тогда было бы мудро и безопасно заключить сепаратный мир с турками.
Последовала задержка, поскольку союзники двигались на Дарданеллы, а не на Александретту. Фейсал следовал за ними, чтобы получить из первых рук информацию о положении в Галлиполи, поскольку крушение Турции должно было стать сигналом для арабов. Затем последовала приостановка на несколько месяцев дарданельской кампании. В этой бойне была уничтожена османская армия первой линии. Урон, причиненный Турции последовательными действиями Фейсала, был настолько значителен, что он вернулся в Сирию, считая, что скоро наступит момент для возможного удара. Однако за последнее время внутренняя ситуация изменилась.
Сирийские сторонники Фейсала были либо арестованы, либо скрывались, а их друзей вешали по политическим обвинениям. Благоприятно настроенные арабские дивизии были либо переброшены на дальние фронты, либо переданы по частям в турецкие соединения. Арабское крестьянство задыхалось в когтях турецкой воинской повинности, и Сирия оказалась распростертой перед беспощадным Джемалем-пашой. Возможности испарились.
Фейсал писал отцу о необходимости дальнейшей отсрочки выступления до полной готовности Англии и до максимального ухудшения положения Турции. К сожалению, Англия находилась в плачевном состоянии. Ее разгромленные силы отступали от Дарданелл. Затянувшаяся агония Кута была на последней стадии, а мятеж сенусситов, совпавший по времени с вступлением в войну Болгарии, создавал англичанам угрозу с новых флангов.
Положение Фейсала было крайне опасным. Фактически он оказался отданным на милость членов тайного общества, чьим председателем был до войны. Ему не оставалось ничего другого, как жить в качестве гостя Джемаля-паши в Дамаске, освежая свои военные знания, а его брат Али поднимал войска в Хиджазе под тем предлогом, что он и Фейсал поведут их на Суэцкий канал, в помощь туркам. Так Фейсалу как хорошему офицеру на турецкой службе пришлось жить при штабах и молча сносить оскорбления, которым подвергал его род грубый Джемаль.