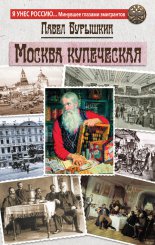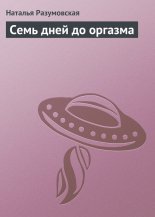Герой не нашего времени. Эпизод II Полковников Дмитрий

Блин, слетелись на этих артистов… Эх, взять бы еще с Царева самое страшное пионерское слово, что на деле поддержит артиллерией…
Внезапно перед ним грохнулась еще одна кружка пива, но он поморщил нос и ушел, не замечая огорченного взгляда официантки. Если мужчина может делать друзьям подарки ценой более чем ее три месячных зарплаты…
Майя взглянула на мужа. Он теперь один, и как искажено его лицо! Совсем не ревностью, она бы распознала сразу.
Что-то странное происходит, если его собеседник не только помрачнел, но и стремительно покинул здание.
А вокруг нее толпились люди, прося спеть вновь. Она не отказала.
«Мы мчались, мечтая постичь поскорей, грамматику боя, язык батарей».
Вот теперь Ненашев, с едва заметной усмешкой, смотрел на Майю. Стихи Светлова знали многие, но вот так резко, почти аллегро, начали петь в середине шестидесятых. Похоже, Панов угадал эффект, выхолостив лишь один куплет.
Польку четвертый раз вызывали на бис. А один командир с орденом боевого Красного Знамени чуть не плакал. Как же она сказала: «для тех, кто дрался под испанским небом».
Тот полковник тоже поддался общему чувству, запоминая слова «над нами коршуны кружили, и было видно, словно днем». Только поет она неправильно, «Юнкерсы» из эскадрильи «Кондор» висели над их головами.
Отдав Майе песни, Панов старался не перегнуть.
Он долго вспоминал знакомые тексты, выбирая те, где поется о товариществе, любви, преданности, мужестве и надежде. Скоро рухнут довоенные стереотипы. Людям надо опереться на эти вечные ценности, а не на казенные слова пропаганды. Радио и газеты еще долго будут следовать старой линии, а история продолжать катиться по старым рельсам.
Панов и Майю сделал оружием против немцев. Ненавидишь, так воюй музыкой и текстами.
Но не нужен в 41-м Высоцкий. Вреда больше чем пользы. Понять его песни можно, лишь пережив горечь поражений, страх окружения, панику, неразбериху, смерть друзей.
Панов поморщился. Жив еще момент, про который после «эпохи гласности» все забывают.
Цензура, она, родная, иначе пани не придется хвастаться новой манерой исполнения. И, вообще, песнями. Посадят, не посадят, но даже в детский сад на утренник не пустят.
Ходит по Москве товарищ Садчиков, ответственный за культурный репертуар партийный и ученый кандидат наук, а с тридцать восьмого – главный уполномоченный по военной цензуре.
Тут не забалуешь. К делу подход серьезный. Перед самой войной уполномоченный успешно отчитался за компанию по ликвидации политически недопустимых имен среди подопечных несознательных животноводов. «Лениных» и «Сталиных» там не было, но бычки, именованные ранее «Наркомами» теперь дрожали при крике «Наркоз!»[529] А что, все согласно присланным из центра рекомендациям.
И до сих пор дурь идет по земле с серьезным выражением лица.
Когда Чебурашку заставили лечь вверх ногами, а после обвели мелом на Литейном мосту в Питере, образовав, тем самым эротично встающий символ, власть, вместо поливальной или пожарной машины, вызвала пресс-конференцию, заставив ржать над собой целый город.
Но стихи Суркова «В землянке» посчитали упадническими. Пришлось менять текст. Панов помнил самый ранний вариант сорок второго, где «мне дойти до тебя нелегко, все дороги пурга замела»[530].
«Смуглянка» – «несерьезная» песня ждала конца сорок четвертого, пока не попалась на глаза Александрову, руководителю главного ансамбля Красной Армии.
Потом возникло убеждение, что после Победы людям не нужны трагические песни, словно не оставила война после себя горя. Нет, редакторы их слушали, плакали, вытирали слезы, а после, будто заранее сговорившись, объявляли: «такое мы на сцену/в эфир не пустим»[531].
А может так и нужно? Думать о живых, поднимать из руин страну?
Послевоенную криминальную статистику Панов знал, как было нелегко возвращать ожесточившихся людей обратно к мирной жизни: «Говорят, мостов осталось мало, значит нужно больше дать металла. Нелегко? Но я – бывший фронтовик, да я к трудностям привык».[532].
Однако, музыку и слова, что тронули душу и сердце, люди не забыли.
Будете в Воронежской области, посмотрите на стоящий в Семилуках настоящий «серый камень гробовой»[533].
В шестидесятом году на официальном концерте, после четырнадцатилетнего перерыва, Марк Бернес рискнул спеть «Враги сожгли родную хату» и многотысячный зал встал, и так слушал песню до конца.
И «День Победы» Тухманова и Харитонова в семьдесят пятом году не пошел сразу, пока «чуждый народу фокстрот» на День Милиции не спел Лещенко.
Но… лучше все же так. Настоящая вещь всегда пробьет себе дорогу.
В его обществе человек, обреченный властью вычеркивать и вырезать всю гниль, окончательно впал в маразм, забывая о простой санитарной гигиене.
Панов поморщился, «сиськи и письки» еще ничего, по сравнению с ощущениями, полученными от очень пиаристого «великого» фильма. Уши и глаза сразу захотелось вымыть с хозяйственным мылом.
Майя ликовала. Максим сотворил чудо. И где эти, его авторы? Почему он сказал, что их еще нет?
В ожидании предстоящего банкета в здание вернулись московские артисты. После второй-третьей рюмки появились и первые предложения. Мол, будете в столице, то тогда… Вы иностранка? Ах, нет! Она жена советского командира!
Это все меняет! Своеобразная манера исполнения, милый акцент, несомненно, вызовет интерес у столичной публики. Ничего-ничего, репертуар мы вам подберем.
Майя удивлялась, как штамп в новеньком паспорте мгновенно сделал ее своей. Она теперь тоже «советка» и «большевичка». И какая у них смешная, но милая мода, одевать вместе туфли любого цвета и белые носочки!
Она, сменив статус, теперь легко приобщалась к новой обстановке.
Ох, Ненашев, как с тобой одновременно легко и сложно.
А какие рядом роились огнедышащие комплименты. Командиры красных так и норовили перенять нравы покоренной Польши… Или тех «друзей», нелестно обзываемых отцом? Максим правильно предупредил, про «боевых офицеров».
«Первый сокол – Ленин, Второй сокол – Сталин. Возле них кружились Соколята стаей…», следующая песня быстро привела публику в чувство.
На секунду ее майор, сложив губы трубочкой, подмигнул ей.
Максим объяснил Майе, что у профессии певицы в СССР есть некоторые неизбежные и обязательные издержки. Но можно так не делать, пусть самостоятельно определит замах на паркет больших и малых народных театров.
«Я его ненавижу, как Гитлера», сказала она.
«Тогда думай, где хочешь остановиться», ответил он, далее стараясь подобрать наиболее простые и понятные слова.
Панов никогда не считал отца народов добрым дедушкой, но какой странный, необъяснимый логикой парадокс!
Люди, ходившие в лаптях и пахавшие сохой, стали неумелыми рабочими. Их дети – мастерами. Следующее поколение – инженерами, а дальше так случилось, что нарожали, выкормили и вырастили они «гуманитариев», твердящих про «потерянное поколение» и плачущие, что не досталась им та, былая и «счастливая» крестьянская доля. Круг замкнулся, но что-то в деревню массы не едут.
«Как хочешь. Ты умная девочка, но что есть у нас, то есть. И был у вас такой человек, дедушка Пилсудский, после смерти которого, пошло в Польше все наперекосяк. И не оставил вам преемника».
Майя неожиданно успокоилась. Ой, Ненашев, как ты непрост!
Да, так и шли у них дела перед проклятой войной. Отец, придя с похорон маршала, все сокрушался: ждут Польшу плохие времена. Никто не станет думать о державе. Продажные политики передерутся и погубят страну.
Когда ухаживания становились слишком назойливыми, она, как броней, прикрывалась нежданным мужем. Перед взглядом ее майора сдувались все. Конечно, с таким-то лицом. Просто памятник на пьедестале. Вот возьмет и скажет, как у этого, русского Булгакова: «Почто боярыню обидел, смерд?»[534]
Она неожиданно представила Ненашева своим импресарио в Варшаве. Великолепно. Самый верный способ стать единственной примадонной Польши. Остальных Ненашев испепелит взглядом или превратит в каменные статуи.
Панов, глядя на ее насмешливое лицо, криво улыбнулся. Потому как, никто пока не умер, все еще живы, все, все.
Примерно так все длилось до одиннадцати, а потом, со словами «нам пора», Ненашев пресек все разговоры и увел ее из красивого зала.
Внизу их ждали. Знакомый шофер и солдат, который тогда приходил с Максимом чинить забор, но в новом обмундировании, щегольской фуражке и наганом в кобуре. Медаль саперу не дали, но зато дали отпуск. Но не это главное, в машине сидела ее мать с каменным выражением лица.
Ближе к полуночи подали поезд, и на вокзале началась большая суета. Освещения было мало, и в поисках своего вагона люди метались в один конец состава, в другой…[535]
— Всем стоять! Дайте дорогу! — прогудел почти над ухом Майи чей-то голос.
Между ними внезапно возник оцепленный коридор, по которому люди в синих фуражках пронесли один, а затем второй тяжелый ящик.
«Вывозят картотеку, — проводил их глазами Ненашев. — Все же нашлись в Бресте разумные люди».
Первую директиву, связанную с войной, в НКГБ СССР Меркулов отдаст в воскресенье, в девять часов десять минут[536].
Однако, в пассажирский поезд чекисты ничего грузить не стали, а проследовали куда-то дальше, к эшелону с одним пассажирским вагоном и паровозом, видимо, сейчас набиравшим воду.
«Ай-яй-яй, Панов. Ты этого не учел, верно?»
Ненашев нахмурился. Да чтоб они лопнули со своей вечной секретностью! Все, что связано с картотекой госбезопасности, тайна покрытая мраком. Хотя, не верно – молчи-молчи и юли-юли.
Авторитетный ветеран КГБ города Бреста в газете утверждал, что вывез архив старший лейтенант, но герой был убит бомбой[537].
Представитель обкома в докладной записке 41-го года отписал, что сотрудник и следовавший с ним товарищ грохнуты их группой лично. Обознались, приняв за фашистских диверсантов[538].
Но расстрелы по захваченным спискам немцы в июне повели. Ликвидировали негласную агентуру чекистов, больше трехсот человек, обнаружив бумаги в одном сейфе.
За несданные в секретную часть перед отпуском документы офицера серьезно наказали. До конца войны в «архипелаге» он чем-то руководил в лагере. Саша не придумывал, цитируя газетный текст.
Ну что же, конвой в вагоне должен испугаться, но большей частью уцелеть.
Отменить нападение поляков на эшелон нельзя.
Как иначе? Нарушится цепочка старательно выстраиваемых им «случайных» событий. «Бить по траве, чтобы вспугнуть змею» или как за счет одного процесса вызвать другой, машинально вспомнил Панов стратагему из китайского трактата.
Размен тридцать человек на, примерно, двадцать тысяч еще оставшихся в крепости и городе. Панов считал всех – и военных и гражданских. Неплохо, если из города успеет уйти хотя бы половина.
«Богу привет и привет Сатане», именно так. За два тысячелетия сознательной истории человечества суть войны не менялась. Даже мировая гармония стоит слезинки ребенка, и не надо перевирать то, что бормотал Алеша Карамазов, герой Достоевского, закончив словами «Я тоже хочу мучиться».
А как еще? Панов вздохнул, вчера разведка положил на стол Сталина шифродонесение резидентуры НКГБ из Лондона: Черчилль планирует нанести бомбовый удар по нефтепромыслам в Баку[539]. Десятого мая самый высокопоставленный официальный сумасшедший рейха Гесс выбросился с парашютом над Англией. Так чему же верить?
У входа в тамбур Майя растерянно обернулась. Почему все так?
Прощальный поцелуй стал слишком официальным. Нет, просто дежурным. Какие сухие губы у Максима. Она старалась держаться бодро, а он, наверное, не замечал, что творится в ее душе. Никто из них не улыбался. А так хотелось уткнуть нос в воротник его гимнастерки, стремясь надышаться родным запахом на все время разлуки.
Но мама лишь благожелательно кивнула. Она радовалась, что Майя, наконец-то, перебесилась, хотя бы так обретя мужа.
— Отправление, граждане, — предупредил проводник.
Поезд двинулся, поплыло окно, оставляя на перроне какого-то сердитого Ненашева, потом огни исчезли. Темнота, словно и нет ничего в мире, кроме вагона, идущего на восток.
Майя с ненавистью посмотрела на свое взъерошенное отражение в темном стекле вагона. Она находилась в смятении от того, что все события последних дней промелькнули с пугающей быстротой, и тут же, неожиданно для себя, всхлипнула и заплакала. Было жаль и погибшего в проклятом городе отца, и своего недолгого счастья, будто навсегда оборванного этим коротким прощанием.
В два часа ночи поезд прибыл на станцию Береза-Картузская, где простоял чуть ли не час. Потом осторожно двинулся вперед, и людям открылась жуткая картина.
Рядом, на разъезде, догорали два пассажирских вагона.
Свет пламени высвечивал какие-то обломки, разбросанные вещи и выложенную на земле небольшую линейку из человеческих тел. Крушение? Диверсия?
— Граждане пассажиры, прошу без паники. Немедленно отойдите от окон! — чуть не закричал проводник. Он сам не понимал в чем дело.
Поезд «Москва-Брест», в котором возвращался из отпуска начальник погранотряда майор Ковалев, обстрелял неизвестный самолет. С ближайшей станции Ивацевичи начали звонить в дорожный отдел милиции на Брестском вокзале, но связь прервалась.
Глава двадцать восьмая или «нет в моем сердце зла». (22 июня 1941 года, воскресенье. Осталось 4 часа 10 минут)
В десять часов вечера в батальон Ненашева приехала кинопередвижка.
С полуторки сгрузили небольшой экран, диагональю чуть больше двух метров. Укрепили его на двух воткнутых в землю штангах и сверху, наверно для контрастности, натянули брезентовый кожух. Кино-то показывали из кабины, стоящего за ним автомобиля. Два «марсианских» треножника с установленными динамиками расставили по бокам.
Зрителей малый размер «простыни» не смущал. Собралось на «сеанс» множество. Кто-то догадливый засел рядом с машиной. Не страшно, что герои сражаются левой рукой, главное сюжет.
Одно название картины гарантировало аншлаг. Странно, но почему-то не видно местных жителей. Когда кино привозили в прошлый раз, белели среди защитной формы их платки и рубахи. Не знали они, что в эти минуты селяне закапывают ценное имущество глубоко в землю.
Чипсов и колы не было, как и последнего ряда для поцелуев. Но почему-то и семечками в карманах сейчас по сторонам не плевались, а завороженно смотрели на экран.
«— Вставайте, люди русские! На славный бой, на смертный бой!».
В ответ на гремевшую песню люди в домотканой белой одежде, в высоких шапках, вылезали из ям и землянок, куда загнала их вражья сила. Согласно кивая, слушали воеводу, и под слова «за отчий дом, за русский край» шли на войну. Жены, матери, дети смотрели вслед. Нет, не все.
Вот совсем подросток, мальчик, схватил топор и ушел вслед за ополчением. Ручеек ушедших на битву с проклятым ливонским орденом постепенно превращался в людскую реку. Простые новгородцы, а не бояре, шли к Александру Невскому. А он с дружиной входил в город под красным знаменем.
То, что знамя и плащ у князя обязательно красные, знали давно, пусть это и черно-белый фильм.
«На родной Руси не бывать врагу!».
Иволгин удивленно наблюдал, как затих всякий разговор. Чуть ли не с открытым ртом, завороженно, люди смотрели в экран.
Мало того, кто-то встал от возбуждения, словно готовясь немедленно пойти под знаменем князя биться с псами-рыцарями Тевтонского ордена за русскую землю.
А как орали, предупреждая… «Не части!». Но предательски коварный топор немца-рыцаря вновь упал на шею обессилевшего в битве отрока-воина…
Панов специально, правдами и неправдами, выбивал на последний мирный вечер именно этот фильм. Конные рыцари превратятся в танки с белыми крестами, а кнехты станут цепями идущей на них немецкой пехоты.
На картине лежит странный запрет. Нельзя смотреть бойцам, но в Дома Красной Армии фильм вернулся в начале апреля[540].
На другом берегу гауптман построил батальон.
Скоро должны объявить особый приказ фюрера[541].
Через десять минут раздался шум мотора, прибыл командир полка, в полосе наступления которого начнет работать их батальон.
После кратких приветствий, синий луч фонарика высветил коричневый конверт, распечатанный на глазах. Теперь в его руках белел листок с приказом.
— Внимание!
Наступила тревожная пауза, кровь напряженно пульсировала в ушах. Вот оно! Настало! Сейчас определиться их судьба.
— Солдаты Восточного фронта! Долгие месяцы я вынужден был сохранять молчание. Однако пришло время, когда я смог открыто обратиться к вам…
Гауптман потрясенно слушал последние слова Адольфа Гитлера.
Превентивный удар необходим для завершения этой великой войны и спасения европейской культуры. Красная зараза покушалась на сам образ их жизни. В их руках будущее Германского рейха и судьба цивилизации. Да поможет им Бог в священной битве.
Пора и ему сказать слова:
— Солдаты! Товарищи! Не забывайте, что жидо-большевизм нанес Германии удар ножом в спину во время Первой мировой войны! Он виновен во всех несчастьях немецкого народа. Но та битва не закончена, она продолжается и сегодня, в этот час! Товарищи, не уроните честь отцов и дедов! Покажем нации, какие мы парни![542]
Проорав традиционный «Хох» в ответ, они услышали далекий и воодушевленный рев сотен глоток с русского берега. Что там происходит? Неужели и большевики ринутся на них на рассвете?
— Батальон, смирно!.. Вольно!.. Разойдись!
Для парней настало время обсудить новости.
— Только подумаешь, и еще одна война!
— А как же пакт о ненападении между Германией и Россией?
— Ты слышал, они готовы ринуться на нас!
— Не стони. Мы покончим с русскими за три-четыре недели!
— Вряд ли, три-четыре месяца…
— Эй, не забывай, какая у нашего Адольфа фантастическая голова. Это будет окончательный триумф над Версалем. От нас всего лишь требуется еще один блицкриг.
— Вот загнул, как на митинге. Ты не в партии, сынок…
— А ты что молчишь, Франц? — в роте тот солдат слыл мрачным пессимистом.
Вот и сейчас тень висела на его лице. Что, впрочем, не мешало нести ему в одной руке полный котелок горохового супа, а в другой – хлеб и порцию конской колбасы. Пока все рассуждают, можно спокойно набить брюхо, добыв на кухне немного лишнего.
— Фюрер, конечно, гениальный человек, но думаю, год.
— Не каркай! Иначе положим тебя в братскую могилу сверху.
В ответ Франц надул толстые щеки и зло сожмурил глаза:
— Что хотел, услышал? Заткнись! Из этого дерьма не всем придется вернуться домой!
— Нет, он шутник. Не помнит, сколько недель ушло на Польшу? А как под нас легла Франция?
— Да, галлы окончательно выродились. Послушные бараны!
— Зато девчонки там просто прелесть! Стройны, как тополь!
— По моим подсчетам война должна закончиться в конце июля, и я назначил свое бракосочетание на второе августа! — многозначительно сопя, кто-то выразил свое мнение[543].
— Ты хороший математик, Гельмут, но твоей невесте придется подождать. Говорят, в России совсем нет дорог и полно грязи, приятной лишь свиньям…
— Слушай, Карл, думай, про что вякаешь.
— Хорошо, тогда мой старик говорил, что нет ничего лучше сала из тех свиней к домашнему шнапсу. А какую там делают кровяную колбасу, не хуже, чем в Вестфалии…
— Кончай голосовать за коммунистов, а не то вставлю тебе клизму из того, что приготовил на ужин наш повар.
Смех разрядил обстановку.
— Вилли, а ты чего?
Тот отложил письмо:
— Гамбург сильно бомбят англичане. Отец с семьей перебрался в Дрезден. Там безопаснее. Сестра рада. Написала, что посетила музей Карла Мая и теперь в восторге. Еще ввели карточки на фрукты и картофель.
Кто-то затянул «Эрика, как мы тебя любим». Все, как всегда. Надо, так надо. Фюрер, наконец, знает, что делает. После долгих споров, бесед, вопросов и сомнений солдаты успокоились. Главное, наступила определенность, прервавшая изматывающее томительное ожидание[544].
Прошлые победы воодушевляли даже самых мрачных пессимистов. Ну и ладно, пусть год! Когда они со славой вернутся на немецкую землю, их снова начнут обнимать, целовать, приветствовать, ласкать, забрасывать цветами, шоколадом и конфетами. Не всех, но каждый надеялся, что ему повезет.
Командир разведбатальона поднялся на наблюдательную вышку.
— Что там происходит у большевиков?
— Все, как в обычную субботу. Смотрят кино!
«Точно, варвары! Ничего, мы научим вас культуре!» — подумал гауптман, представляя, как орет толпа волосатых и грязных питекантропов в шкурах, в кривых руках вздымавшие дубины.
Живут беззаботно, руководствуются инстинктами, чужды всякой ответственности и долгу. А постоянное желание перебежчиков с другой стороны выпить? Впрочем, вроде по марксистским убеждениям, алкоголизм считается смягчающим обстоятельством. Вечно помутненный водкой разум, порочное тело и слабая воля.
Нет, они, немцы, не такие. Тот, кто проповедует слабость воли – враг. Им не нужна тысяча моральных предписаний от бога. Главное – кровь. Она бьется в сердце немца, предписывая принимать верные решения без моральных сомнений и угрызений совести.
Гауптман вернулся к себе в палатку и включил радиоприемник. По берлинскому радио передавали бодрые танцевальные ритмы. Фюрер и нация в них уверены. Теперь надо просто хорошо делать привычную работу.
И кино на русском берегу заканчивалось. Под взрыв хохота прозвучали обидные слова: «Господа рыцари в обмен пойдут. На мыло менять будем», и во внезапно наступившей тишине другие: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».
Покидая вокзал, Ненашев зашел в ресторан. Подозвал пианиста в очках и попросил, если кто-то станет очень настойчиво интересоваться панной Ненашевой, которая в девичестве была Чесновицкой, то передать господину его скромный подарок.
— Остановись у парка, — попросил Ненашев водителя. — Подождешь пять-десять минут?
Улица Ленина выглядела как-то неуютно. Пусть из-за деревьев и доносилась громкая музыка, но небольшие группы людей в военной форме, без подруг рядом, выглядели подозрительно.
— Я с вами, — оценив обстановку, заявил шофер.
— Даже туда? — Максим мотнул головой в сторону постройки с обязательным раздельным входом для мужчин и женщин у входа в парк. — Считаешь, что я один не дойду до кондиции?
— Мне запретили оставлять вас одного.
— Хорошо, давай пойдем вдвоем, друга подержишь. Мне доктора как раз недавно запретили тяжести поднимать. Подержишь?
В темноте Ненашев не видел, но знал, что его «телохранитель» стремительно покраснел. Фраза срабатывал всегда.
— Упокойся. У меня пятиминутный перерыв на «ля моменталь»!
Сотов начал переваривать «что бы это значило?», а Максим усмехнулся. Задание «отвлечь внимание и сбежать с приема» он выполнил.
Спустя пару минут по аллее парка нетвердой разболтанной походкой прошел человек в командирской форме. Фуражка лихо заломлена на затылок, слегка покачивающаяся походка, сопровождалась раздраженным ворчанием: «до чего диверсанты довели пенсионера».
Но никто его не слышал. Рядом, в ста метрах под гром оркестра танцевали и гуляли беззаботные люди. «Счастье мое я нашел в нашей встрече с тобой, всё для тебя – и любовь, и мечты…»
Давно закончил выступление хор Белгосфилармонии, и теперь по парку имени Первого Мая летел вихрь чарующих звуков, под них кружились девушки в летних платьях, юноши в костюмах, и неизменные военные.
Панов злился. Еще пять минут и «влюбленная пара» навсегда покинет точку «бифуркации». Встанет со скамейки и продолжит веселиться. Ищи тех бабочек в ночи. «Аллея Охов и Вздохов», прочитал на табличке Максим и, наконец, увидел «объект». Он понаблюдал еще минуту, ошибиться было нельзя.
— Почему вы меня не приветствуете? И головной убор, между прочим, так не носят!
Темноволосый плотный парень, на голову выше Ненашева, презрительно посмотрел на майора с пушками в петлицах. Чувствуя запах, он даже не стал смотреть ем в глаза. Быдло, большевицкая пьянь!
Но на нем форма русского капитана, и назначенное время еще не наступило. Он поднялся и нехотя приложил правую руку к виску, а в ответ очень характерно вскинули ладонь. Как красиво, очень по-русски, словно у его отца.
Какой отвратительный звук! Что-то холодное вошло под его ребра и немного повернулось.
Панов умел работать и левой. Видя, как ученик зеркально путает стойки, те два инструктора из спецназа не стали ничего исправлять, а, переглянувшись, чуть добавили пинков.
Парень дышал, но понимал, что умирает. «Нож в печень, никто не вечен», шутил сам. Но как обидно! Поймали нелепо, подло и бесчестно. И сам хорош, сразу расслабился, попав на Родину.
Жаль, ничего не сказать в ответ. Можно лишь хрипеть, плевать кровь, и смотреть на врага глазами, полными ненависти.
Но почему ответный взгляд выражал какую-то усталость, сожаление, а рука убийцы заботливо поддерживает ему голову, пока он окончательно не утратил блеск в глазах.
Полковник убил немецкого диверсанта, но настоящего, стопроцентного, пробы некуда ставить, русского. Тот шел сюда, веря Алоизычу, обещавшему русскому народу помочь стряхнуть с себя ненавистный режим, уничтожить жидов и прочих гадов, пьющих русскую кровь. Да хоть с самим чертом, лишь бы против коммунистов[545].
Девушка еще ничего не успела понять, а ее молодой красивый кавалер, говоривший так мило и интересно, неожиданно осел мешком на землю. Как? Они же договорились продолжить знакомство завтра. В полдень воскресного дня. Он обещал обязательно заехать за ней и тогда…
А какие в голове роились мысли! Вдруг не придет, или забудет адрес? Вдруг, я его потом разлюблю, или он меня?
Теперь парень, которого она, может, всю жизнь ждала, лежит в пыли, а его убийца присел на корточки и шарит по телу.
«Дура! Что ж не бежишь? Ясно, обмерла в ступоре» — не обращая внимания на подругу, Ненашев искал у обер-лейтенанта жетон. Лоб покрылся испариной, неужели ошибка?
Максим, наконец, нащупал алюминиевый овал в кармане галифе. Лиха беда начало! Выдохнул и стер со лба липкий пот. Переложил чужой «ТТ» к себе в кобуру. Повесил на плечо сумку, куда сунул документы и снятые часы.
Что-то надо делать с девицей. Сидит как мышка, лишь глаза распахнуты в ужасе. Но постепенно начинает отходить, вот и дрожь пробила.
— А ну бегайт! Зарежу! — на немецкий манер коверкая слова, произнес Максим и попробовал улыбнуться, заранее зная, какая непритворная гримаса возникнет на его лице.
Убить человека так, означало начать душегубить. Дороги назад нет – мать его теперь война, и горе всякому, вставшему на пути.
Девушка посмотрела на побелевшее лицо. Убийца не остановится ни перед чем. Еще больший ужас захлестнул, как удавкой сжимая горло. Она несмело сделала первый шаг, потом другой. Потом, сломя голову, бросилась в сторону танцплощадки.
Там люди, они должны ее защитить! Через несколько секунд раздался пронзительный крик, способный заглушить любой оркестр:
— Убили, его убили! Помогите! Да помогите, кто-нибудь! — она была уже не в силах остановиться.
Панов покачал головой, помня, что для привлечения внимания надо сразу кричать «пожар!».
Затем поморщился, сунул в карман «немца» приготовленные документы, а после положил под шею трупа стограммовую толовую шашку, укрепив ее двумя безвольными руками.
Через пять секунд за спиной удаляющегося майора грохнуло «безоболочное взрывное устройство». Все, пропала, сгинула личность молодого человека, как и его, Ненашева. Вместе пропали без вести.
— И как прошло? — иронично спросил у Максима водитель.
— Знаешь где у статуи Давида центр композиции? В то место и иди с расспросами!
Ну, что же началось. Девица, если не изолируют сразу, поставит на уши город. В обществе, где нет ни мобильных телефонов, ни Интернета, информация передавалась со скоростью звука.
Сотов посмотрел, как у пассажира дрожат руки, и пожалел, что не пошел с майором. Что-то случилось в парке, если пассажир возвращается взвинченный, с чужой полевой сумкой и заметно потяжелевшей кобурой. Вот надел на руку часы. Стоп, а куда исчезли старые?
Ненашев уселся на заднее сиденье и при свете фонарика принялся изучать добытые бумаги.
Шофер пристально посмотрел на него.
— В чем у вас рука?
— По-твоему, что-то случилось? Ах, да, верно! У меня кровь из носа пошла, — усмехнулся майор, проклиная себя за неосторожностью. Измазался. Да, всегда говорила жена, что профессия разведчика ему противопоказана, ибо наследит или испачкается. — Веришь?
— Нет, — Сотов смотрел, как майора еще больше затрясло.
— Ах, как нехорошо получается! Там еще вещи кто-то забыл. Вот, подобрал, чтобы не пропали. А теперь давай, быстро гони в штаб отряда.
Правильно не верит, но и обер-лейтенант никому не скажет, что полевая сумка у него была несколько тоньше. И, вообще, был ли мальчик?
Ненашев был прав. Происшествие безнадежно испортило праздник в парке. Выверенно точный удар, как и акции террористов, почему-то все время требующих мира и убивающих при этом детей.
Так что ты несешь хорошего в этот мир, Панов?
Но каков результат, женщины испугались, заставляя волноваться мужчин!
Кто-то еще пытался танцевать, невозмутимо продолжал играть оркестр, но публика постепенно расходилась. Толпу зевак у тела отогнала милиция, оцепив место происшествия. Ожидалось прибытие начальства, всегда имеющего при себе множество ценных рекомендаций для подчиненных.
И тут же пошли слухи, что убийца одет в советскую военную форму. А про то, как расправились с «советским командиром» шептали срывающимся от страха голосом.