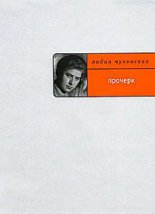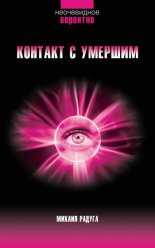Справа налево Иличевский Александр
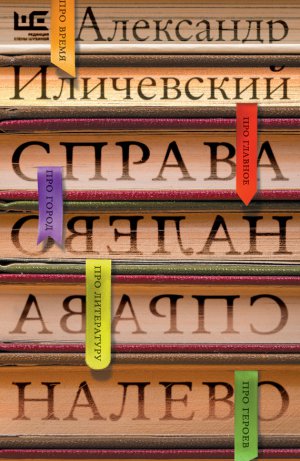
Читать бесплатно другие книги:
Вторая книга известного мастера психотерапии, посвященная действительно важнейшему для человека иску...
Пронзительный современный роман о любви русской девушки Марины и латиноамериканца Ортиса. О любви, к...
Это крепкая мужская проза. Трогательная, иногда тревожная, но всегда чистая и лиричная, написанная с...
В сборник избранных стихотворений Тимура Кибирова вошли как ранние произведения (из книг «Стихи о лю...
Мы привыкли терять раз и навсегда. Мы привыкли думать, что после смерти близкого человека никогда не...