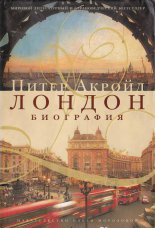Каменный убийца Пенни Луиза

Гамаш оторвал взгляд от карт, в которых все равно не было ничего интересного, и уставился на Томаса.
Как и его сестра Джулия, Томас говорил об отсутствующем брате теплым, радостным тоном, но за этим Гамашу слышалось что-то иное.
Он почувствовал легкое движение в той части своего мозга, ради отключения которой и приехал в «Усадьбу».
Настала очередь Сандры торговаться. Гамаш через стол сверлил взглядом партнершу.
«Пасуй, пасуй, – посылал он ей мысленный сигнал. – У меня ничего нет. Они нас прикончат».
Он знал, что бридж совмещает в себе карточную игру и упражнения в телепатии.
– Спот, – хмыкнула Сандра. – Как это на него похоже! Всегда появляется в последнюю минуту. Делает самый минимум – ничего больше. Четыре без козырей.
Рейн-Мари удвоила ставку.
– Сандра! – сказал Томас со смехом, почти не скрывая упрека.
– А что такое? Все приехали уже несколько дней назад, чтобы почтить твоего отца. А он появляется в последнюю минуту. Ужасный человек.
Наступило молчание. Сандра то и дело бросала взгляды на тарелку с шоколадом, которую метрдотель поставил на их столик.
Гамаш посмотрел на мадам Финни, но та как будто и не слышала этого разговора, хотя он подозревал, что она не упустила ни слова.
Он перевел взгляд на месье Финни, сидевшего на диване. Безумными глазами тот обшаривал комнату, а его волосы торчали во все стороны, отчего голова старика Финни казалась похожей на поврежденный спутник, набравший слишком большую скорость перед ударом о землю. Если все собрались, чтобы почтить его, то почему он сидит в одиночестве? Глаза Финни остановились на картине, висящей над камином, – сельский пейзаж кисти Кригхоффа.[31] Оригинал. Квебекские крестьяне загружают телегу, а от одного из домов крепкая женщина, смеясь, несет мужчинам корзинку с едой.
На картине была изображена семейная сцена, сердечная и приманчивая, и деревенская жизнь, какой она была сотни лет назад. И Финни явно предпочитал семейную обстановку на картине той, частью которой он был здесь и сейчас.
Мариана встала и подошла к игрокам.
Томас и Сандра прижали карты к груди. Мариана взяла журнал «Шатлен».
– «Судя по опросам, – прочла она, – большинство канадцев считают бананы наилучшим фруктом для шоколадного фондю».
Снова воцарилось молчание.
Мариана представила себе, как ее мать подавилась шоколадным трюфелем.
– Но это смешно, – сказала Сандра, которая тоже наблюдала, как ест мадам Финни. – Клубничное – самое вкусное.
– Я всегда любила груши и шоколад. Комбинация необычная, но замечательная. Вы так не считаете? – спросил Томас у Рейн-Мари, но та ничего не ответила.
– Вот вы, значит, где. А мне никто не сказал. – Через оконную дверь из сада легким шагом вошла Джулия. – О чем вы тут говорите?
По какой-то причине она посмотрела на Гамаша.
– Пас, – сказал он, уже толком не понимая, о чем они говорят.
– Маджилла говорит, что для топленого шоколада больше всего подходят бананы. – Томас кивнул на Мариану.
Это вызвало бурное веселье, и Гамаши недоуменно переглянулись.
– А монахи не используют голубику в шоколаде – спросила Джулия. – Нужно бы мне купить немного голубики до отъезда.
На следующие несколько минут игра была забыта – все обсуждали фрукты и шоколад. В конце концов Джулия и Мариана удалились в уголок.
– Пас, – объявил Томас, вернувшись в игру.
«Отдай ему игру, – транслировал Гамаш Сандре, уставившись на нее. – Пожалуйста, пасуй».
– Я удваиваю ставку, – сказала Сандра, сердито посмотрев на Томаса.
«Мы имеем здесь дело с полным отсутствием коммуникации», – подумал Гамаш.
– Нет, правда, о вы чем думали? – спросила Сандра, надув пухлые губы, когда она увидела карты, раскрытые Гамашем.
– Oui, Арман. – Рейн-Мари улыбнулась. – Шесть без козыря с такими картами? О чем ты думал?
Гамаш привстал и слегка поклонился:
– Это полностью моя вина.
Он послал жене взгляд, полный веселья.
В том, чтобы быть недоумком, есть свои преимущества. Гамаш вытянул ноги и пригубил коньяк, затем прошелся по комнате. Становилось жарче. Обычно вечера в Квебеке прохладные, но этот был исключением. Гамаш почувствовал, как повышается влажность, расстегнул воротник и ослабил галстук.
– Очень смело, – сказала Джулия, подойдя к нему, когда он остановился, разглядывая картину Кригхоффа. – Вы раздеваетесь?
– Боюсь, что на сегодня я уже получил свою долю унижений. – Гамаш кивнул на столик, где трое игроков в бридж сидели над картами.
Он наклонился и понюхал розы на каминной полке.
– Они прекрасны, правда? Здесь все прекрасно. – Голос Джулии звучал задумчиво, словно она уже начала скучать по «Усадьбе».
Потом он вспомнил Спота и подумал, что для Финни, вероятно, это последний приятный вечер.
– Потерянный рай, – пробормотал он.
– Что-что?
– Да нет, так, одна мысль мелькнула.
– Вы задаетесь вопросом: что лучше – царствовать в аду или прислуживать в раю? – с улыбкой спросила Джулия.
Гамаш рассмеялся. Мимо ее взгляда почти ничто не проходило – в этом она была похожа на мать.
– Видите ли, у меня есть на это ответ. Смотрите-ка, это же роза Элеоноры, – удивленно сказала она, показывая на ярко-розовый цветок в букете. – Можете себе представить?
– Кто-то уже говорил это сегодня, – вспомнил Гамаш.
– Томас.
– Верно. Он хотел узнать, нашли ли вы ее в саду.
– Это наша маленькая шутка. Роза названа в честь Элеоноры Рузвельт. Вы знаете?
– До этой минуты не знал.
– Мм… – проговорила Джулия, глядя на розу и кивая. – Она сказала, что поначалу чувствовала себя польщенной, пока не прочла описание в каталоге: «„Элеонора Рузвельт“: на клумбе[32] не смотрится, а у стены выглядит прекрасно».
Они рассмеялись, и Гамаш восхитился и розой, и цитатой, хотя так и не понял, какое отношение эта семейная шутка имеет к Джулии.
– Еще кофе?
Джулия вздрогнула.
В дверях с серебряным кофейником стоял Пьер. Его вопрос был обращен ко всем присутствующим, но смотрел он на Джулию и при этом слегка краснел. В другом углу комнаты Мариана пробормотала:
– Ну вот, пожалуйста.
Каждый раз, когда метрдотель появлялся в комнате, где была Джулия, на его лице появлялся румянец. Мариане были известны эти симптомы. Она всю жизнь прожила с ними. Мариана была девчонка без комплексов, всегда готовая развлечься вечерком. Ее можно было лапать и целовать в машине. Но на Джулии все хотели жениться, даже метрдотель.
Глядя на сестру, Мариана почувствовала, как кровь ударила ей в лицо, но по абсолютно иной причине. Пока Пьер наливал Джулии кофе, Мариана воображала, что вот эта огромная картина Кригхоффа в тяжеленной раме срывается со стены и бьет Джулию по голове.
– Посмотрите, напарничек, что вы со мной сделали! – простонала Сандра, поскольку Томас брал взятку за взяткой.
Наконец они поднялись из-за стола, и Томас присоединился к Гамашу, который разглядывал другие картины в комнате.
– Это Брижит Норманден, да? – спросил Томас.
– Да. Фантастика! Очень смело, очень современно. Дополняет Молинари и Риопеля. И в то же время сочетается с традиционным Кригхоффом.
– А вы, оказывается, разбираетесь в искусстве, – с некоторым удивлением сказал Томас.
– Я люблю историю Квебека, – ответил Гамаш, кивая на старую картину.
– Но для других картин это не объяснение, ведь так?
Гамаш решил немного пободаться:
– Вы меня проверяете, месье?
– Может быть, – признал Томас. – Редко удается встретить коллегу-самоучку.
– Тем более в плену, – сказал Гамаш, и Томас рассмеялся.
Картина, на которую они смотрели, была неброской, в сдержанных светло-коричневых тонах.
– Похоже на пустыню, – заметил Гамаш. – Безотрадное впечатление.
– Но это неверное впечатление, – возразил Томас.
– Опять двадцать пять, – сказала Мариана.
– Что, снова про розу? – спросила Джулия, обращаясь к Сандре. – Он все об этом говорит?
– Раз в день, как «Надежный старик».[33] Отойди подальше.
– Ладно, пора спать, – сказала мадам Финни.
Ее муж поднялся с дивана, и пожилая пара вышла из комнаты.
– Вещи совсем не такие, какими кажутся, – сказал Томас, и Гамаш удивленно посмотрел на него. – Я имею в виду, в пустыне. Вид действительно неживой, но на самом деле там все кишит жизнью. Просто вы этого не видите. Жизнь прячется, чтобы не быть сожранной. В Южно-Африканской пустыне есть одно растение, которое называется каменным. Знаете, как оно выживает?
– Дай подумать. Оно притворяется камнем? – спросила Джулия.
Томас стрельнул в нее недовольным взглядом, но его лицо тут же приняло прежнее дружеское, приветственное выражение.
– Вижу, ты не забыла ту историю.
– Я ничего не забываю, Томас, – сказала Джулия и села.
Гамаш наблюдал. Финни редко говорили между собой, но если и делали это, то слова их были наполнены смыслом, непонятным для Гамаша.
Томас задумался на мгновение, потом обратился к Гамашу, который мечтал улечься наконец в кровать, хотя больше всего ему хотелось выслушать эту историю.
– Оно притворяется камнем, – сказал Томас, сверля глазами Гамаша.
И тот вдруг осознал, что слова Томаса имеют скрытый смысл. Что Томас хочет что-то донести до него. Вот только что?
– Чтобы выжить, оно должно скрываться. Притворяться тем, чем не является на самом деле, – продолжил Томас.
– Это всего лишь растение, – возразила Мариана. – Оно ничего не делает специально.
– Оно такое хитроумное, – сказала Джулия. – Инстинкт самосохранения.
– Это всего лишь растение, – повторила Мариана. – Не говори глупостей.
Оригинально, подумал Гамаш. Оно не осмеливается выставлять себя в своем истинном виде, потому что опасается за свою жизнь. Не это ли сейчас сказал ему Томас?
Вещи не такие, какими кажутся. Он начинал верить в это.
Глава четвертая
– Мне понравился сегодняшний вечер, – сказала Рейн-Мари, забираясь под прохладные крахмальные простыни рядом с мужем.
– И мне тоже.
Он снял свои полукруглые очки и положил раскрытую книгу на кровать. Вечер стоял теплый. Окно их крохотного номера выходило на огород и было единственным, а поэтому устроить сквозняк не получалось; впрочем, при распахнутом окне легкие ситцевые занавеси чуть колебались. Лампочки на прикроватных тумбочках освещали лишь малую часть комнаты, остальное было погружено в полумрак. От бревенчатых стен и от сосен в лесу пахло деревом, из огорода доносился пряный аромат трав.
– У нас через два дня юбилей, – сказала Рейн-Мари. – Первого июля. Ты только представь: тридцать пять лет вместе. Неужели мы были такими молодыми?
– Я был. Молодым и невинным.
– Бедный мальчик. Я тебя пугала?
– Может быть. Немного. Но теперь я этим переболел.
Рейн-Мари откинулась на подушку:
– Не могу сказать, что с нетерпением жду завтрашнего приезда отсутствующих Финни.
– Спота и Клер. Спот – это, вероятно, прозвище.
– Будем надеяться.
Гамаш снова взял книгу, попытался сосредоточиться, но веки его отяжелели, и ему приходилось делать усилие, чтобы глаза оставались открытыми. Наконец он прекратил сопротивление, поняв, что ему не выиграть этой борьбы, да и нужды нет. Он поцеловал Рейн-Мари, зарылся головой в подушку и заснул под многоголосье существ за окном, ощущая запах жены рядом с собой.
Пьер Патенод стоял в дверях кухни. Здесь все было чисто, все на своих местах. Стаканы стояли ровными рядами, столовые приборы лежали в футлярах, между фарфоровыми тарелками в стопках были проложены салфетки. Он перенял это от своей матери. Она научила его, что порядок – это свобода. Жизнь в хаосе равносильна жизни в тюрьме. Порядок освобождает мозг для других дел.
У отца он научился управлять людьми. В те редкие дни, когда у него не было занятий в школе, ему позволялось приходить в офис к отцу. Пьер усаживался к нему на колени, вдыхал запах туалетной воды и табака, а отец не прекращал работу – без конца говорил по телефону. Еще ребенком Пьер чувствовал родительский уход: его холили и лелеяли, стригли и наводили на него лоск.
Был бы его отец разочарован, увидев Пьера сейчас, всего лишь метрдотелем? Нет, он так не думал. Отец хотел для него лишь одного: чтобы он был счастлив.
Он выключил свет и прошел по пустому обеденному залу в сад, чтобы еще раз посмотреть на мраморный куб.
Мариана, мурлыча себе под нос, снимала с себя одежку за одежкой. Время от времени она поглядывала на односпальную кровать, стоявшую рядом с ее кроватью: Бин то ли спит, то ли притворяется.
– Бин? – прошептала Мариана. – Бин, пожелай мамочке спокойной ночи.
Молчание. Впрочем, в комнате вовсе не было тихо. Здесь повсюду тикали часы – цифровые, электрические, заводные. Все они были выставлены на семь утра. Все они двигались к этому времени, как и каждое утро в течение многих месяцев. Казалось, их теперь больше, чем всегда.
Мариана спрашивала себя, не зашло ли это слишком далеко. Не пора ли ей сделать что-нибудь. Чтобы ребенок десяти лет ударился в такое – нет, это было ненормально. То, что год назад началось с одного-единственного будильника, расцвело и распространилось, как сорняк, пока вся детская в их доме не наполнилась часами. Шум по утрам поднимался невероятный. Мариана из своей спальни слышала, как маленькая рука по очереди выключает их, пока не замолкает последний тоненький писк, возвещающий о начале дня.
Нет, это, конечно, ненормально.
Правда, в этом ребенке многое было ненормальным. Вызывать сейчас психотерапевта, думала Мариана, все равно что пытаться убежать от штормовой волны. Она вынула книгу из маленькой руки, положила ее на пол и улыбнулась. В детстве это была ее любимая книга, и она прикинула, какая история больше всего понравилась ее чаду. Про Одиссея? Пандору? Геракла?
Мариана наклонилась, чтобы поцеловать ребенка, и тут заметила люстру со старым электропроводом. Она вдруг представила себе, как искра перескакивает с этих проводов на кровать, постель начинает дымиться, а потом вспыхивает пламенем. А они тем временем спят.
Она отошла назад, закрыла глаза и возвела невидимую стену вокруг кровати.
«Спи! Тебе ничто не грозит».
Она выключила свет и легла, ощущая свое липкое рыхлое тело. Стоило ей приблизиться к матери, как она словно тяжелела, будто мать обладала собственной атмосферой и гравитацией. Завтра появится Спот, и все начнется. И закончится.
Мариана попыталась устроиться поудобнее, однако ночь была душной, простыни комкались, прилипали к телу. Она сбросила их. Но на самом деле между нею и сном стояли не смрадная жара, не похрапывающее дитя, не липкие простыни.
Все дело было в банане.
Почему они вечно подначивают ее? И почему в сорок семь лет она все еще продолжает переживать из-за этого?
Она повернулась, пытаясь найти прохладное место на влажной простыне.
Банан. И опять она услышала их смех. Увидела насмешливые взгляды.
«Да не обращай ты внимания», – сказала она себе. Закрыла глаза и постаралась забыть о банане и тикающих, тикающих, тикающих часах в ее голове.
Джулия Мартин села у трюмо и сняла ниточку жемчуга с шеи. Простые, изящные бусы – подарок отца к восемнадцатилетию.
«Настоящая леди всегда одевается со вкусом, Джулия, – сказал он тогда. – Леди никогда не бравирует своим богатством. В ее присутствии другие люди чувствуют себя легко. Не забывай об этом».
И она не забывала. Она сразу же осознала правильность его слов. И все блуждания и неуверенности ее юности отошли в прошлое. Она увидела перед собой прямую дорогу. Пусть узкую, но ясную. Она испытала огромное облегчение. Теперь у нее была цель, направление в жизни. Она знала, кто она и что должна делать. Пусть другим будет легко в ее присутствии.
Раздеваясь, она перебирала в памяти события прошедшего дня, составляла список людей, которых, возможно, обидела, всех тех, кого могли обидеть ее слова, интонации, манеры.
И еще она подумала об этом милом французе и их разговоре в саду. Он видел, как она курит. Что он о ней думает? Потом она пофлиртовала с молодым официантом, взяла выпивку. Выпивка, курение, флирт.
Боже, он, наверно, подумал, что она человек поверхностный и слабый.
Завтра она постарается вести себя лучше.
Она уложила жемчужную нитку, словно маленькую змейку, в выстланную бархатом коробочку, потом сняла сережки, жалея, что не может снять и уши. Но она знала, что уже слишком поздно.
Роза Элеоноры. Зачем они сделали это? По прошествии всех этих лет, когда она пыталась быть доброй, зачем тащить сюда эту розу?
«Забудь, – умоляла она себя, – это не имеет значения. Это была шутка. Все кончилось».
Но слова успели сформироваться внутри ее и не желали уходить.
В соседнем номере под названием Озерный на балконе стояла Сандра, окруженная дикими звездами, и думала, как бы захватить лучший столик на завтрак. Она устала от того, что ее обслуживают последней, всегда ей приходится требовать, и все равно ей достаются самые маленькие порции.
А этот Арман – худшего игрока в бридж она не видела. Почему она именно его выбрала в партнеры? Персонал крутится вокруг него и его жены. Может, потому, что они французы? Это было несправедливо. У них не номер, а кладовка для метелок в задней части дома, самый дешевый номер в «Усадьбе». Наверняка он какой-нибудь бакалейщик, а жена у него – уборщица. С какой стати они должны соседствовать с Финни в «Усадьбе»? Однако она была с ними вежливой. Большего от нее требовать нельзя.
Сандра была голодна. И хотела есть. И еще она устала. А завтра приедет Спот, и все станет еще хуже.
Из глубин их великолепного номера Томас смотрел на жесткую спину жены.
Он женился на красивой женщине, и она до сих пор с расстояния, со спины была красива.
Но ее голова почему-то в последнее время увеличилась в размерах, а все остальное сжалось, отчего у Томаса создалось впечатление, будто его прикрепили к сдувшемуся спасательному устройству. Оранжевому, мягкому, податливому и более не выполняющему своих функций.
Пока Сандра стояла к нему спиной, он быстро снял старые запонки, подаренные ему отцом к восемнадцатилетию.
«Мне дал их мой отец, а теперь пора передать их тебе», – сказал тогда отец. Томас взял запонки и потертый бархатный мешочек, в котором они хранились, и засунул в карман небрежным жестом, надеясь задеть этим отца. И он добился своего.
Больше отец не давал ему ничего. Ничего.
Томас быстро скинул старый пиджак и рубашку, радуясь тому, что никто не видит его слегка потрепанных манжет. В дверях появилась Сандра. Томас небрежно швырнул рубашку и пиджак на ближайший стул.
– Мне не понравилось, что ты перечил мне за бриджем, – сказала она.
– Разве я перечил?
– Конечно перечил. Перед всей семьей и этой парой – бакалейщиком и уборщицей.
– Дома убирала не она, а ее мать, – поправил ее Томас.
– Ну, ты видишь? Ты просто не можешь не поправлять меня.
– Ты хочешь говорить неправду?
Эта была натоптанная тропинка в их браке.
– Ну хорошо, что я такого сказал? спросил он наконец.
– Ты прекрасно знаешь, что ты сказал. Ты сказал, что с плавленым шоколадом лучше всего идут груши.
– Так и сказал? Груши?
Он произнес это так, чтобы прозвучало глупо, но Сандра знала, что это не глупо. Она знала, что это важно. Жизненно важно.
– Да, груши. Я сказала, клубника, а ты – груши.
Внезапно это и в самом деле стало представляться ей глупостью. Это было нехорошо.
– Но я так считаю, – возразил Томас.
– Да брось ты. Только не говори мне, что у тебя есть собственное мнение.
От всех этих разговоров о теплом шоколаде, стекающем со свежей клубники – или даже груши, – в ее сухом рту начала выделяться слюна. Сандра проверила, нет ли на ее подушке крохотной шоколадки от гостиницы. На ее половине кровати, на его, на подушках, ночном столике. Она бросилась в ванную – и там ничего. Оглядела раковину, подумала о том, сколько калорий может быть в зубной пасте.
Ничего. Ничего съедобного. Она посмотрела на свои ногти. Но нет, это она сохраняла на крайний случай. Сандра вернулась в комнату, увидела потрепанные манжеты мужа, задумалась, отчего это они истрепались. Уж явно не от частых прикосновений.
– Ты унизил меня перед всеми, – сказала она, переводя свое желание поесть в желание обижать.
Томас не повернулся. Она знала, что лучше не трогать эту тему, но было слишком поздно. Она уже пережевала оскорбление, раскусила его на части и проглотила. Это оскорбление стало теперь ее неотъемлемой частью.
– Почему ты всегда это делаешь? Из-за какой-то груши! Ну почему ты хоть раз не можешь со мной согласиться?
Она два месяца питалась ягодами, веточками, травой, черт бы ее драл, и похудела на пятнадцать фунтов по одной-единственной причине. Чтобы семья сказала, какая она красивая и стройная. И еще она надеялась, что, может быть, это заметит и Томас. Томас заметит. Может, он поверит в это. Может, прикоснется к ней. Всего лишь прикоснется. О том, чтобы заняться любовью, она и не думает. Просто прикоснется.
Она сгорала от желания.
Айрин Финни взглянула в зеркало и подняла руку. Она поднесла к лицу намыленную тряпочку, но замерла.
Спот приедет завтра. И тогда они все будут вместе. Четверо детей, четыре краеугольных камня ее мира.
Как и многие пожилые люди, Айрин Финни знала, что на самом деле мир плоский. Что у него есть начало и конец. И что она подошла к краю.
Осталось сделать только одно. Завтра.
Айрин Финни уставилась на свое отражение. Она снова поднесла к лицу тряпочку и принялась тереть. В соседней комнате Берт Финни сжимал простыни, слушая сдавленные рыдания жены, снимавшей с себя дневное лицо.
Арман Гамаш проснулся с первыми лучами солнца, которые проникли сквозь замершие занавески и коснулись их скомканных простыней и его потного тела. Простыни свернулись во влажный шар в ногах кровати. Рейн-Мари подняла голову:
– Который час?
– Половина седьмого.
– Утра? – Она приподнялась на локте.
Гамаш кивнул и улыбнулся.
– И уже такая жара?
Он снова кивнул.
– День будет убийственно жаркий.
– То же самое вчера говорил Пьер. Тепловой фронт.
– Я наконец поняла, почему его называют фронтом, – сказала Рейн-Мари, глядя на его влажную руку. – Мне нужно принять душ.
– У меня есть предложение получше.
Через несколько минут они оказались на пристани, скинули с ног сандалии и уронили полотенца, как гнезда, на теплые доски. Гамаш и Рейн-Мари залюбовались этим миром двух солнц, двух небес, удвоенных гор и лесов. Озеро было не стеклом, а зеркалом. Птица, летевшая в ясном небе, отражалась и в спокойных водах. Мир был такой идеальный, что разделялся надвое. Стрижи рассекали воздух в саду, бабочки-монархи порхали с цветка на цветок. Вдоль пристани носились две стрекозы. Единственными людьми в этом мире были Гамаш и Рейн-Мари.
– Ты первый, – сказала Рейн-Мари.
Она любила смотреть на это. Как и их дети, когда они были помладше.
Гамаш улыбнулся, согнул ноги в коленях и прыгнул с пристани в воздух. Несколько секунд он парил, раскинув руки в стороны, словно собирался долететь до противоположного берега. Это было больше похоже на пуск ракеты, чем на нырок. А потом, естественно, случилось неизбежное, ведь Арман Гамаш, разумеется, не мог летать. Подняв гигантскую волну, он рухнул в воду. Она была такая холодная, что на миг у него перехватило дыхание. Но, вынырнув на поверхность, он почувствовал себя свежим и полным энергии.
Рейн-Мари посмотрела, как он помотал головой, чтобы стряхнуть воду с волос, – так он сделал во время первого их приезда сюда. И делал все последующие годы, когда волос у него стало гораздо меньше и нужда в этом отпала. Но он продолжал делать это, а Рейн-Мари по-прежнему смотрела, и сердце у нее все так же замирало.
– Давай ко мне, – позвал ее Гамаш.
Она изящно нырнула; правда, ее ноги всегда расходились и она так и не научилась вытягивать носки, а потому при входе в воду неизменно поднимала фонтан брызг. Гамаш дождался, когда она вынырнет лицом к солнцу, с мокрыми волосами.
– Брызги были? – спросила она, выгребая по волнам, разошедшимся после ее прыжка.
– Ты вошла в воду, как нож. Я даже не заметил, что ты нырнула.
– Ну, пора завтракать, – сказала Рейн-Мари десять минут спустя, когда они по лесенке поднялись на пристань.
Гамаш протянул ей разогретое солнцем полотенце.
– Ты что будешь?