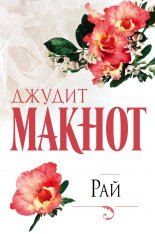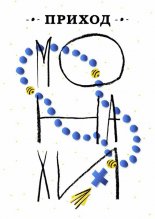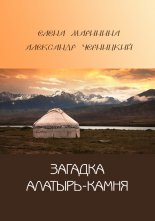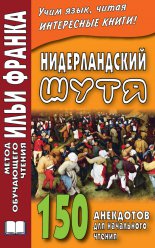«Шторм» начать раньше… Иванов Николай

— О, а глазки-то уже красные и носик успел распухнуть, — дотронулся наконец Ледогоров до щеки девушки. Она доверчиво потерлась о его шершавую ладонь, хотела что-то сказать или объяснить, но в этот миг раздался взрыв. Глухой, приглушенный расстоянием и листвой, но он подбросил их с места, потому что прогремел в стороне лагеря, а там… там Улыба и Буланов. Нет-нет, там же еще Филиппок, Филиппок…
— Боря, — окликала, звала отставшая Лена, но Ледогоров не оглянулся, не остановился. Прыгая через рвы, пни, поваленные деревья, отметая от лица ветки, мчался к лагерю. Нет ничего страшнее для сапера, чем невидимый им взрыв. Неконтролируемый взрыв. Неужели Филиппок?
На каждый случай есть в России своя песня. Поют люди на похоронах и на свадьбах. Когда остаются одни и прилюдно. С музыкой и без нее. С повода и просто так, потому что захотелось попеть.
Так же в России и плачут — на поминках и крестинах, от радости и горя, одиночества и от того, что невозможно человеку порой остаться одному. Плач и песня на Руси испокон веков очищали душу. И покуда поет и плачет народ, есть у него душа и сердце.
В ноябре пело, пило, плакало Сошнево на проводах в армию Юрки Грача и Сашки Вдовина. Народу пришло много, в три захода садились за столы да еще выносили на улицу дедам-бабкам, которым на крыльцо подниматься-то лишний раз оказалось тяжело, не говоря уже о том, чтобы тесниться с молодыми на лавках в доме. Крестились перед выпивкой, прося у Бога прощения: мол, чем больше выпьется, тем легче плачется. А поплакать вроде бы надо…
Проводили солдат за село с гармошкой, там переобнимались. Которые помоложе, полезли в машины с красными флагами по бортам проводить до райвоенкомата, оставшиеся замахали руками — возвращайтесь. Матери сели в кабины, и по шляху, мимо грушенки, лога повезли их сыновей в армию. Все века Россия вынуждена была растить себе солдат. Судьбой и Богом было определено ей постоянно иметь то ли ближних, то ли дальних врагов, зарящихся на ее земли, ее богатства. И счастьем выходило России считать года, которые удавалось прожить без войны. Одна заканчивалась, а народ со страхом уже смотрел вперед: сколько сроку отпущено заживить раны, подрастить новых солдатушек, наделать нового оружья и откуда беда, враг-ворог заявится. И присказка главная: «Хоть бы умереть до войны». Плуг и винтовка стали символом Руси, хотя нам и хочется видеть в гербе лишь серп и молот. И не просто из-за разлуки плачут матери, провожая сыновей в солдаты. Слишком близка всегда была Россия, сама отнюдь не задира, к войне. И слезы матерей — это скорее и больше на «вдруг», на будущее, не приведи Господь.
А шли Юрка и Сашка к тому же еще и в десантные войска. Черданцев перед этим заехал в Сошнево, спросил Аннушку и Соню: есть возможность послать ребят вместе или в подводники, но это на три года и атом, или в береговую оборону, но это район Тихоокеанского побережья и у черта на куличках, или в десантники, вроде страшно, но рядом, в Белоруссию. Уговорил, доказал, что ВДВ — это в первую очередь порядок, это мужская гордость, а прыжки, ну и что, что прыжки, сотни и тысячи ребят прыгало и прыгает, и ничего.
Трудно, когда дают выбирать. Если есть один вариант — это вроде судьба, куда деться, когда же выбираешь — можешь потом всю жизнь жалеть, что поступил так, а не иначе. Плохо, когда выбираешь, плохо…
— Мишенька, ты уж по-свойски реши сам, как лучше, — митусилась перед выбором Соня. — Ой, Господи, мы же ничего в этой армии не знаем. Определи сам, по своему разумению.
Черданцев посмотрел на Аннушку, в хате у которой они собрались «на совет в Филях», та беспомощно улыбнулась, и Михаил Андреевич решился:
— Все, в ВДВ.
В Суземке, во дворе райвоенкомата, Юрия, Сашку и еще пять-шесть ребят из других сел и в самом деле забрал молоденький лейтенант с парашютным значком на кителе. Прибежавшая на часок с работы Лена Желтикова даже спросила его, не знает ли он Бориса Ледогорова, но ответ услышать не успела: к ребятам пробился Филиппок, и Лена, прячась за людей, отошла, затерялась.
Издали кивнул заплаканным Соне и Ане снующий по двору с бумагами Черданцев, но подходить не стал. А Лену усмотрел, подозвал, попросил заглянуть в военкомат завтра — отыскал адрес Ледогорова, так что просьбу выполнил.
Вскоре электричка умчала призывников дальше, в область. Провожавшие же достали последние припасы, и свои ли, просто ли подошедшие на праздник — всем наливали, предлагали выпить. Потом, как водится, нашлись те, кому обязательно надо подраться, малочисленная районная милиция подозвала водителей, приказала заводить машины и увозить «орды» по своим селам и деревням.
Все, отдали ребят в армию.
Соню и Аннушку Черданцев усадил в «уазик»: «подброшу сам». Дождался, а где и подогнал, чтобы побыстрее разъехались от военкомата машины, разошлись по домам свои, суземские. К «уазику» вернулся с женой.
— Смотри-ка, видать, с женкой, — толкнула задумавшуюся подругу Сонька. — Вроде ничего, не кочевряжится.
— Знакомьтесь, товарищи женщины, — открыл дверцу Черданцев. — Это Мария, моя жена. А это мои невесты, я тебе о них рассказывал.
Женщины кивнули друг другу. Маша внимательно оглядела «невест», задержала взгляд на Ане; видимо, каждая жена сердцем ли, десятым чувством, но определит, на кого может посмотреть ее муж. Аня почувствовала этот выбор, начала поправлять полы пальто на коленях, и Мария, поняв, что не ошиблась, повернулась к мужу:
— А может, и я с тобой сейчас съезжу в Сошнево? Почти месяц, как приехала, — тут же пояснила она женщинам, — а он только обещает да обещает свозить на родину.
— Месяц — не год, — улыбнулся Михаил Андреевич, уже жалея, что решил познакомить жену с Соней и Анной сегодня. Если верить Ледогорову, то женщины — это чистейший, изумительный миноискатель, который мгновенно фонит на нужный объект. Нет, надо держать их подальше друг от друга, жену и ту, которая нравится. — Еще съездим, а сейчас я быстро, только туда и обратно.
— Хорошо, — быстро и охотно согласилась Маша, но в этом покорно-поспешном согласии уловил Черданцев и тревогу, и боль и обиду. Хотел дать задний ход своему решению, но Мария сразу же отошла. Ей-то, в самом деле, за что на плечи его груз?
— Пусть бы поехала, — после некоторого молчания, когда уже выехали за Суземку, сказала Соня. Выходит, думали они об одном и том же.
— Теперь в другой раз, — ответил Черданцев и перевел разговор на более близкое для сидящих позади женщин: — Ребята, наверное, уже в облвоенкомате.
— Ох, только бы нормально отслужили да воротились, — вздохнула Соня. — А то, говорят, что и дерутся они там, в армии. А, Миш?
Михаил Андреевич хотел отделаться усмешкой, но ответил серьезно:
— Всякое бывает, девчата. Когда сто человек одного возраста поселить на два года в казарму, тут нужно не то что умение, а порой просто житейскую мудрость, чтобы обойти все конфликты и острые углы.
— Так, значит… — с испугом начала Соня, она спросила в надежде, что Михаил развеет ее опасения, а он…
— Но вы за своих ребят не бойтесь, — обернулся назад Черданцев. — Во-первых, дерутся далеко не везде. А во-вторых, если и дерутся, то достается в первую очередь маменькиным сынкам, слюнтяям, пижонам и сачкам. Короче, за дело, если отбросить эмоции. А ваши не такие.
— Может, поехать к ним? — подала голос Аня.
«Надо было все-таки просто посмеяться, не лезть в эти объяснения, — пожалел Черданцев. — Они сейчас настолько все остро и обнажено воспринимают, что лучший вариант ответов — это «да» или «нет».
— Да все будет нормально. Ехать к ним еще рано, а на присягу, через месяц, можно будет съездить. Потом они в отпуск приедут, так время и пролетит. Лучше невест им ищите.
— Была одна на двоих, да ваш военный, курсантик, перебил, — вздохнула Соня.
— Улыба, что ль? — догадался Черданцев.
— Настасья. Хорошая девка, работящая, а вот не повезло нам с Аннушкой на такую невестку.
— Еще десять раз все поменяется, — махнул рукой Михаил Андреевич. — В их возрасте и в наше время это так.
Замолчали, задумались каждый о своем. Черданцев краешком глаза выхватывал в дребезжащем зеркальце окаменевшее лицо Ани. В дребезжащем каменное — страшно. Нельзя же так убиваться, надрывать сердце.
— Аня, — позвал Черданцев.
— Да, — отрешенно отозвалась та, не отрывая взгляда от видимой только ей точки на ветровом стекле.
— Ты совсем загрустила.
— Тревожно на душе почему-то, предчувствие какое-то нехорошее гложет, — оторвалась она наконец от стекла, села поудобнее.
— Перестань. Осенью восьмидесятого два бравых десантника появятся в Сошневе, и вы сами будете смеяться над страхами и переживаниями.
— Когда это будет…
— Могу сказать: ровно через два года. Точность гарантирую, потому что обладаю даром угадывать все события. Например, зима начнется 1 декабря, Новый год — 1 января, мне пятьдесят два года стукнет 21 декабря, в день рождения Сталина…
— Ох, не напоминай про годы, — отозвалась Соня. — Наш век уже такой, что лучше вообще не вести никаких подсчетов, сзади, как до Суземки, уже проехано много, а спереди — вон оно, Сошнево, рядом.
…Деревня выглядела пустынной, первые после лета холода заставили искать место в доме у печки и старого и малого — пока это привыкнется к зябкости. Черданцев притормозил машину у Сонькиного дома, она открыла, вытолкнула плечом дверцу. Аня из своего угла задвигалась было по сиденью за ней, но Михаил Андреевич остановил:
— Сиди, я подброшу.
Соня с грустью и тихой женской завистью посмотрела на них, не смогла сдержать вздоха:
— А я думала, присядем на минутку втроем.
Черданцев глянул на часы, Аннушка тоже замотала головой:
— Не, Сонь, мне тоже хоть чуть-чуть прибраться надо, все ж стоит корытом. Я попозже забегу.
— Тогда ладно, — вздохнула Соня. Намерилась захлопнуть дверцу, но только оттолкнулась от нее и, оставив открытой, пошла к своей хате.
— Нехорошо как-то все получается, Миша, — проговорила Аннушка, провожая взглядом подругу. — Все нехорошо. И с женой твоей, и с Сонькой.
— Не надо, Аня.
— Надо, Мишенька, давно надо. С самого начала. Я просто думала, что-то вернется, да только как вернуть прожитое. Жил бы ты тихо, спокойно, а тут я, дура…
— Не говори ничего, прошу тебя. Давай завтра…
— Не, Миша, никаких «завтра». Ни завтра, ни послезавтра, ни на Покров, ни на Николу. Молния долго в небе не держится.
— Погоди, что-то ты… Давай доедем до тебя…
— Не надо. Не хочу. Я лучше дойду. Я давно себе сказала: вот провожу Сашу в армию — и… и все, Миша. Для безрассудства я уже стара, да и не хочу, чтобы у тебя в семье из-за меня было плохо. Прощай.
— Аня! — потянулся Черданцев, чтобы удержать ее, но Аня увернулась, вылезла из машины. Захлопнула оставленную Соней дверцу.
«К чему-то подобному и шло, — подумал Михаил Андреевич. Положил голову на руки, обнявшие баранку. — Только плохо, что именно сегодня. И именно так. Сегодня им обеим тяжело».
Вышел из «уазика». Аннушка медленно шла мимо палисадников. Не оборачивалась, а когда не оборачиваются, сердце ведь болит сильнее. Зачем она так себя?
Звякнули пустые ведра на крыльце у Сони. Она стояла, опершись на коромысло, и смотрела сквозь голые ветви растущей у дома черемухи на него. Вернее на то, как он смотрит на Аню. Может, и загремела ведрами, привлекая внимание.
Но Черданцев, обернувшись еще раз на Аню, залез в машину. Включил передачу…
«Если найдет тебя это письмо, здравствуй. Сотни раз на день я говорю тебе это слово — «здравствуй», мой родной. Почему же и куда ты исчез? Я умоляю тебя откликнуться, хотя бы сказать, что живой. А хочешь, я приеду к тебе в гости? Хоть на две минутки, хоть навсегда…
Мысли пляшут, сбиваются, ты меня извини. Я даже не знаю, если честно, как писать это письмо, то ли о том, что на сердце, то ли просто о новостях. А все от того, что не знаю, как ты относишься ко мне сейчас, спустя полгода после нашего расставания.
Я сейчас снова работаю экономистом. Не смогла больше быть с ребятами, не имею права. Да и в школе смотрели на меня так, словно… Впрочем, что говорить обо мне, во всей этой истории самым крайним оказался ты, это больно, несправедливо. Я даже писала вам в дивизию, чтобы тебя не наказывали. А адрес твой разыскал Черданцев, он передает тебе привет. Виделись с ним на проводах Юрки и Сашки Вдовина. Они десантники, служат в Белоруссии. На проводах видела и Филиппка, но подойти не осмелилась. Ты, наверное, знаешь, что ему ампутировали кисти рук, а сейчас еще начало падать зрение на тот, правый, поврежденный глаз…
Вот и все новости. Сердцем пишу одно письмо, а разумом — вот это. Прошу тебя, откликнись. По почерку, по словам попытаюсь понять тебя. Хотя боюсь, вдруг все, что было у нас с тобой, — это сон. Лена».
«Если найдет тебя это письмо, здравствуй. Сотни раз на день я говорю тебе это слово — «здравствуй», мой родной…»
— Здравствуй, Лена, — вслух произнес Борис и отложил читаную-перечитаную страничку из школьной тетради в клеточку, вылил в стакан остатки вина. Кивнул своему отражению в осколке зеркальца, стоящего на столе, — с Новым годом.
— Товарищ старший лейтенант, — одеяло, служившее дверью, отодвинулось, заглянул прапорщик, дежурный но эскадрону. — Там внизу, в дежурке, Оксана Сергеевна.
— Ну и что?
— Поздравила нас с Новым годом, спросила, где вы. Говорю, сейчас позову.
— Меня нет.
— А я уже сказал, что вы здесь.
— Нету. Исчез, растворился. Остался в старом году.
— Товарищ старший лейтенант… Она пирог принесла, с курагой. Говорит, для всех, кто в наряде. А вы ведь тоже ответственный.
— Я ответственный по эскадрону, а не по пирогу. И вообще, почему посторонние в расположении части?
— Так вроде она не посторонняя. Я ведь об Оксане Сергеевне Борисовой, нашем ветеринарном враче.
— И я о ней же. Скажите Оксане Сергеевне, что старший лейтенант Ледогоров пироги с курагой не ест. Все!
Прапорщик недоуменно пожал плечами, окинул взглядом захламленный уголок комвзвода и скрылся за одеялом.
«Кушайте свой пирог сами, Оксана Сергеевна», — плюхнулся на кровать, заставив ее жалобно заскрипеть, Ледогоров. Взял с тумбочки тетрадный листок.
«Если найдет тебя это письмо, здравствуй…»
«Здравствуй, Лена. Я не забыл тебя. И прости за молчание. Просто хотелось забыться, уйти от всего…»
Ледогоров стал смотреть в фанерный потолок казармы. После подрыва Филиппка, только увидев его окровавленные руки, залитое кровью лицо, прожженную на груди курточку, он, вырывая у подбежавшего Буланова медицинскую сумку, краем сознания, помимо воли и желания просто отметил, констатировал для себя — конец службе. Потом был бег по лесу: Лена впереди, они с Сергеем и уложенным на одеяло парнишкой следом. Где-то отстала, плакала и звала их Улыба. Курсант несколько раз обернулся, но стонал, изворачивался на одеяле Димка, и они бежали, бежали, бежали.
— Что же ты так, Димка? — уже в больнице успел спросить его Ледогоров. — Ты же знал, что нельзя ничего трогать.
Мальчишка посмотрел левым, очищенным от крови глазом на него, потом на Лену и закрыл веки. Да, он ревновал, он делал раскоп назло пионервожатой, променявшей поиск на любовь со старшим лейтенантом, назло Ледогорову, замутившему голову их руководителю. Назло Улыбе и курсанту, предавшим Сашку и Юрку. Назло, назло, назло…
— Во всем виноват я, — отрезал все предложения разделить вину на обстоятельства и случайности Ледогоров, когда вечером собрались в военкомате начальник милиция, женщина из прокуратуры, директор школы. — Я был старшим, и здесь ни Желтикова, ни обстоятельства ни при чем.
Согласно закивал директор — ему, что ли, хотелось вешать ЧП на школу. Вроде бы остался доволен милиционер — не нужно искать виновных, прокурор тоже была не прочь отдать это дело в военную прокуратуру. Лишь Черданцев попытался еще раз если и не выгородить старшего лейтенанта, то хотя бы смягчить ситуацию, но Ледогоров стоял непреклонно: он сапер, он должен был обеспечить безопасность работ, и отвечать должен только он сам. Один.
И через несколько недель расследования — прощайте, ВДВ, да здравствуют советские кавалерийские эскадроны, выговор по партийной линии и полное отсутствие перспективы в дальнейшей службе. Жизнь прекрасна и удивительна. У нас всегда должен быть кто-то наказан. Хотя бы на всякий случай. А тут еще и Оксана, глазастое чудо, подвернулась. Бывшее чудо…
Он окликнул ее, уже подходя к городку. Длинноногая, в коротеньком сарафанчике, она оглянулась на его голос и, убедившись, что запыленный, потный старший лейтенант обращается к ней, остановилась, подождала его.
— Извините. Старший лейтенант Ледогоров. Вы местная?
— А вам показать, где находится эскадрон? — оглядев чемодан, спросила она. — Вот за этим забором, — указала она взглядом на пыльные, когда-то по весне, видимо, забрызганные грязью плиты, тянувшиеся вдоль тротуара. Это Борис знал уже и сам, просто хотел остановить, увидеть лицо идущей перед ним девушки. А глаза ее, как зеленые антоновки, смотрели на него насмешливо, все понимая, — видимо, не он первый интересовался у нее дорогой. — Что, высоковат для вас? — улыбнулась она, склонив голову набок. Волосы упали на плечо, открыв мочку ушка с дырочкой для сережки.
— Грязноват, — чувствуя подвох, медленно ответил Ледогоров.
— А-а, а я-то думала, что вы офицер, — разочарованно протянула девушка и, подчеркнуто вздохнув, спросила: — Вам помочь нести чемодан?
Ледогоров мог поклясться, что его красное от жары лицо стало с начало белым, потом пошло пятнами. Сняв фуражку, он рукавом вытер пот со лба. Подхватив чемодан, с усилием поднял его и бросил через забор. Туда же полетела парашютная сумка с вещами, фуражка. Не глядя на Девушку, Борис подпрыгнул, ухватился за край плиты и, оставляя на ней туфлями полосы, перевалил за своим имуществом: пусть знает десантные войска. Ишь, красавицу из себя корчит. Познакомился, черт возьми.
Сразу за стеной начинался стадион, за ним виднелась казарма, от которой к Ледогорову бежал сержант с повязкой дежурного.
— Восток диким был, диким и остался, — пробурчал Борис, отряхивая фуражку от пыли и колючек. — Но ничего, я ей ноги когда-нибудь повыдергиваю. И заставлю смотреть своими «антоновками» по-другому.
Подбежал сержант, приложил руку к панаме!
— Дежурный по КПП сержант Крижанаускас. Докладываю: вас вызывает к себе дежурный по части.
— Он что, видел? — кивнул на забор Ледогоров.
— Докладываю: так точно.
— А командир на месте?
— Докладываю: никак нет.
— А где?
— Докладываю: не могу знать. Разрешите проводить к дежурному? — чисто с прибалтийской педантичностью выполнил приказ сержант.
— Проводи, — кивнул Ледогоров.
Сержант подхватил вещи, пошел через стадион к казармам. Между ними мелькнули кавалеристы, и Борис замер: вот она, его новая служба, романтичная, непонятная и совершенно непредвиденная. Неужели это все-таки не сон? Неужели все серьезно? Он, сапер-десантник, будет лошадям хвосты крутить?
— Руки держать стаканчиками, стаканчиками, — донесся чей-то властный голос. — Дистанция — на корпус лошади. Манежным галопом — марш!
— Докладываю: идут занятия.
— Иди в штаб, я посмотрю и подойду.
Сразу за казармами находился изрытый копытами манеж — огороженная невысоким деревянным заборчиком площадка, похожая на хоккейную коробку. Вдоль забора мчались друг за другом около полутора десятка кавалеристов — обыкновенных солдат, к тому же еще и в красных погонах. Посреди манежа крутился всадник, время от времени подавая команды:
— Выбросить стремена, сократить дистанцию, в колонну по два — марш!
На площадке стало просторнее, несколько солдат принесли щитовой заборчик, и всадники один за другим стали направлять лошадей на препятствие.
— Не заблудились? — послышался над головой Ледогорова женский голос, он оглянулся и отпрянул: за спиной стояла лошадь, на которой восседала…
«Она или не она?» — думал Борис, вглядываясь в кавалериста — в берете, в форме, перехваченной портупеей, в высоких сапогах со шпорами: к этому трудно было привыкнуть после сарафана. Но «антоновки»-то, глазища, — точно ее. И язвительность свою, видимо, она с сарафаном не снимает.
— Значит, не заблудились, — ехидничала с высоты девушка. — До штаба довезти? Не бойтесь, это лошадь, если вдруг не знаете. Она добрых людей не кусает.
— Тогда почему вы не покусаны? — не сдержался Ледогоров.
Девушка замерла, мгновение раздумывала над услышанным. Потом лошадь под ней, повинуясь какому-то сигналу, встала на задние ноги и пошла на Бориса. Ледогоров решил стоять до последнего, но, увидев прямо над собой перебирающие воздух копыта, все же отскочил в сторону — ну их, этих кавалерист-девиц, в баню. И только после этого девушка хлопнула ладонью по шее лошади, поставила ее на ноги, наклонилась к ее уху и достаточно громко, чтобы слышал старший лейтенант, похвалила:
— Молодец, Агрессор. Умница. Пошли.
Она с места взяла в карьер, перемахнула через заборчик и пронеслась по манежу.
«Дурдом какой-то, детские игры», — сплюнул Борис и, не оглядываясь, пошел к штабу.
Так вошли в его жизнь кавалерия и Оксана. Много воды утекло за полгода службы, научился и он сидеть в седле, рубить шашкой лозу, чистить копыта лошадей, выбирать им корм и многое другое. Было, конечно, интересно, но — не его. Иной раз даже ставил своего Адмирала на дыбы, вдруг увидев под его копытами взъерошенную землю — вдруг мина? Сапер жил в нем еще цепко, в конечном итоге Борис мечтал вернуться и в ВДВ, и к своему делу, но и новое занятие завораживало, позволяло дням нестись со скоростью Агрессора — самого быстрого в эскадроне скакуна. Наладились отношения и с Оксаной, а когда оказалось, что ее фамилия к тому же еще и Борисова, Ледогоров в одну из встреч так и сказал:
— А вот и моя Оксана.
— С чего это ты взял? — Они уже были на «ты», но не до такой степени, чтобы определяться в «мои» или «не мои».
— Какая у тебя фамилия? Борисова. А я кто? Борис. Значит, что мы имеем? Оксану Борисову, то есть мою. Возражения?
— Ну тебя, — отмахивалась Оксана, любовь и гордость всего эскадрона.
Вспоминалась ли Лена? Конечно. И за письма ей садился несколько раз, и телеграммы к праздникам заготавливал, но так и не дошло до их отправки. Оксана была виновата? Вряд ли, хотя тянуло Бориса к ней все сильнее и сильнее. И не потому, что она была рядом, а Лена за тысячи километров. Вспоминая Суземку, Борис все отчетливее представлял себе, что до любви у них с Леной было еще далеко. Да, чем-то она понравилась, есть у нее притягательность, но вот появилась Оксана — и вытеснила Лену. Так была ли любовь? А не получится ли, что после Оксаны повстречается какая-нибудь новая глазастая, языкастая и ногастая, которая отодвинет все, что было до нее? Черт его знает. Но… но Агрессор и Адмирал уже ржали, увидев друг друга. А это означало, что их хозяева привыкли ездить рядом и им вновь придется тереться бок о бок. Как это происходит, почему перед Леной он готов тысячу раз извиниться, но все же… все же остаться с Оксаной? Когда-то он думал: хорошо, если бы Лена была похожа на Улыбу. Вот Оксана на нее как раз и похожа…
— К тебе можно?
Борис спохватился: Оксана, в наброшенной на плечи шубке, из-под которой выглядывало длинное зеленое платье, стояла на пороге и просительно-виновато смотрела на него: прости и разреши. Пришла. Пришла! Но ведь…
— Да, проходите, раз уж здесь.
— Я пирог принесла… С праздником тебя, — сделала шажок и замерла. Неужели это она когда-то заставила его одним взглядом лезть через забор?
— Вас тоже с праздником.
Оксана покивала: значит, все-таки «вы». Гордость гнала ее обратно, можно и нужно было усмехнуться и выйти. Впрочем, только вот нужно ли?
— Здесь просидишь весь вечер?
— Да. Я же ответственный.
— Сам напросился?
— Все равно в казарме живу.
— Койку твою в общежитии… никто не занял еще.
— Займут.
Да, надо повернуться и уйти. На столе пустая бутылка из-под вина, кусок булки, банка магазинных огурцов. Боренька!.. А на кровати письмо. От кого?
— Ты… ты не проводишь меня?
— Знаете, ответственный не имеет права покидать расположение части, — выдерживал уставной стиль Борис. Хотелось, очень хотелось плюнуть на размолвку, тем более что Оксана сама пришла, но сегодня пришло письмо от Лены…»
— Но солдаты-то все в клубе, — не хотела сдаваться и Оксана.
— Я пошлю с вами дневального.
— Спасибо, Боря. — Сил больше не было. Чтобы не заплакать от унижения и обиды, заторопилась. — С Новым годом тебя. Прощайте. — Повернулась наконец и вышла.
Глава 13
Во второй половине февраля Америка хоронила своего посла в Афганистане Адольфа Дабса. Как и положено при прощании, звучал гимн Соединенных Штатов, гроб укрыл звездно-полосатый флаг. В речах отмечались большие заслуги покойного дипломата.
Газеты, в отличие от других событий, мало пролили дополнительного света к той информации, которая содержалась в официальном сообщении. А она излагалась предельно кратко: афганские террористы, переодетые в форму регулировщиков, около 9 часов утра 14 февраля остановили на улице машину посла, пересадили его в свой автомобиль, привезли в гостиницу «Кабул» и, забаррикадировавшись в 117-м номере, потребовали освобождения из тюрьмы одного из своих товарищей. Амин, лично руководивший операцией по освобождению заложника, отдал приказ начальнику царандоя[15] Сайеду Таруну атаковать террористов. Посол, получивший в ходе перестрелки смертельное ранение, скончался.
Америка крайне болезненно восприняла это известие. Только что, всего неделю назад, пал шахский режим в Иране, и первым делом оттуда стали изгонять американцев — когда такое было в последний раз? Суждено ли Америке пережить такой позор? Собственно, все беды в том регионе начались именно от иранцев. ЦРУ, занятое в последнее время только ими, проморгало революцию в Афганистане. Именно проморгало, хотя и делает вид, что здесь не обошлось без русских. Падение Ирана, хоть в какой-то степени ожидаемое, тем не менее тоже повергло в шок привыкшую только побеждать деловую Америку,
А теперь вот вдобавок еще и гибель посла. Кроме того что Дабс считался одним из наиболее заметных дипломатов, он, по мнению госдепартамента, один из немногих, кто сумел сделать хоть мизерные, но шажки по восстановлению интересов США в Афганистане. Его ставка предполагала беспроигрышный вариант: не забывая поддерживать контакты с Тараки на официальной основе, он все внимание сосредоточил на Амине, сумев рассмотреть не только того, кто идет следом за лидером в афганском руководстве, кто является реальной силой в стране уже сейчас, но и наладил с ним если не дружеские, то более чем официальные отношения. Не дать уйти Афганистану полностью в объятия Советов, показать, что и на Западе можно найти надежных партнеров — это Дабс внушал и, кажется, не без определенного успеха Хафизулле Амину более чем на десяти личных встречах за сравнительно короткое время.
И вдруг такой нокаут. Обращение к советской стороне предпринять все усилия для спасения посла не помогли, Амин никого не стал слушать: ни просьбы советского и американского посольств, ни требования террористов, ни советы самого Адольфа, с которым удалось коротко переговорить через дверь, ничего не дали. Поспешность, с которой он приказал начать штурм гостиничного номера, наталкивала на некоторые мысли: а может, МИД Афганистана и не желал иного исхода? Может, он вел игру на какой-то определенный результат, который пока еще даже и не просчитывается?
Убийство Дабса сцепило между собой и двух китов американской политики — госсекретаря Вэнса и помощника президента по национальной безопасности Бжезинского.
— Мы должны проводить более, значительно более жесткую политику в этом регионе, — утверждал ярый антисоветчик. — Если этого не будет, если мы и дальше будем смотреть на события на Среднем Востоке сквозь пальцы, это принесет нам не только экономические и не столько экономические, а в первую очередь политические убытки. Наши союзники уже сейчас могут рассматривать нашу политику как предательство их интересов и одновременно как бессилие Вашингтона перед советской экспансией. Никаких уступок. Нажим, мощное наступление. Восток уважает только силу. Пусть это будет наша сила.
Госсекретарь был более гибок:
— Я считаю, что главная наша задача на сегодняшнем этапе — это ни в коем случае не провоцировать СССР на какие-то действия в ДРА. Его необходимо вытеснять из Афганистана постепенно, и в первую очередь так, как это делал Дабс, — поощряя националистические тенденции в афганском руководстве. Будет чуть дольше по времени, но надежнее в итоге.
Похоже, что президент Картер прислушался к обоим советам и сумел создать «коктейль» «Бжезинский — Вэнс»: на свет извлеклись два старых, но не закрытых документа. Первый, начатый еще в 1948 году, предусматривал проведение операции «Гиндукуш». Главная цель его — стыкуясь с другими планами, создать военное окружение против СССР и его союзников на юге, дестабилизировать обстановку в самом Афганистане, если он станет предпринимать попытки тесно сблизиться с Советским Союзом.
Сгубило этот план, по мнению Картера, неизбежное желание США ставить как раз жесткие условия. Была ведь прекрасная возможность в 1950 году взять Афганистан, что называется, голыми руками: в тот год именно к ним обратились афганцы продать оружие. Нет же, стали в позу, выдвинув сразу два неразрешимых, по существу, условия: «Исключить всякое влияние Советского Союза и урегулировать отношения с Пакистаном». Зачем, зачем это было сделано? Неужели уже и тогда среди советников президента преобладали бжезинские? Оружие бы само вытеснило Советы, потому что с оружием едут советники, ремонтники, специалисты. А это уже проникновение в идеологию, это уже своя пропаганда. Под оружие комплектуется и армия, а если еще команды отдаются на английском… Нет же, захотели всего и сразу. А быстрый результат — это, как правило, журавль в небе.
И как итог — в 1954 году Афганистан отказался вступать в СЕНТО, резко пошел на сближение с Советским Союзом. Хотя нет, переломным, конечно, стал 1951 год, когда Пакистан попробовал погреметь оружием около афганской границы. Кабул повернул голову на север, и Советский Союз тут же направил свои танковые дивизии к Термезу. Конечно, СССР действовал как сверхдержава, стремящаяся иметь на своих границах стабильное, буферное государство. На этом можно играть в дипломатических речах, но, если не лукавить перед собой, Соединенные Штаты вряд ли бы поступили иначе, случись подобное у них под боком…
Словом, «Гиндукуш» требует постепенных, продуманных действий. Это документ для Вэнса, который по своей линии пытается перепрыгнуть через самого себя, догнать уходящий афганский поезд. Бжезинский, верный себе, готовит решение о наращивании тайной помощи афганской оппозиции и уверен, что проведет его через специальный координационный комитет совета национальной безопасности. По его предварительным данным, уже в ближайшем будущем ведение тайной войны — «войны в сумерках» — против Афганистана потребует средств в десять раз больше, чем затрачено на подобные действия в той же Никарагуа. То есть 80 процентов всех финансовых средств этой статьи расходов ЦРУ станет тратить на Афганистан. Не много ли чести одной стране? Стоит ли овчинка выделки?
Бжезинский словно уловил сомнения президента и, чтобы долго не распространяться, привел только один довод. Оказывается, единственное место, где Советский Союз не имеет системы ПВО — это как раз граница с Афганистаном. Отдельные «точки» противовоздушной обороны там, конечно, есть, но против современных самолетов одними «точками», без общей системы в обороне, не обойтись. В 1960 году Пауэрс на U-2 сумел долететь до самого Свердловска именно по этой причине. Эту брешь Советы пока не в состоянии закрыть. По экономическим причинам: как докладывают эксперты, создание современной системы ПВО потребует десятков, если не сотен, миллиардов рублей, которых взять Москве на данный момент просто негде.
Так что заиметь Афганистан — это заиметь коридор в единственной военной бреши Советов. А дальше идет своя политика: наступая на мозоль, диктовать любые условия. Или хотя бы не принимать в расчет те, которые попытаются протащить из Москвы. Перед подписанием Договора по ОСВ-2 это было бы просто здорово. Но ничего страшного не случится, если это станет возможным спустя какое-то время. Лишь бы случилось…
Президент усмехнулся: он размышлял уже так, словно все шло настолько гладко в афганских делах, что оставалось только заглядывать в будущее. Но «Гиндукуш», конечно, стоит тех денег, которые запрашивает Бжезинский. В вопросах своей безопасности, защите своих интересов Америка никогда не слыла скупой и редко платила дважды. И не при нем, Картере, это должно произойти. Словом, «Гиндукушу» — зеленый свет. Без сомнения.
Второй документ — от военных, и по-военному краток и конкретен.
Комитет начальников штабов предлагает в отношении с Афганистаном определиться как с КНИ — конфликтами низкой интенсивности.
Картер подвинул к себе листок-справку: «КНИ — это ограниченная политико-военная борьба для достижения политических, социальных, экономических или психологических целей. Она часто носит длительный характер и включает все: от дипломатического, экономического и психологическо-социального давления до терроризма и повстанческого движения. КНИ обычно ограничены географическим районом и часто характеризуются ограничениями в вооружении, тактике и уровне насилия».
Жестко, но зато прямо и откровенно. И продолжение, расшифровка этого — уже в воинских уставах, предусматривающих шесть основных форм применения военной силы в КНИ: боевые операции мирного времени; проповстанческие действия; контрповстанческие действия; действия по поддержанию мира; действия по борьбе с терроризмом; операции против зарубежной наркомафии.
Против «проповстанческих действий» стояла отметка. Что ж, для Афганистана это, пожалуй, самое приемлемое. И ставку делать на религиозные и племенные аспекты.
А Дабс… Жалко, что не закончил дела. Но с его смертью жизнь остальных американцев и самой Америки не остановилась. Посол погиб 14 февраля, а 13-го его дело должно уже было быть продолжено. В этом плане политикам следует поучиться у газетчиков с их девизом: «Журналист должен быть на месте пожара за десять минут до его начала…»
Было над чем поломать голову после гибели Дабса и советской контрразведке. Это только на первый взгляд событие в 117-м номере кабульского отеля — заурядный терракт, жертвой которого по воле случая стал именно американский посол. Но факты, ставшие известными после смерти Дабса, поднимали все новые и новые вопросы.
Оказалось, что слежка за послом была замечена за две недели до 14-го числа. Афганская сторона предупредила об этом дипломата, предложила ему дополнительную охрану. Однако Дабс с улыбкой отказался.
Ну а дальше вообще пошли нестыковки. Посольские машины в городе могут останавливаться только в специально оговоренных обеими сторонами местах, находящихся под наблюдением у полиции. Это ли не знать такому опытному дипработнику, как Дабс?
И уж вовсе странным выглядит то, что кроме остановки в неположенном месте посол к тому же и сам открыл дверцу машины, которая имеет блокировку и открывается только изнутри. Зачем он это сделал, ведь он не имел права открывать ее первому встречному и тем более в неположенном месте? Обознался, надеясь увидеть кого-то другого?
Совершенно необъяснимым оказалось и содержимое чемоданчика посла, который тот захватил с собой из машины. В нем были бритва, туалетные принадлежности, полотенце. Зачем Дабсу, выезжающему не из дома, а из посольства, брать это с собой? Причем — утром! Планировал встретить следующий день вне дома?
Не прошло мимо внимания контрразведчиков и то обстоятельство, что ни госдепартамент, ни Белый дом, всегда честолюбивые, на этот раз ни в какой форме не выразили свой протест афганской стороне по поводу случившегося. Не желают лишнего шума, дополнительных расследований? Может, Америка знала о готовящемся похищении? Что могло последовать, если бы Дабс остался жив?
Привлек к себе внимание и тот факт, что Амин впервые так откровенно и в категоричной форме отверг помощь советских дипломатов и военных советников принять участие в освобождении посла.
Думала Москва, сопоставляла, анализировала. А события продолжали развиваться…
Она в какой-то степени будет посвящена майору Бизюкову Николаю Яковлевичу, первому советскому военнослужащему, погибшему на афганской земле во время гератского мятежа. До ввода войск еще было много времени, но именно он откроет скорбный счет в 13 833 человека. Начальник Генерального штаба издаст приказ (с нулем впереди — Секретно) о гибели советника, исключении из списков личного состава Вооруженных Сил и его похоронах. На памятнике будет рекомендовано написать: «Погиб при исполнении служебных обязанностей». Эта надпись до 1985 года прочно утвердится на обелисках с красной звездой, и лишь после 1985 года разрешат писать, что «погиб при выполнении интернационального долга».
Специально для «афганцев» будет разрабатываться и текст похоронок. На погибших в бою будет такой: «Выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб…» Те, кто скончался от болезни, в результате автопроисшествий, неосторожного обращения с оружием, «погибали» без слов о стойкости и мужестве.
Вслед за Бизюковым, но тоже до ввода ОКСВ, погибнет еще несколько военных советников. И как правило, не в бою. Подполковника Каламурзина, майора Здоровенно и переводчика Газиева мятежники, например, вначале забьют камнями, затем их тела расчленят на мелкие части и разбросают по склонам гор. Мало что найдут их товарищи, пробившись через несколько дней на место трагедии. Пусть их простят родные и близкие погибших, но, чтобы гробы не были слишком легкими, в них положат по нескольку камней с тех гор, где они встретили смерть. А 25 декабря, в день ввода, ОКСВ недосчитал в своем списочном составе сразу несколько десятков человек. Вначале перевернулась боевая машина, уступавшая на горном повороте дорогу афганскому грузовику, — экипаж и десант, всего около десяти человек, погибли. В 19.33 по московскому времени в окрестностях Кабула прогремел сильнейший взрыв: военно-транспортный самолет Ил-76 (командир капитан В. В. Головчин), на борту которого находилось 37 десантников из комендантской роты и два бензозаправщика, при заходе на посадку зацепил вершину горы и взорвался. Останки десантников собирали по обе стороны горы: и с севера, где осталась их заснеженная, еще ничего не знающая Родина, и с юга, где ждала ограниченный контингент нелегкая долгая судьба.
Еще для живых, но с учетом неизбежных потерь, прикажут одному из деревообрабатывающих заводов Туркестанского военного округа вместо солдатских табуреток и кушеток для караульных помещений делать гробы. Штат: плотники, жестянщик, два водителя. Определили: в комплект «продукции» должны входить гроб, цинк, ящик для перевозки, опилки, две новые простыни.
Вначале погибших вывозили в Ташкент — первый рейс сделал на Ан-12 подполковник Войтов Александр Миронович. Прикрыли парней сеткой для крепежа грузов, не стали плотно закрывать рампу, чтобы было в грузовом отсеке холоднее, и — из Баграма в Союз. А здесь уже шла своя арифметика: если самолету, развозившему погибших, предстояло сделать более 10–12 посадок, то в рейс уходило два экипажа: один летал по югу страны, второй — по северным областям. На Дальний Восток отправляли рейсовыми самолетами, и служба военных сообщений выписывала квитанцию на груз «200». Однако уже через несколько недель стала употребляться другая фраза — «черный тюльпан». Оказывается, было в Ташкенте похоронное бюро с таким названием, и кто-то, отлетающий в Афган, перенес его на «пункты сбора и отправки тел погибшего личного состава» — так официально именовались морги. В Афгане их было четыре: в Шинданде, Баграме, Кабуле и Кундузе. Затем название перенесли на самолеты, да так и осталось.
А деревообрабатывающий завод гнал свою «продукцию» до ноября 1988 года. Видимо, в это время было принято окончательное решение на вывод войск, и «нестандартное подразделение» гробовщиков, не предусмотренное, кстати, ни в одном уставе и наставлении, расформировали. После 15 февраля 1989 года, дня вывода ОКСВ, на складе готовой продукции останется около пятисот «изделий», которые, кстати, не очень долго лежали без спроса — авария под Уфой потребовала сразу около четырехсот гробов.
И самое невероятное в этой истории с «черным тюльпаном» (кстати, на Байконуре, где встречается этот цветок, его, как очень редкий, дарят самым любимым женщинам) то, что завод по изготовлению гробов все эти годы находился в пятистах метрах от «пересылки» — места, где предварительно собирали солдат и офицеров перед отправкой в Афганистан. Вот такое соседство… Сейчас завод занялся изготовлением своей довоенной продукции, а на «пересылке» останавливаются команды, сопровождающие воинские грузы.
Есть возможность и смысл привести подсчет потерь ограниченного контингента в период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года по годам.
1979 год — 86 человек, в том числе 10 офицеров. Боевые потери составили соответственно 70 и 9.
1980 год — 1484, в том числе 199 офицеров. Боевые потери: 1229 и 170.
1981 год — 1298, в том числе 189 офицеров. Боевые потери: 1033 и 155.
1982 год — 1948, в том числе 238 офицеров. Боевые потери: 1623 и 215.
1983 год — 1446, в том числе 210 офицеров. Боевые потери: 1057 и 179.
1984 год — 2343, в том числе 305 офицеров. Боевые потери: 2060 и 285.
1985 год — 1868, в том числе 273 офицера. Боевые потери: 1552 и 240.
1986 год — 1333, в том числе 216 офицеров. Боевые потери: 1068 и 198.
1987 год — 1215, в том числе 212 офицеров. Боевые потери: 1004 и 189.
1988 год — 759, в том числе 117 офицеров. Боевые потери: 639 и 106.
1989 год — 53, в том числе 10 офицеров. Боевые потери: 46 и 9.
В процентном отношении потери выглядят так: 0,8–0,9 процента погибших от общего числа ОКСВ, или 2,5 процента от числа участвовавших в боевых действиях. То есть воюющая 40-я армия теряла в день четыре человека. Американцы назовут это «неплохим» результатом для советского военного командования. Но это статистика.
А тогда, 17 марта 1979 года, тело майора Бизюкова Николая Яковлевича вывезут на машине в Кушку, а оттуда уже направят в Красноярский край, Партизанский район, село Вершино-Рыбное. Кладбище села Вершино-Рыбное…
Глава 14
Хоть и не позволил полковнику Катичеву его рост увидеть из Герата Кушку, но оглядеться вокруг себя возможность дал.