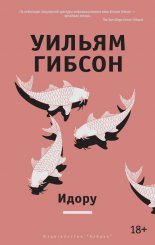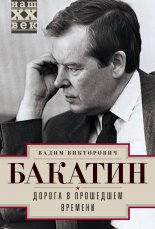Дом тишины Памук Орхан

– А мне-то что? – фыркнула Нильгюн.
– Раньше вы с этими девочками были ближайшими подружками, – заметил Метин. – Были не разлей вода, а сейчас ты книг начиталась и презираешь их.
– Я не презираю их. Просто не хочу их видеть.
– Презираешь. Хотя бы привет передала.
– Не собираюсь я ничего передавать! – сказала Нильгюн.
– Хотите молока, Метин-бей? – повторил я.
– Ты видишь? Ты стала слишком идейной. И очень дерзкой.
– Ты знаешь, что такое – идейный? – спросила Нильгюн.
– Как не знать! – ответил Метин. – У меня сестра есть, ей недавно промыли мозги, а я каждый день это наблюдаю.
– Дурак!
– Хотите молока, Метин-бей?
– Ребята, перестаньте, ребята! – повторял Фарук-бей.
– Не хочу я молока, – ответил Метин.
Я сбегал на кухню, перевернул хлеб. Мозги ей, говорит, промыли. «Пока всем не очистят мозги от грязи, пустых верований и лжи, никому из нас нет спасения, поэтому я пишу многие годы, поэтому, Фатьма», – говорил Селяхаттин-бей. Я налил себе стакан молока и выпил половину. Хлебцы поджарились, и я отнес их.
– Когда Бабушка на кладбище начнет молиться, вы тоже молитесь! – говорил Фарук-бей.
– Я забыла все молитвы, которым меня научила тетя, – сказала Нильгюн.
– Как ты быстро все забыла! – сказал Метин.
– Дорогая моя, я тоже все забыл, – сказал Фарук-бей. – Я говорю вам – вы только разведите руки, как Бабушка, чтобы она не расстраивалась.
– Не беспокойся, разведу, – сказал Метин. – Я на такие вещи внимания не обращаю.
– И ты разведи руки, хорошо, Нильгюн? – попросил Фарук-бей. – Да на голову что-нибудь завяжи.
– Хорошо, – согласилась Нильгюн.
– Это не будет противоречить твоим идеям? – спросил Метин.
Я вышел из столовой и пошел наверх, к Госпоже. Постучал в дверь. Вошел в комнату. Она уже позавтракала и опять стояла перед шкафом.
– Что случилось? – спросила она. – Что тебе нужно?
– Хотите еще стакан молока?
– Не хочу.
Я собирался забрать ее поднос, как вдруг она закрыла дверцу шкафа и крикнула:
– Не подходи!
– Да не подхожу я к вашему шкафу, Госпожа! – ответил я. – Вы же видите, я только поднос забираю.
– Что они там делают, внизу?
– Собираются ехать.
– Я еще не выбрала… – проговорила она, но затем будто вдруг смутилась и посмотрела на шкаф.
– Поторопитесь, Госпожа! – сказал я. – А то поедем по самой жаре.
– Ладно, ладно… Закрой дверь получше.
Я спустился на кухню, налил воду для грязной посуды. Допил свое молоко, подождал, пока согреется вода; заволновался, вспомнив о кладбище; стало грустно; задумался о предметах и инструментах из кладовки. На кладбище ведь иногда хочется плакать. Сходил к ним, Метин-бей попросил чаю, я отнес. Фарук-бей курил и смотрел во двор. Все молчали. Я вернулся на кухню, вымыл посуду. Когда пришел к ним опять, Метин-бей уже сходил оделся. Я тоже вернулся на кухню, снял передник, проверил, в порядке ли галстук и пиджак, расчесал волосы, улыбнулся себе в зеркале, как всегда, когда стригусь в парикмахерской, и вышел к ним.
– Мы готовы, – сказали все трое.
Я поднялся наверх. Ну вот, Госпожа наконец оделась. Опять на ней то же черное, страшное пальто; Госпожа высокая, но ее рост с каждым годом уменьшается, и поэтому подол пальто уже касается пола, а из-под него торчат острые носы ее старомодных туфель, как носы двух хитрых лисичек-сестричек. Она повязывала на голову платок. Увидев меня, точно смутилась. Мы немного помолчали.
– По такой жаре вы во всем этом вспотеете, – сказал я.
– Все готовы?
– Все.
Она оглядела комнату в поисках чего-то, посмотрела, что шкаф закрыт, опять что-то поискала и, опять взглянув на шкаф, сказала:
– Ну что, помоги мне спуститься.
Мы вышли из комнаты. Она видела, что я закрыл дверь, но сама еще раз подтолкнула ее рукой. У лестницы она оперлась на меня, а не на свою палку. Мы медленно спустились вниз, вышли во двор. Пришли остальные. Мы уже сажали ее в машину, как вдруг она спросила:
– Вы хорошо закрыли двери?
– Да, Госпожа, – ответил я, но все-таки пошел еще раз подергал дверь, чтобы она убедилась, что дверь закрыта.
Слава богу – наконец она уселась в машину.
7
О Аллах, машина, дернувшись, поехала, а я вдруг – вот странно, – я вдруг разволновалась, словно села в повозку с лошадьми, как в детстве, а потом я вспомнила о вас, милые, бедные мои, на кладбище, и тогда подумала, что заплачу, но нет, еще не время плакать, Фатьма, потому что я посмотрела на улицу из окна машины, выехавшей из ворот, и подумала – неужели Реджеп останется сейчас один дома, как вдруг машина остановилась, мы подождали немного, и вскоре карлик тоже пришел, сел через другую дверь в машину, тоже на заднее сиденье, а когда снова машина поехала – «Ты хорошо закрыл калитку, Реджеп?» – «Да, Фарук-бей», – я сильно прижалась к сиденью, – «Бабушка, вы слышали? Реджеп хорошо закрыл калитку. Чтобы вы потом не заладили, как в прошлом году, что калитка осталась открытой…», – я стала думать о них и, конечно, вспомнила, как ты, Селяхаттин, повесил над калиткой, о которой сейчас говорили, медную табличку с надписью: «Доктор Селяхаттин, часы приема такие-то» – и говорил: «С бедных я деньги брать не буду, Фатьма, мне хочется познакомиться с народом, у нас, правда, еще не очень много пациентов, мы же не в большом городе, а далеко на побережье», – и верно, в те времена не было никого, кроме нескольких бедных крестьян, а сейчас, подняв голову, я вижу все эти дома, магазины, толпа, прости господи, полуголых людей на пляже – не смотри, Фатьма, – да что же это за шум такой, все в кучу, все вперемешку, твой любимый ад, Селяхаттин, пришел на землю, смотри – все, как ты хотел, тебе это удалось, – правда, если, конечно, тебе именно этого хотелось, видишь эту толпу, – этого тебе хотелось, да? – «Бабушка с таким интересом смотрит, правда?» – да нет же, вовсе не смотрю, но твои бессовестные внуки, Селяхаттин, – «Бабушка, давай поедем кружным путем и покатаем тебя?» – наверное, считают и меня, твою безгрешную жену, такой же, как и ты, ну правильно, а что им еще делать, бедным деткам, так их воспитали, ведь ты, Селяхаттин, и сына вырастил таким, как сам, и Доан тоже своими детьми не интересовался, теперь за ними смотрит тетка, как мать – я не в состоянии, а когда тетя детьми занимается, так и бывает, и думают они, что их Бабушке интересно смотреть на все эти уродства, когда она на кладбище едет, ничего не думайте, видите – я даже не смотрю и, уронив голову перед собой, открываю свою сумку, вдыхаю ее запах – запах моей старости, а мои маленькие сухие ручки достают из крокодильего мрака сумки маленький носовой платок, я прикладываю его к сухим глазам, потому что все мысли мои – о них, и только о них, – «Чего сейчас плакать, не плачьте, Бабушка!» – но они же не знают, как я вас любила, и не знают, что в этот солнечный день мысль о том, что вы умерли, невыносима для меня; еще несколько раз приложила платок к глазам, ладно, все, довольно, Фатьма, всю свою жизнь я жила с болью, и поэтому смиряться я тоже умею, все, теперь успокоилась, все прошло, видите, я подняла голову и смотрю: дома, стены, пластиковые буквы, афиши, витрины, цвета, все это тут же кажется мне противным, о Аллах, какое уродство, не смотри больше, Фатьма, – «Бабушка, а как здесь раньше было?» – я занята только своими мыслями и своей болью, а вас не слышу, чтобы что-то ответить, чтобы рассказывать, что раньше здесь были сады, сады, сады – такие красивые сады, а где сейчас эти сады, и что в первые годы здесь вообще никого не было, и ваш дед, пока шайтан не завладел им, говорил мне каждый вечер: «Пойдем, Фатьма, с тобой гулять, извини, что я застрял тут, не вожу тебя никуда, я не хочу вести себя, как восточный деспот, из-за того, что моя работа над энциклопедией отнимает у меня много сил и что у меня совсем нет ни на что времени; я хочу развлекать мою жену, хочу сделать ее счастливой; пойдем хотя бы по садам немного погуляем и поговорим заодно, смотри, что я сегодня прочитал; думаю, что наукой невозможно перестать заниматься, а у нас все такое убогое потому, что нет науки; теперь я четко осознал – нам тоже необходима эпоха Возрождения, возрождения науки; передо мной – страшный, великий долг, и я должен выполнить его: по правде, я благодарен Талату-паше, что он сослал меня в эту глушь, потому что теперь я могу читать и размышлять, не будь у меня свободного времени и этого уединения, я бы никогда не додумался бы до всего этого и никогда не понял бы, Фатьма, как важен этот исторический долг; ведь и Руссо размышлял в лугах, на природе, и все это – его фантазии одинокого скитальца, а нас-то двое.
– Мальборо! Мальборо! – Я испугалась, подняла голову и посмотрела, – кажется, мальчишка сейчас засунет руку в машину, тебя же задавят, малыш, и, проехав мимо бетонных стен, мы, слава богу, наконец поехали мимо садов, что по обеим сторонам холма, – «Так жарко, правда, братишка?» – там, где мы гуляли с Селяхаттином в первые годы, и тогда то один, то другой бедняга-крестьянин останавливался, завидев нас, и здоровался; они тогда еще не боялись его. «Доктор-бей, у меня жена сильно заболела, приходите к нам, пожалуйста, да благословит вас Аллах», – ведь он тогда еще не сошел с ума. – «Они несчастные, Фатьма, мне жалко их, я не взял с них денег, что делать», но, когда ему были нужны деньги, никто не приходил, и тогда мои кольца, мои бриллианты, – интересно, закрыла ли я шкаф, закрыла, – «Бабушка, вы хорошо себя чувствуете?» – эти никак не оставят человека в покое со своими глупыми вопросами; промокнула платком глаза; как можно хорошо себя чувствовать, когда едешь на могилу к мужу и сыну, теперь мне вас – «Бабушка, смотрите, мы едем мимо дома Измаила. Вот он!» – просто жаль, но что же это они такое говорят, о господи, так, значит, здесь – дом хромого, – не смотрю, но знают ли они, что этот ублюдок – твой, неизвестно, – «Реджеп, как Измаил?» – я внимательно слушаю, – «Хорошо, продает лотерейные билеты», – нет, Фатьма, ничего ты не слышишь, – «Как его нога?» – а известно ли кому-нибудь, что в этом есть и моя вина, потому что я хотела спасти от греха себя, своего мужа и своего сына, я не знаю, – «По-старому, Фарук-бей. Хромает», – интересно, сказал ли им карлик, – «Как Хасан?» – а ведь они тоже замечают сходство, как их дед и отец, – «Учится плохо, остался на второй год из-за математики и английского. И работы у него нет», – вот как скажут мне: «Бабушка, оказывается, они – наши дяди, Бабушка, мы ведь ничего не знали», сплюнь, Фатьма, не думай, ты что, сегодня приехала сюда, чтобы думать об этом, но мы же еще не приехали, я буду плакать, я стала промокать платком глаза, у меня такой грустный день, а эти сидят себе в машине, болтают о том о сем, будто на прогулку отправились, а однажды, лишь раз за те сорок лет, мы поехали с Селяхаттином гулять на повозке, запряженной лошадью, и поднимались на ней по нескончаемому склону холма – цок-цок, цок-цок, – «Хорошо сделали, что поехали, Фатьма, у меня ведь обычно нет времени для таких прогулок из-за работы над энциклопедией; надо было мне еще бутылку вина и яиц вкрутую прихватить; поедем, посидим на лугу; но только чтобы воздухом подышать, ради природы, а не для того, чтобы, как наши соотечественники, наесться до отвала, как у нас в Турции принято; как красиво отсюда видно море; в Европе такую прогулку называют пикник, и во время него все делают неспешно; даст бог, Фатьма, мы тоже будем как европейцы когда-нибудь; может, наши дети этого не увидят, а вот внукам, даст бог, повезет – „Мы приехали, Бабушка, приехали, смотрите“, – и в те дни, когда будет властвовать наука, наши внуки будут жить счастливо, все вместе – юноши и девушки, – в нашей стране, которая ничем не будет отличаться от европейских стран»; мои внуки придут к тебе на могилу, Селяхаттин, как здесь тихо, кузнечики стрекочут на жаре, умереть в девяносто лет, сердце мое забилось, когда шум машины смолк, внуки вышли из машины и открыли мне дверь – «Выходите, Бабушка, давайте руку», – оказывается, из этой пластмассовой штуковины выбраться гораздо труднее, чем из повозки, если я, упаси Аллах, упаду, то тут же и умру, меня сразу похоронят и, наверное, обрадуются…
– Возьмите меня под руку, держитесь, Бабушка. Вот так!
…может, расстроятся, сплюнь, и чего я об этом думаю сейчас, я выбралась из машины, и, пока мы медленно идем среди надгробий, один держит меня под одну руку, другой – под другую, надгробия эти, о Аллах, прости меня, сеют в моем сердце страх, – «Все в порядке, Бабушка?» – ведь однажды и я окажусь здесь, одинокая и покинутая, – «Где же могила?» – среди этих надгробий на жаре будет пахнуть сгоревшей сухой травой, не думай сейчас об этом, Фатьма, – «Нам в эту сторону, Фарук-бей!» – смотрите-ка, карлик все еще говорит, верно, хочет доказать, что он лучше знает, где они лежат, чем их дети, ведь ты хочешь сказать: «Я его сын», да, остальные – «Здесь!» – увидели могилу – «Пришли, Бабушка, здесь!» – своего отца и простодушной матери, я сейчас заплачу, сердце мое, вот вы, здесь, бедные мои, отпустите меня, оставьте наедине с ними, я вытерла глаза платком, Господи, почему же Ты и мою душу не забрал – раз я вижу вас здесь, сплюнь, Фатьма, я ведь знаю почему, – я ни разу шайтана не послушалась, но я же сюда не обвинять вас… сейчас расплачусь, высморкалась и, задержав на миг дыхание, услышала кузнечиков, потом положила платок в карман, развела руки и читаю Аллаху за вас Фатиху[18], читаю-читаю, дочитала, подняла голову, посмотрела, – хорошо, эти руки тоже подняли, молодцы, Нильгюн красиво голову повязала, а как противно карлик выставляет напоказ свое беспокойство, прости меня, Аллах, я не терплю, когда человек гордится тем, что он – выродок, будто он любит тебя, Селяхаттин, больше всех нас и потому больше молится; кого ты хочешь этим обмануть, надо было мне палку взять, где она, а ворота они заперли, но я пришла сюда думать не об этом, а о тебе, ты здесь, под этим одиноким, заброшенным камнем, разве пришло бы тебе когда-нибудь в голову, что я приду сюда и буду читать на камне, поставленном над тобой…
ДОКТОР СЕЛЯХАТТИН ДАРВЫНОГЛУ1881–1942ПОКОЙСЯ С МИРОМ!
…вот, только что прочитала, Селяхаттин, но ведь ты больше не верил в Аллаха, и мне не хочется думать, что твоя душа корчится из-за этого там от адских мук, боже-боже мой, разве в этом я виновата, сколько раз я ему говорила: «Прекрати, Селяхаттин, не богохульствуй!» – разве ты не смеялся надо мной: «Глупая ты, ограниченная женщина! Тебе, как и вам всем, мозги промыли! Нет ни Аллаха, ни мира загробного! Мир иной – гадкая ложь, придуманная, чтобы руководить вами в этом мире. У нас нет ни одного доказательства бытия Бога, кроме всякой схоластической ерунды, есть только факты и предметы, и знать мы можем только о них или об их связях; мой долг – рассказать всему Востоку, что Аллаха не существует! Ты слушаешь, Фатьма?» – не думай об этом, не богохульствуй, я хочу думать о тех наших первых днях, когда ты еще не отдался шайтану, не потому, что нельзя плохо думать об умерших, а потому что ты действительно был очень хорошим и, как говорил мой отец, у тебя действительно было блестящее будущее, разве он сидел скромно в своей смотровой, сидел, конечно, один Аллах ведает, что он там делал с несчастными больными, но туда приходили крашеные, с непокрытыми головами европейские женщины, и они закрывались там, их мужья, правда, тоже приходили, а я не находила себе места в соседней комнате, не думай ни о чем плохом, Фатьма, все вообще-то, наверное, из-за них и произошло, да, да, мы как раз здесь поселились, только привадили пару-тройку клиентов – он их называл «больные», – ведь это дело сложное, – видишь, Селяхаттин, в этом я признаю твою правоту, – никого тут нет на побережье, кроме нескольких рыбаков да ленивых крестьян из дальних деревень, что дремлют в углу кофейни на пустынном причале, а они и не болеют в этом чистом воздухе, а если и болеют, то не знают, что болеют; если и знают, то не приходят, да и вообще – кому приходить: несколько домов, несколько глупых крестьян; несмотря на это, он стал известным врачом, и приезжали больные из самого Измита, а больше всего из Гебзе, бывали даже такие, кто на лодках из Тузлы приплывал, и как раз когда он начал зарабатывать, он стал ссориться с клиентами, господи, а я слушаю из соседней комнаты: «Чем ты мазал эту рану?» – «Сначала табак приложили, доктор-бей, потом повязку с кизяком…» – «Боже, разве так можно, это же доморощенные средства, так никто не лечится, теперь есть наука!.. Так, а с ребенком что?» – «У него уже пять дней температура, доктор-бей…» – «Уже пять дней! Почему вы его раньше не привезли?!» – «Шторм был на море, разве вы не видели, доктор-бей?» – «Вы ведь убили бы ребенка!» – «А что делать, коли Аллахом суждено, мы-то что сделаем?..» – «Да какой Аллах, нету Аллаха, умер Аллах!!!» – «Господи, перестань, сплюнь, Селяхаттин…» – «Да чего перестать-то, глупая женщина, ты мне еще не говори ерунды, как эти дураки-крестьяне! Мне стыдно за тебя! Говорю, скольких собираюсь настоящими людьми сделать, но собственной жене до сих пор не сумел вбить еще ни одной мысли в голову! Какая ты дура, пойми это хотя бы и поверь мне!» – «Селяхаттин, ты и этих больных потеряешь…», а он словно бы сумасбродил мне назло, когда я так говорила; слушаю из соседней комнаты, что он говорит несчастной больной женщине, приехавшей с мужем издалека, ему нужно дать ей лекарство, и он говорит: «Пусть эта женщина откроется, меня раздражает ее покрывало! Ты-то, ее муж, дурак деревенский, ты хотя бы ей скажи – раз не хочет открываться, хорошо, осматривать ее не буду! Убирайтесь оба, не собираюсь я кланяться этим вашим слепым верованиям!» – «Боже мой, доктор-бей, перестань, дай лекарство!» – «Нет, пока твоя жена не откроется – никаких лекарств! Убирайтесь! Всех вас обманули ложью об Аллахе!» – «Перестань, не богохульствуй, Селяхаттин, молчал бы ты уж лучше, хотя бы с ними не разговаривай так!» – «Нет, никого я не боюсь! Знаешь, обо мне теперь кто угодно что угодно говорит: „Этот доктор – безбожник, не ходите к нему, это – сам шайтан, разве вы не видели у него череп на столе, а вся комната у него забита книгами, а еще там есть странные колдовские приборы, линзы например, что делают из блохи верблюда, трубки, из которых идет дым, проколотые иголками мертвые лягушки, кто же в своем уме пойдет туда по доброй воле доверять душу этому безбожнику, он здорового человека, упаси господь, покалечит, а того, кто ступит на порог его дома, удар хватит“», а недавно он сказал одному больному, приехавшему из самой Ярымджи: «Ты мне кажешься сообразительным малым, ты мне нравишься, ну-ка, бери эти страницы и иди читать их в кофейню», так и сказал: «Я, – говорит, – написал там, как нужно лечиться от тифа и туберкулеза, и еще написал, что Аллаха нет, иди, и пусть ваша деревня спасется; если бы я мог отправить в каждую деревню какого-нибудь такого же смышленого парня, как ты, и он собирал бы каждый вечер в кофейне всю деревню и читал бы в течение часа кусочек из моей энциклопедии, то этот народ спасся бы, но сначала – сначала мне нужно закончить мою энциклопедию, а работа все время затягивается, черт возьми, да и денег нет, Фатьма, твои бриллианты и кольца, твоя шкатулка…» – плотно ли калитку закрыли; конечно, не закрыли, – ведь теперь он уже вообще ничего не боялся, перестали к нему больные ходить, кроме нескольких безнадежно больных да тех, кому деваться некуда, и те – только порог переступят – раскаиваются, что пришли, а повернуть назад да шайтана рассердить боятся… но тебе и дела не было, Селяхаттин, может быть, потому, что были мои бриллианты, и он говорил: «Теперь больные совсем не приходят, и хорошо делают, что не приходят, потому что я выхожу из себя, когда гляжу на этих дурней, меня охватывает ощущение безнадежности, так сложно верить, что эти животные когда-нибудь станут людьми, тут я недавно спросил как-то у одного, сколько градусов сумма внутренних углов в треугольнике, я-то, конечно, знал, что этот бедняга из деревни, в жизни никогда не слыхавший, что такое треугольник, не может знать про углы, но я взял карандаш и бумагу и стал объяснять ему, посмотрю, говорю себе, какая у них способность к математике, но виноваты, Фатьма, не эти несчастные, а это государство, которое даже не шевельнулось, чтобы дать им образование; господи, я сорок часов ему рассказывал, чего только не говорил, чтобы он понял, а он только оторопело смотрел на меня да еще испугался, смотрел точно так же, как ты, глупая женщина, смотришь теперь на меня, что ж ты смотришь на меня, будто дьявола увидала, жалкое ты создание, я ведь твой муж!» – да, Селяхаттин, ты – шайтан, ведь ты сейчас в аду, в адском пламени, а вокруг – зебани[19] и кипящие котлы, или все же смерть такая, как ты говорил, он говорил: «Я открыл смерть, Фатьма. Послушай меня, это важнее всего, теперь смерть стала такой страшной, что я не могу это вытерпеть», и, подумав о том, как ему там, в могиле, я испугалась, – «Тебе плохо, Бабушка?» – и у меня внезапно закружилась голова, я решила, что падаю, но не беспокойся, Селяхаттин, в последний раз читаю Фатиху за упокой твоей души, даже если ты не хочешь, – «Бабушка, хотите, присядьте здесь, отдохните», – замолчите, замолчали, я слышу машину, проезжающую по дороге, затем – кузнечиков, и тут все смолкло, аминь, вытаскиваю платок, прикладываю к глазам, потом встала, я ведь всегда о тебе думаю, сынок, но сначала хотела вытащить из ада твоего отца, милый мой, бедный мой, несчастный мой, глупый мой сынок,
КАЙМАКАМ ДОАН ДАРВЫНОГЛУ1915–1967ПОКОЙСЯ С МИРОМ!
…вот, и тебе читаю Фатиху, неудачливый мой, горемычный мой, обиженный мой, несчастный мой, сиротинушка моя, читаю и тебе, аминь, и ты здесь, Господи Боже мой, мне вдруг показалось, что ты не умер, где мой платок, но – видите – я задрожала и разрыдалась, не успев вытереться, – «Бабушка, Бабушка, не плачьте!» – решила – не поспей они, рыдая, покачнусь и упаду на землю; Господи, несчастная я, что же я сделала, что Ты так меня наказываешь, Господи, чтобы мне вот так на могилу к сыну ходить, я ведь сделала все, что могла, разве я хотела, чтобы так вышло, сынок мой, Доан мой, сколько, сколько раз я тебе говорила, что последнее, что ты должен делать в этой жизни, – слушаться отца, сколько раз я тебе говорила – не смотреть на него, не брать с него пример, разве я не отправила тебя, мальчик мой, учиться в такую школу, при которой живут, подальше от дома, хотя у нас тогда совсем не осталось денег, разве я не отправила тебя учиться в самые лучшие заведения, скрыв от тебя в те годы, что мы живем только на деньги от продажи колец, бриллиантов и алмазов из моей шкатулки, подаренной мне в приданое твоими покойными дедушкой и бабушкой, по субботам ты возвращался домой поздно, после обеда, и пьяный отец не ездил на станцию встречать тебя, и, пока он, не зарабатывая ни куруша[20], пытался выклянчить у меня денег, чтобы издать эти свои дурацкие записки, все – богохульство от начала до конца, я в одиночестве холодными зимними ночами утешала себя тем, что сын у меня хотя бы учится во французской школе, а однажды смотрю – и почему это ты туда пошел учиться? Ты что, вместо того чтобы стать инженером или коммерсантом, хочешь быть политиком? Знаю, захочешь – даже премьер-министром станешь, но разве такому, как ты, стоит заниматься этим? – «Мама, эта страна станет лучше только благодаря политике». – «Разве для тебя такое дело, глупый мой сынок, – страну приводить в порядок?» – говорила я, а он приезжал в те дни на каникулы усталым, задумчивым, господи боже мой… какая же я несчастная – он ведь даже сразу научился грустно ходить по комнате туда-сюда, совсем как его отец; я сказала: «Видишь, ты уже даже куришь в таком возрасте! Откуда эта грусть, эта печаль, сынок?» – а когда ты ответил: «Из-за страны, мама!» – разве я не напихала тебе денег в карманы – может, хоть это тебя развеселит, разве не отдала тебе втайне от отца мой розовый жемчуг, сказав: «Бери, отвези в Стамбул, продай и повеселись!» – чтобы ты поехал в Стамбул, развлекся, с девушками погулял, ни о чем не думал и повеселел, а потом ты внезапно женился на той несмышленой бледной маленькой девочке и привез ее домой – откуда мне знать почему, но разве я не желала тебе долгих счастливых лет, разве я не говорила тебе: «Прояви упорство хотя бы в своем деле; может, тебя министром сделают, не уходи с должности каймакама, смотри – вроде твоя очередь стать губернатором». – «Нет, мама, я больше не могу! Все отвратительно и уродливо, мама!» – ах ты мой бедный мальчик, ну почему же ты не можешь жить, как другие, просто ходить на работу и возвращаться домой, но однажды я рассердилась и сказала: «Я знаю – потому что ты трус и лентяй, не так ли? Ты – как твой отец, у тебя нет смелости жить, общаться с людьми, гораздо проще всех обвинять и всех ненавидеть, правда?» – «Нет, мама, нет, ты не знаешь! Все отвратительны, я даже не могу больше терпеть должность каймакама, там чего только не делают, как только не издеваются над несчастными крестьянами, над нищими бедняками! Жена моя умерла, детьми пусть их тетя занимается, а я подам в отставку, приеду сюда и буду жить здесь! Все, мама, не приставай ко мне, в этом спокойном краю уже много лет только об этом и мечтаю!» – «Ну что, пойдемте уже, Бабушка, уже очень жарко». – «Я хочу сесть и написать всю правду». – «Нет, я тебе не разрешаю!» – «Подождите еще немного, Метин-бей…» – «Ты не будешь здесь жить, ты уедешь и будешь жить полной жизнью! Реджеп, не корми его, взрослый человек, пусть уезжает и сам себе на хлеб зарабатывает!» – «Ты что, перестань, мама! Ты что, в таком возрасте опозоришь меня перед чужими людьми?» – «Оботрите тут кто-нибудь могильные плиты!» – помолчите, вы, невоспитанные, я что, не могу немного побыть наедине с вашим отцом, я тоже вижу грязные следы животных, разве все так должно было быть, но я тогда его спросила: «Ты что, пьешь?» – а ты замолчал, сынок, – «Отчего, ты же еще молодой, давай я еще раз тебя женю! И что ты будешь делать здесь с утра до вечера, в этом безлюдном месте?» – а ты все молчишь, да, о Господи, я знаю, ты, как твой отец, тоже сядешь и станешь писать всякие глупости, всякую ерунду, ты молчишь – разве не так, ох, сынок мой, как мне объяснить тебе, что ты не отвечаешь за все эти преступления, грехи и несправедливость, я жалкая невежественная женщина, смотри – теперь я стала сиротой, надо мной смеются; если бы ты видел, сынок, как я убого живу, какая я горемычная, как я плачу… схватила платок, согнулась от рыданий, – «Перестаньте, Бабушка, хватит, перестаньте плакать. Мы еще приедем…» Господи, какая же я несчастная, меня хотят увести; оставьте меня наедине с моим сыном и с моим мужем, я хочу остаться только с ними, хочу лечь на его могилу, но не легла, нет, Фатьма, смотри, даже твоим внукам тебя жалко, вот, увидели, какая я бедная, злополучная, правы они, конечно, да еще по такой жаре, ладно, читаю еще раз напоследок Фатиху, но вижу, как уродец-карлик нагло смотрит на меня, как баран на новые ворота, ни на минуту не могут человека в покое оставить, везде – шайтан, будто притаился тут, за забором, и смотрит на нас, чтобы нас поссорить, ну, еще, в последний раз Фатиха – «Бабулечка, вам же очень плохо, давайте пойдем уже», – когда я развела руки, они отпустили меня и тоже развели руки, мы молимся в последний раз, молимся, проезжают машины; как жарко, хорошо, что я под пальто кофту не надела, в последнюю минуту в шкафу оставила, а шкаф, естественно, закрыла, если, правда, в пустой дом, упаси Аллах, вор не забрался, вот как мысли могут отвлечь, прости меня, аминь, мы уже уходим, – «Бабушка, обопритесь на меня!» – до свидания, ах, а ведь еще и ты здесь, разве упомнишь все…
ГЮЛЬ ДАРВЫНОГЛУ1922–1964ПОКОЙСЯ С МИРОМ!
…меня-то ведь уже уводят, да и по такой жаре я не в состоянии еще раз останавливаться и молиться, пока внуки молятся за тебя, будет считаться, что и я помолилась, маленькая, бледная, бесцветная девочка, а мой Доан так хорошо к тебе относился, приводил руку мне целовать, а потом вечером тихо приходил ко мне в комнату – «Как ты, мама?» – а что мне сказать тебе, сынок, я сразу поняла – такая слабая, бледная девочка недолго проживет, хватило тебя родить троих детей, так быстро себя растратила, бедненькая, ела всегда с краю тарелки, несколько кусочков, как кошечка, я тебе говорила: «Давай положу еще ложечку, доченька!» – а глаза у нее казались больше от грусти: маленькая бледная девушка, моя невестка, боявшаяся лишний раз поесть, какие могли быть у тебя грехи, чтобы тебе нужна была моя молитва, раз есть с удовольствием они не умеют, жить полной жизнью они не умеют, они умеют только проливать слезы над чужой болью да умирать, бедненькие мои, смотрите, я ухожу – ведь меня уже взяли под руку: «С вами все нормально, Бабушка?» – и, слава богу, мы наконец возвращаемся домой.
8
Они уже собирались уезжать, как вдруг их Бабушка захотела еще раз помолиться, и тогда только одна Нильгюн простерла вместе с ней руки к Аллаху, да, только Нильгюн: Фарук вытащил свой огромный, как простыня, платок и вытирал пот, дядя Реджеп поддерживал Госпожу, а Метин засунул руки в задние карманы джинсов и уже не пытался даже сделать вид, что молится. Потом они быстренько, кое-как дочитали эту молитву. Бабушка опять пошатнулась, они взяли ее под руки с обеих сторон и уводят. Когда они развернулись ко мне спиной, я смог совершенно спокойно выглянуть из-за забора и живой изгороди и увидел смешную картину: Бабушка в ужасных, нелепых штанах, похожих на черный чаршаф, напоминала пугающую марионетку, которой велика ее одежда, в это время с одной стороны ее поддерживал огромный толстяк Фарук, а с другой стороны карлик, мой так называемый дядя. Все это выглядело смешно. Но может быть, оттого, что мы были на кладбище, я не засмеялся, а испугался и стал смотреть на тебя, Нильгюн, на платок у тебя на голове, что так тебе шел, а потом и на твои стройные ноги. Как странно: ты выросла, стала взрослой и красивой девушкой, а ноги у тебя еще как тростинки.
Когда вы сели в машину и уехали, я вышел из своего укрытия, чтобы никто не решил, что я совершаю что-то плохое, и подошел посмотреть на тихие могилы: вот ваш дедушка, это ваша мама, а вон – ваш отец, а я видел только его. Помню, когда мы играли в саду, он иногда выглядывал из-за ставней, видел нас вместе, но не ругал вас за то, что вы играете со мной. Я прочитал за него Фатиху, потом недолго постоял там, жарясь на солнце и слушая кузнечиков, и странные мысли, странные туманные мысли посетили меня, я опять ощутил страх, в голове все смешалось, я почувствовал себя так, будто накурился. Потом я вышел с кладбища, пошел домой, к учебнику по математике, оставленному дома открытым на столе. Час назад, когда я сел за стол, я посмотрел на улицу и тут же увидел, как вы ехали на вашем белом «анадоле» вверх по холму, и я понял, куда и зачем вы едете, раз с вами Бабушка. Тогда я подумал о кладбище и покойниках, и вся эта дурацкая математика, которая и так действует мне на нервы и все никак не лезет мне в голову, окончательно вылетела у меня из головы, и я решил – пойду-ка я туда посмотреть на них, полагая, что, когда увижу, что они там делают на кладбище, – успокоюсь, а потом вернусь и сяду заниматься. Я вылез через окно, чтобы мама не видела и не огорчалась понапрасну, прибежал сюда, увидел вас, а сейчас возвращаюсь к открытому учебнику математики.
Пыльная дорога закончилась, начался асфальт. Мимо меня проезжают машины, я пару раз голосовал, но ведь у тех, у кого такая машина, совести быть не может: они уносятся вниз с холма на последней скорости, не замечая меня. Потом я пошел к дому Тахсина. Пока он с матерью собирает за домом черешню, отец продает ее, сидя под навесом, и тоже будто не видит меня. Он даже не поднял голову взглянуть на меня, потому что я не проезжаю мимо него на шикарной машине со скоростью сто километров в час и, внезапно тормознув, не покупаю сразу пять кило черешни на целых восемьдесят лир. Я было сказал себе, что теперь только я один думаю о чем-либо, кроме денег. Но тут я увидел Халиля на его грузовике для мусора и обрадовался. Он ехал вниз, я поднял руку, и он остановился. Я сел.
– Как твой отец? – спросил он.
– Как-как! Все с лотереей! – ответил я.
– И куда он ходит?
– По утрам в поезде торгует.
– А ты?
– А я еще учусь. До какой он разгоняется? – спросил я, кивнув на грузовик.
– До восьмидесяти! – ответил он. – А почему ты здесь?
– Да голова разболелась. Вышел прогуляться, – сказал я.
– Если у тебя в таком возрасте уже голова болит…
Мы рассмеялись. Он притормозил возле нашего дома, но я сказал:
– Нет, я выйду на квартал дальше.
– Почему там?
– Да приятель там у меня один, ты его не знаешь!
Когда мы проезжали мимо моего дома, я заглянул в свое открытое окно. Вернусь домой прежде, чем днем придет отец. Мы подъехали к следующему кварталу, я сразу же слез с грузовика и быстро-быстро зашагал прочь, чтобы помощники Халиля не считали меня глупым лентяем. Я дошел до самого пирса, ненадолго присел там, потому что обливался потом от жары, и стал смотреть на море. Какой-то катер быстро подплыл к пирсу, высадил девушку и уплыл обратно в море. Глядя на нее, я подумал о тебе, Нильгюн. Только что собственными глазами видел, как ты воздела руки к Аллаху. Это выглядело странно. Словно разговаривала с Ним. А потом я подумал: «В Книге пишут, что есть ангелы. Так и шайтан есть. И всякое другое». Мне показалось, что я стал думать обо всем этом потому, что хотел испугаться Аллаха. Чтобы хорошенько напугаться, струсить, почувствовать себя виноватым и, взбежав вверх по холму, вернуться домой и сесть за математику. Но я и так скоро за нее сяду. А сейчас лучше немного прогуляться. Я пошел дальше.
Я опять вспомнил о преступлениях, о грехах и шайтане; когда пришел на пляж, услышал этот отупляющий шум и увидел эту кучу живого мяса. Куча шевелящегося мяса – из нее то и дело всплывает разноцветный надувной мяч и тут же падает и исчезает, мяч словно хочет убежать от всех преступлений и пороков, но женщины его ловят опять. Я еще немного посмотрел на толпу через проволочный забор, увитый плющом. Так странно: иногда мне хочется совершить что-нибудь плохое, мне хочется как-то обидеть их, чтобы они меня заметили: так я сумею наказать их, все перестанут внимать шайтану и тогда, наверное, будут бояться только меня. Иногда я думаю, что рожденный ползать летать не сможет. Но потом мне делается стыдно. Стало стыдно и сейчас. Чтобы забыть о стыде, я стал думать о тебе, Нильгюн. Ты невинна. От толпы было невозможно оторвать взгляд, я решил – еще немного посмотрю и вернусь к математике, но вдруг смотритель пляжа спросил меня:
– Чего ты здесь торчишь?
– А что, нельзя?
– Если собираешься входить – входи, вон там билеты продаются, – сказал он. – Если у тебя есть плавки и деньги…
– Нет, – ответил я. – Не хочу. Я ухожу.
Я ушел. «Если у тебя есть деньги…» «Если у тебя есть деньги…» «Сколько…» Теперь это твердят вместо Фатихи. Вы все такие противные, и иногда я чувствую себя совершенно одиноким: половина – мерзавцы, половина – дураки. Если задуматься обо всем этом, то испугаешься этой толпы, но, к счастью, есть наши ребята, и, когда я вместе с ними, я никогда не путаюсь, а точно знаю, что такое грех и преступление, что можно, а чего нельзя, и ничего не боюсь. И еще очень хорошо понимаю, что нужно делать. А потом я вспомнил, как наши парни смеялись надо мной вчера вечером в кофейне, обзывая шакалом, и разозлился. Ну и ладно. Я, господа, и сам смогу сделать все, что предстоит сделать, и путь этот я пройду в одиночестве, потому что мне все известно. Я почувствовал веру в себя и ощутил уверенность.
Пока я брел, я дошел до вашего дома, Нильгюн. Сначала я не заметил этого, а потом увидел старую, заросшую мхом стену и понял, что это ваш дом. Калитка в сад закрыта. Я пошел, сел под каштаном на противоположной стороне улицы и стал смотреть на окна и стены вашего дома, было любопытно, что ты делаешь там, внутри. Может быть, ты обедаешь, может, у тебя все еще на голове тот платок, а может быть, ты прилегла поспать. Я поднял с земли веточку и стал задумчиво рисовать твое лицо на песке у обочины. Наверное, когда ты спишь, твое лицо еще красивее. Глядя на это лицо, я забываю о преступлениях, ненависти и грехах, в которых, как мне кажется, я погряз по самую шею, забываю и о гнилостном чувстве вины и говорю себе: какие у меня могут быть грехи, я же не такой, как они, а такой, как ты, я верю в это. Потом я представил: а что, если тайком, не замеченному карликом, пробраться в сад и по дереву и выступам забраться наверх по стене, и через вон то открытое окно залезть к тебе в комнату, как кошка, и поцеловать тебя в щеку?.. «Кто ты?» – «Ты не узнала меня? Мы играли в детстве в прятки, я люблю тебя, я люблю тебя больше, чем все изысканные мужчины, с которыми ты знакома!» Тут я почему-то разозлился: затоптал лицо, нарисованное на песке, и уже встал и собрался уходить – надоели мне все эти дурацкие фантазии, как вдруг увидел: Нильгюн вышла из дома и идет к калитке.
Всё поймут неверно, всё дурно истолкуют. Я сразу же отошел недалеко, встал спиной к калитке. Услышав ее голос, обернулся – ты вышла из калитки и куда-то идешь. Куда? Мне стало любопытно, я пошел следом.
В ее походке есть нечто странное – она чуть-чуть переваливается. Как мужчина. А если догнать ее и коснуться плеча? «Ты не узнала меня, Нильгюн? Я – Хасан, помнишь, в детстве мы играли у вас в саду вместе с Метином, а потом рыбу ловили?»
Она дошла до угла, не обернулась, идет дальше. Ты что, на пляж идешь, будешь там, среди них? Я рассердился, но продолжал идти следом за ней. Ноги тонкие как тростинки, а идет быстро. Куда ты так торопишься, тебя кто-то ждет?
Но она прошла пляж, свернула и идет вверх по улице. Теперь я могу предположить, кто тебя ждет. Может, ты сядешь в его машину, а может, у него есть катер. Я иду следом, потому что мне любопытно, кем же из них он окажется, ведь я знаю, что он такой же, как все они.
Вдруг она зашла в одну из тамошних бакалейных лавок и пропала из виду. Перед лавкой мальчик продает мороженое. Я знаю этого малыша и стал ждать неподалеку, чтобы мальчик не подумал обо мне чего-нибудь не то. Не люблю прислуживать богачам.
Через некоторое время Нильгюн вышла и, вместо того чтобы идти дальше, пошла обратно тем же путем, что и пришла, прямо ко мне. Я быстро отвернулся и наклонился – якобы завязываю шнурок на ботинке. Она подошла с пакетом в руках и посмотрела на меня. Я смутился.
– Здравствуй, – сказал я, вставая.
– Здравствуй, Хасан, – ответила она. – Как твои дела? – Немного помолчав, она добавила: – Мы вчера видели тебя по дороге, когда ехали сюда, старший брат тебя узнал. Ты так вырос, очень изменился. Чем ты занимаешься? – Она опять немного помолчала и продолжила: – Твой дядя сказал, вы все еще живете наверху, а твой отец продает лотерейные билеты. – Еще немного помолчала и спросила: – Ну а ты что делаешь, говори, в какой перешел?
– Я? Я в этом году на второй год, – наконец выдавил из себя я.
– А почему?
– Ты на море идешь, Нильгюн?
– Нет, – сказала она. – Я иду из бакалеи. Мы возили Бабушку на кладбище. Кажется, ей стало немного плохо от жары, купила ей одеколон.
– Значит, ты не идешь на этот пляж, – уточнил я.
– Там очень много народу, – ответила она. – Я пойду рано утром, когда нет никого.
Мы немного помолчали. Потом она улыбнулась мне, я ей тоже и подумал, что ее лицо вблизи не такое, каким казалось мне издалека. Я взмок как дурак. Решит, что от жары. Молчу. Она шагнула в сторону и сказала:
– Ладно. Передавай привет отцу, хорошо?
Она протянула руку, и мы обменялись рукопожатием. Рука у нее мягкая и легкая. Мне стало стыдно, что у меня вспотела ладошка.
– До свидания, – сказал я.
Она ушла. Я не стал смотреть ей вслед, а побрел куда-то с задумчивым видом, как люди, у которых есть очень важные дела.
9
Мы вернулись с кладбища, Бабушка поела с нами внизу, а потом ей стало плохо. Правда, ничего серьезного. Мы с Нильгюн смеялись, а она вдруг как-то злобно посмотрела на нас и тут же уронила голову на грудь. Мы взяли ее под руки, отвели наверх, уложили в кровать и протерли ей запястья и виски одеколоном, который принесла Нильгюн. Потом я пошел к себе в комнату и выкурил первую послеобеденную сигарету в своей жизни. Когда стало ясно, что с Бабушкой ничего серьезного, я сел в раскалившийся на солнце «анадол» и уехал. Я поехал не по главной трассе, а по дороге на Дарыджу. Ее тщательно заасфальтировали. Но несколько черешен и смоковниц еще осталось. В детстве мы приходили сюда с Реджепом погулять и устраивали нечто вроде охоты на ворон. Где-то здесь должны быть развалины, которые, как я считал, когда-то были караван-сараем. На холмах построили новые кварталы. И сейчас еще строят. В Дарыдже я не увидел ничего нового – лишь статую Ататюрка десятилетней давности.
В Гебзе я пошел прямо к каймакаму. Каймакам поменялся. Два года назад за этим столом сидел уставший от жизни человек, а сейчас – молодой парень, все время размахивавший руками. Мне не понадобилось ни вытаскивать мою диссертацию, изданную на факультете, ни говорить, что я раньше уже бывал в архиве или что мой покойный отец тоже был каймакамом, что я собирался проделать, чтобы произвести на него впечатление. Он позвал какого-то человека и отправил меня с ним. Вместе мы стали искать Резу, которого я знал с прошлых посещений архива, но найти его не смогли – нам сказали, он ушел в поликлинику. Я решил немного прогуляться по рынку, пока он не вернется.
Пройдя по узкому проходу, над которым свешивался вьющийся кустарник, я вышел к рынку. Сначала я пошел вниз по улице. На улице никого. Какая-то собака бродит по тротуару, в магазине по продаже металлических изделий какой-то человек возится с газовым баллоном. Я вернулся назад, не обращая внимания на витрину канцелярского магазина, и пошел дальше, прячась от солнца в узенькой тени перед магазинами, пока не увидел мечеть. Потом опять вернулся на маленькую площадь, сел под платаном, выпил чаю, чтобы прогнать сон, и, вполуха слушая радио, работавшее в кафе, попытался забыть о жаре, наслаждаясь тем, что никому нет до меня дела.
Когда я вернулся в здание районной администрации, Реза уже пришел: увидев меня, узнал и обрадовался. Пока он искал ключи, мне нужно было написать заявление. Мы вместе спустились в подвал. Он открыл дверь, и я сразу вспомнил запах плесени, пыли и влаги. Мы немного поболтали, пока Реза вытирал пыль со старого стола и стула. Потом он ушел, оставив меня одного.
В архиве Гебзе нет ничего особенного. Все, что есть, осталось от короткого промежутка времени, когда городок был судебным округом, о чем мало кто знал и чем мало кто интересовался. Бльшая часть документов, сохранившихся с того времени, была отправлена в Измит, который тогда назывался Изникмит. А здесь остались лишь сваленные в кучу, забытые в коробках, друг на друге ферманы[21], купчие, судебные реестры и официальные ведомости, да так и лежат. Тридцать лет назад один школьный учитель истории, любивший свою профессию и пылавший тем бюрократическим национализмом, что был свойствен многим в первые годы республики, пытался навести в этих бумагах какой-то порядок, но потом бросил. Два года назад я решил продолжить его незавершенное дело, но, проработав неделю, испугался. Чтобы быть архивариусом, нужно иметь больше смирения, чем историку. В наши дни мало кто, набравшись хоть какой-то грамоты, способен на такую скромность. И наш школьный учитель тоже был таким: он сразу поддался искушению описать в собственной книге часы, проведенные в архиве. Помню, что в те дни, когда мы ссорились с Сельмой, я читал ради развлечения, за пивом, эту книгу, в которой учитель, помимо истории собственной жизни и жизни своих знакомых из Гебзе, рассказывал о знаменитостях, а также об исторических зданиях городка. Потом я рассказывал о ней некоторым коллегам с факультета, но все они в один голос твердили мне: нет, совершенно невозможно, чтобы в Гебзе находились такие документы! Я замолкал, а они мне доказывали, что в Гебзе не может быть даже архива.
Мне гораздо приятнее работать в таком месте, в существование которого не верят специалисты, чем работать в Архиве аппарата премьер-министра вместе с завистливыми коллегами. Я с удовольствием перебираю истрепанные, помятые, покрытые желтыми пятнами и плесенью листки бумаги, вдыхая их запах. Мне кажется, что, по мере того как я читаю, я словно бы вижу людей, чьи жизни привязаны к тому, что здесь написано, которые писали или приказывали писать эти бумаги. Возможно, я пришел в архив именно ради удовольствия видеть этих людей, а не для поисков упоминаний о чуме, которые, как мне казалось, я видел в прошлом году. По мере того как читаешь кипы поблекших бумаг, они начинают расступаться перед тобой. Подобно тому как после долгого морского путешествия туман, от которого вы задыхались всю дорогу, рассеивается и внезапно показывается кусочек суши, изумляя вас каждым своим деревцем, камнем и птицей, так и в моем сознании, пока я читаю, из бумаг, постепенно расступающихся передо мной, внезапно появляются миллионы переплетенных жизней и историй. И тогда я очень радуюсь и решаю, что история – это и есть красочный и полный жизни образ, что оживает в моем сознании. Если меня попросят сказать, что это за образ, я не смогу. А потом он исчезает, оставив после себя странное ощущение. И мне делается страшно, что я никогда больше не увижу этот мимолетный образ, и мне хочется все время думать о нем. Я пытаюсь опять найти его, покурив, но, черт возьми, в архивах обычно и курить запрещено.
Читая один судебный реестр, я подумал, что, возможно, смогу опять увидеть этот образ, если буду записывать то, что читаю. Я стал писать в тетради, которую принес с собой в сумке. Некто по имени Джеляль жалуется, что Мехмет его оскорбил. Обозвал его шарлатаном! А в присутствии кадия все отрицает! У Джеляля есть свидетели, по имени Хасан и Касым, которые подтверждают: «Да, обругал!» Кадий позвал Мехмета разъяснить дело под присягой. Мехмет не смог. Дата этого случая стерлась, и я не смог записать его. Затем я прочитал и записал о том, что некто по имени Хамза назначил себе опекуном Абди. После этого я записал, как был пойман один раб русского происхождения по имени Дмитрий. Было установлено, что его хозяином является Вели-бей из Тузлы, и Дмитрия решили вернуть ему. Еще я прочитал о том, что случилось с пастухом Юсуфом, оказавшимся в тюрьме потому, что он потерял корову. Говорит, не продавал корову и не резал. Потерял, говорит. В конце концов его брат Рамазан поручился за него, и он вышел из тюрьмы. После этого я прочитал один ферман. Почему-то было приказано, чтобы некоторые корабли, груженные пшеницей, шли прямо в Стамбул, не заходя в порт Гебзе, в Тузлу или в Эскихисар. Некто по имени Ибрагим сказал: «Если я не отправлюсь в Стамбул, то моя жена получит полный развод»[22]. В Стамбул он не поехал, и его жена, Фатьма, сказала, что совершенно свободна. Ибрагим возражает, что пока не ездил в Стамбул, но поедет, а в клятве своей никакого срока не указывал. Вслед за тем я попытался выяснить размер некоторых сданных в аренду вакуфных[23] земель, глядя на количество акче[24] в записях, но точного результата получить не смог. Одновременно я записал к себе в тетрадь, каков будет совокупный годовой доход от мельницы, огорода, сада и оливковой рощи. Когда я переписывал все это к себе в тетрадь, мне показалось, что я вижу эти земли, но, наверное, я обманывался. Потом я еще прочитал о нескольких кражах и, решив, что ничего не могу увидеть, вышел из архива.
Пока я курил в коридоре, я думал, что, вместо того чтобы искать упоминания о чуме, которые я нашел здесь в бумагах в прошлом году, я могу поискать и какой-нибудь другой рассказ. Я спросил себя, что это за рассказ должен быть. Но это показалось мне скучным и захотелось подумать о чем-нибудь другом, ведь история и рассказ – не одно и то же. Должно же существовать что-то, помимо сносок, что отличало бы хорошую книгу по истории от хороших рассказов или от романа? Что же это?
Из окна в конце коридора виднеется стена дома, стоящего позади здания районной администрации. Перед этой интригующей стеной – а что же там, за ней? – остановился грузовик, я вижу его задние колеса. Я докурил сигарету и, потушив ее о песок в красном противопожарном ведре, вошел в архивную комнату.
Я прочитал историю одного человека, по имени Этхем, который жаловался на Касыма: пока Этхема не было дома, Касым пришел к нему домой и разговаривал с его женой. Касым не опровергает случившееся, но только говорит, что приходил в дом, чтобы поесть оладьев, и, взяв немного масла, ушел. Другая пара истцов судилась потому, что один оттаскал другого за бороду. Потом я записал названия деревень под Гебзе, которые вручили Ахмету и Джаферу за их подвиги на войне. Затем я прочитал жалобы жителей одного квартала на то, что две женщины, по имени Кезбан и Кевсер, занимаются распутными заработками. Жалобщики также просили, чтобы этих женщин выселили из квартала. Тут же я увиел и записал свидетельство некоего Али, что Кевсер занималась этим и раньше. Некто по имения Сатылмыш должен получить у Календера двадцать два золотых, но Календер отрицает, что должен деньги. Одна девушка, по имени Мелек, утверждала, что, будучи свободной, была незаконно продана Бахаттину-бею человеком по имени Рамазан.
Вслед за этим я записал вот о чем: один юноша, по имени Мухаррем, ушел из дома, чтобы изучать Коран, а его отец Синан застал его с Ресулем. Отец говорит, что Ресуль сбил его сына с правильного пути и просит провести расследование. А Ресуль отвечает, что Мухаррем сам пришел к нему, они вместе пошли на мельницу, а на обратном пути Мухаррем скрылся во фруктовой роще, собирая инжир. Переписав и эту историю вместе с датой к себе в тетрадь, я задумался о том, каким был инжир, который так нравился мальчику, и каким был Ресуль, которому так нравился мальчик, любивший инжир около четырехсот лет назад. Потом я прочитал и записал приказы о поимке одного воина-сипахи[25], ставшего разбойником, о немедленном закрытии всех мейхане[26] и о том, чтобы немедленно проучили всех, кто пьет вино. Еще я прочитал и записал: о кражах, о недобросовестной торговле, о грабителях, о тех, кто женится и разводится… Чем могли мне помочь все эти истории? На этот раз я даже не пошел курить в коридор. Пытаясь забыть, что все эти рассказы нужны мне только для одного, я переписал к себе в тетрадь целую кучу цифр и слов, касавшихся цен на мясо. Тем временем мне на глаза попалась запись одного судебного допроса по поводу трупа, найденного в каменоломнях. Рабочие, которых пытали во время допроса, по очереди рассказывали, как они провели тот день. И только тут мне показалось, что я словно бы вижу тот день, 23е число месяца реджеба 1028 года[27], и обрадовался. Я несколько раз внимательно перечитал то, что говорили рабочие, в подробностях сообщавшие о том, что они делали весь день. Мне захотелось соединить это удовольствие с удовольствием от сигареты, но я сдержался и точно переписал к себе в тетрадь все, что прочитал. На это у меня ушло много времени, но, когда я закончил писать, я был вне себя от радости. Солнце опустилось и осторожно светило в угол подвального окна. Я, кажется, был бы готов смириться с тем, чтобы провести в этом прохладном подвале всю жизнь, если бы кто-нибудь оставлял для меня перед дверью три раза в день еду и пачку сигарет, а по вечерам немного ракы. Сегодня я не смог отчетливо разглядеть этот образ, но, по крайней мере, вроде бы слегка почувствовал его существование: за этими листочками бумаги было столько историй, что хватило бы на целую жизнь, и этим историям предстояло показать мне сушу за завесой тумана. Подумав об этом, я еще больше поверил в себя и в свою работу. Потом, как хороший и прилежный ученик, я сосчитал, сколько страниц написал у себя в тетради. Ровно девять! Я решил, что заслужил вернуться домой и выпить, и встал.
10
Мы сидели на маленькой пристани перед домом Джейлян, я собирался прыгнуть в воду, но, черт, все никак не мог перестать слушать то, что они говорили.
– Что будем делать вечером? – спросила Гюльнур.
– Давайте придумаем что-нибудь новенькое! – сказала Фафа.
– А! Ну тогда поехали в Суадие!
– И что там такое? – спросил Тургай.
– Музыка! – воскликнула Гюльнур.
– Музыка есть и здесь.
– Хорошо, тогда сама скажи, что будем делать.
Тут я нырнул и, быстро отплывая от берега, подумал, что в следующем году в это время я уже буду в Америке, вспомнил своих бедных родителей, покоившихся на кладбище, представил вольные улицы Нью-Йорка, чернокожих, которые будут играть на перекрестках для меня джаз, длинные бесконечные подземные переходы в метро, где никому ни до кого нет дела, его неиссякаемые подземные лабиринты и, вообразив все это, повеселел, но потом вспомнил, что, если я останусь без денег из-за старшего брата и сестры, не смогу поехать в Америку в следующем году, и уже начал злиться из-за этого, как вдруг сказал себе – нет, сейчас я думаю о тебе, Джейлян, о том, как ты сидишь на пристани, как вытянула ноги, о том, что я тебя люблю и заставлю и тебя полюбить меня.
Через некоторое время я вынырнул и огляделся. Я уплыл очень далеко от берега, и мне почему-то стало страшно: они были там, на берегу, а я был в соленой, полной водорослей, пугающей воде без конца и края. Внезапно я забеспокоился и быстро поплыл к берегу, словно за мной гналась акула, вышел из воды, подошел к Джейлян, сел рядом и от нечего делать произнес:
– Море такое хорошее.
– Но ты же сразу вышел, – сказала Джейлян.
Отвернувшись, я стал слушать, что рассказывал Фикрет. Он рассказывает о трудностях, которые иногда случаются в жизни людей с сильным характером: этой зимой у его отца внезапно случился сердечный приступ, и ему тут же пришлось в одиночку управлять всем бизнесом, да-да, в его-то восемнадцать лет, и он сам вел все дела и контролировал сотрудников, пока из Германии не приехал старший брат. Затем он сказал, что скоро он станет еще более важным человеком, потому что его отец может умереть в любой момент, и тут я заметил, что наш – давно умер и что сегодня утром мы ездили на кладбище.
– Перестаньте, ребята! Мне из-за вас стало грустно, – сказала Джейлян, встала и ушла к другим.
– Давайте придумаем что-нибудь?
– Давайте. Пошли куда-нибудь.
Фафа подняла голову от своего журнала:
– Вы куда?
– Куда-нибудь, где весело! – сказала Гюльнур.
– К крепости! – сказала Зейнеб.