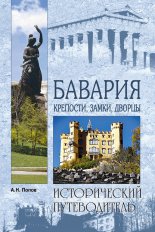Идору Гибсон Уильям
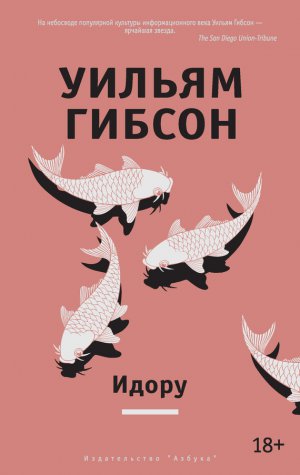
1. Куб казни К
После «Слитскана» Лэйни услышал от Райделла о другой работе. Кто такой Райделл? Ночной охранник из «Шато». Большой, спокойный теннессиец, всегда в дешевых солнечных очках и с уоки-токи в ухе, всегда чему-то грустно улыбается.
– «Парагон-Эйша Дейтафлоу», – сказал Райделл.
Это было уже под утро, в пятом, что ли, часу, и они сидели в громадных старых креслах. Там, в вестибюле «Шато», вся мебель была такая громоздкая, что человек в ней словно как терялся, становился меньше ростом. А бетонные потолочные балки кто-то не очень убедительно раскрасил под светлый дуб.
– Да? – вежливо отозвался Лэйни, хотя откуда уж там было Райделлу знать, в каких местах его еще могут взять на работу.
– Токио, Япония, – сказал Райделл и потянул через пластиковую соломинку охлажденный кофе с молоком. – Парень, которого я встретил в том году в Сан-Франциско. Ямадзаки. Он у них работает. Говорит, они ищут серьезного нет-раннера.
Нет-раннер. Лэйни, предпочитавший считать себя исследователем, с трудом подавил печальный вздох.
– По контракту?
– Наверное. Он не говорил.
– Не очень мне что-то хочется жить в этом Токио.
Райделл покрутил соломинкой пену и кубики льда, оставшиеся на дне высокого пластикового стакана, словно в надежде обнаружить там какой-нибудь подарок от фирмы, и поднял глаза.
– Он такого не говорил, что жить обязательно там. А ты был когда-нибудь в Токио?
– Нет.
– Интересное, наверное, место, после этого землетрясения и вообще. – Уоки-токи пискнул и начал что-то нашептывать. – Ну вот, теперь мне надо проверить ворота со стороны коттеджей. Хочешь прогуляться?
– Нет, – мотнул головой Лэйни. – Спасибо.
Райделл встал. На нем был черный нейлоновый ремень, сплошь увешанный черными футлярчиками с какими-то хитрыми приспособлениями, и белая тенниска с подозрительно неподвижным черным галстуком.
– Я оставлю телефон в твоем ящике, – сказал он, привычно разглаживая складки на форменных, цвета хаки, брюках.
Райделл пересек устланное разнообразными коврами фойе и исчез где-то за темной, полированного дерева конторкой. Лэйни смутно помнилось, что у него вроде бы были в прошлом крупные неприятности. Приятный парень. Неудачник.
Когда Лэйни покинул наконец свое кресло, сквозь высокие арочные окна уже сочился тусклый рассвет, а в темной, как пещера, столовой начала сдержанно позвякивать тайваньская нержавейка. Иммигрантские голоса, степной диалект, понятный разве что Чингисхану. Звуки отражались от выстланного терракотовой плиткой пола, от потолочных балок, чудом оставшихся со времени, когда здесь впервые появились такие, как Лэйни, или их предшественники со своей экологией известности и жуткой, нерушимой и непререкаемой иерархией взаимного пожирания.
Райделл сдержал обещание и оставил Лэйни сложенный пополам листок бумаги. Токийский номер. Лэйни извлек его из ящика на следующий день вместе с самой свежей оценкой своего гостиничного счета.
Теперь он не мог даже делать вид, будто номер в «Шато» ему по карману.
Неделю спустя в Токио он увидел свое лицо, отраженное в большом, с золотыми прожилками зеркале в лифте, поднимавшемся на четвертый этаж агрессивно-невзрачного здания «Боже Ж Ты Мой». Целью поездки был «Куб Казни К», такой себе бар по мотивам Франца Кафки.
Прямо из лифта – в длинный зал, поименованный на травленой стальной пластинке как «Превращение». Где твердозарплатники в непременных белых рубашках, скинув пиджаки и расслабив узлы непременных темных галстуков, пили за искусно изоржавленной стальной стойкой, сидя на стульях с высокими спинками из какого-то бурого, хитиноподобного пластика.[1] Над их головами хищно нависали иззубренные инсектоидные мандибулы.[2]
Лэйни окунулся в коричневый свет, в негромкий прибой разговоров. Он не знал японского. На прозрачной местами стене регулярно повторялись изображения таких же мандибул, а еще огромных жестких надкрылий и шипастых коленчатых конечностей. Он ускорил шаг, направляясь к изогнутой лестнице со ступеньками на манер блестящих коричневых панцирей.
С другой стороны за ним следили глаза русских проституток, кукольно-пустые в тусклом, тараканьем свете. Эти Наташи были тут везде, рабочие девчонки из Владивостока, товар, доставляемый Комбинатом. Элементарная пластическая операция наделяла их бездушной, конвейерной красотой. Славянские Барби. А вживить для удобства надзирателей радиомаячок, так это еще проще.
За лестницей – «Исправительная Колония», дискотека, совершенно в такой час пустая. Лэйни пересек зал, так никого и не встретив, под беззвучные вспышки красных молний. С потолка свисал дикого вида механизм, каждая из его членистых, в стиле древнего зубоврачебного оборудования, лапок заканчивалась острым стальным шипом. «Борона», смутно вспомнил он. И эти самые – зубья, резцы. Рассказ Кафки, машина, исполняющая смертный приговор, вырезая его текст на теле осужденного. Устремленные вверх глаза. Невидящие. Он зябко передернулся, стряхивая воспоминания, и пошел дальше.
Вторая лестница, узкая и покруче, привела в «Процесс», мрачный и с низким потолком. Стены цвета антрацита. За синим стеклом трепещут языки пламени. Замешкался у входа – джет-лаг плюс проклятая куриная слепота.
– Колин Лэйни, если не ошибаюсь?
Австралиец. Огромный. Стоит за маленьким столом, по-медвежьи ссутулившись. Что-то странное в форме наголо бритой башки. И второй, гораздо меньше, сидит. Японец, клетчатая, с широченным воротником, ковбойка застегнута до самого горла. Мигает сквозь круглые стекла очков.
– Садитесь, мистер Лэйни, – сказал австралиец.
Чуть попривыкнув к темноте глазами, Лэйни рассмотрел, что у него нет левого уха, срезано чуть не начисто, остался какой-то скрученный обрубок.
Когда Лэйни работал на «Слитскан», его супервайзера звали Кэти Торранс. Светлейшая из светлых блондинок. Бледность на грани полной прозрачности, при определенных углах освещения начинало казаться, что в ней течет не кровь, а некая странная жидкость цвета свежей соломы. На ее левом бедре было пронзительно синее изображение чего-то гнутого и крученого, со множеством шипов. Дико дорогая дикарская пиктограмма. Доступная наблюдению ежепятнично, когда Кэти приходила на работу в шортах.
Она всю дорогу жаловалась, что известность очень быстро снашивается. Зациклилась, как думал Лэйни, на расхожем мнении многих поколений своих коллег.
В тот раз она сидела, закинув ноги на край своего мультистола. Абсолютно точные, разве что крошечные, копии футбольных ботинок, застегнутые на подъеме, с крепкой шнуровкой по щиколоткам. Лэйни смотрел на ее ноги, длинный, упругий взлет от грубошерстяных носков к бахроме коротко обрезанных джинсов. Татуировка казалась чем-то инопланетным, таким себе знаком или посланием, выжженным на подручном материале кем-то из дальнего космоса на радость человечеству – пусть себе сидит и разгадывает.
Он спросил, что она имеет в виду. Кэти не спеша извлекла из упаковки беленькую, с мятным ароматом зубочистку. Лэйни сильно подозревал, что глаза, смотревшие на него сквозь мятного цвета линзы, были в действительности серыми.
– Теперь больше нету настоящих знаменитостей. Ты что, сам этого не замечаешь?
– Нет.
– Я имею в виду настоящих знаменитостей. Славы почти не осталось, если в старом смысле этого слова. Так, немножко, по мелочам.
– В старом смысле?
– Мы, Лэйни, мы – масс-медиа. Мы делаем этих засранцев знаменитыми. Подтолкнуть, вытащить, рутинная работа. Они приходят к нам, чтобы мы их слепили из чего уж там есть.
Шипастые подошвы взбрыкнули и пропали. Кэти подобрала ботинки под себя, каблуками к джинсовым бедрам, белесые коленки скрыли ее рот. И как она не сверзится со стула, неудобно же так сидеть.
– Ну и что, – заметил Лэйни, возвращаясь к своему дисплею. – Как ни крути, слава, она и есть слава.
– А она что, настоящая?
Лэйни недоуменно обернулся.
– Мы научились чеканить из этого дерьма деньги, – продолжила Кэти. – Валюта нашего околотка. А теперь мы нашлепали ее слишком много, даже аудитория начинает догадываться. Это видно по рейтингам.
Лэйни кивнул, мечтая, чтобы она оставила свой треп, дала ему поработать.
– А потому, – сказала Кэти, – иногда мы решаем уничтожить какую-нибудь ее часть.
За ней, за анодированной сеткой «Клетки», за обрамляющим прямоугольником стекла, не пропускающего внутрь ни молекулы атмосферных загрязнений, висело пустое, безукоризненно гладкое небо Бербанка, образчик небесно-голубого пигмента, предоставленный прорабом Вселенной.
Обрубок уха зарос по краю розовой, гладкой, как воск, кожицей. Странно, можно же было пришить, а потерялось – так реконструировать.
– Чтобы не забыть, – сказал австралиец, по глазам читая мысли Лэйни.
– Не забыть что?
– Не забыть вспомнить. Садись.
Лэйни опустился на нечто если и напоминавшее стул, то лишь весьма отдаленно – хлипкую конструкцию из черных металлических прутиков и ламинированного пластика. Столик был круглый, размером с автомобильную баранку. За синим стеклом колыхались огни невесть какому богу возженных лампад. Японец в ковбойке и круглых, металлом оправленных очках яростно моргал. Австралиец сел на такой же, из обгорелых спичек, стул, полностью скрыв его под своей непомерной, как у борца сумо, горой мускулов.
– Ты вроде справился уже с джет-лагом?
– Таблетки принял.
Вспомнилась тишина в сверхзвуковом самолете, ощущение, что он вроде и не летит никуда, а застыл на месте.
– Таблетки, – повторил толстый. – Гостиница приличная?
– Да, – кивнул Лэйни. – Я готов к интервью.
– Ну что ж… – Мужик энергично помял свое лицо огромными, сплошь в шрамах руками, а затем взглянул на собеседника, словно удивляясь, откуда он взялся. Лэйни опустил глаза на нанопорный тренировочный костюм, словно снятый с кого-то другого – тоже очень крупного, но все-таки малость поменьше. Цвета не разберешь, в такой темноте все кошки серы. Расстегнут почти до середины груди. Чуть не лопается на этой чудовищной туше. Обнаженный треугольник кожи исполосован десятками разнообразнейших по форме и текстуре шрамов, речная дельта из какого-то бредового атласа. – Ну так что?
Лэйни перестал изучать шрамы и поднял глаза.
– Я насчет работы. Пришел на предварительное интервью.
– Серьезно?
– Вы интервьюер?
– Интервьюер? – Неопределенная улыбка, демонстрирующая вполне определенные вставные зубы.
Лэйни повернулся к японцу.
– Колин Лэйни.
– Синья Ямадзаки. – Японец чуть привстал и пожал Лэйни руку. – Мы с вами говорили по телефону.
– Это вы проводите интервью?
Глаза очкарика заморгали еще чаще.
– К сожалению, нет. Я занимаюсь экзистенциальной социологией.
– Я ничего не понимаю, – вышел из себя Лэйни.
Молчание. Синья Ямадзаки смущенно отводит глаза. Одноухий нахмурился.
– Вы австралиец, – констатировал Лэйни.
– Тэззи,[3] – поправил одноухий. – В Смуту мы были за южан.
– Попробуем сначала, – предложил Лэйни. – «Парагон-Эйша Дейтафлоу». Это вы?
– Упорный, гад.
– Обстановка обязывает, – объяснил Лэйни. – В смысле профессия.
– Да и то. – Одноухий вскинул глаза. Его правую бровь рассекал розовый перекрученный жгутик шрама. – Тогда Рез. Что ты думаешь о нем?
– Это в смысле рок-звезда? – спросил Лэйни после краткого и не очень успешного сражения с проблемой контекста.
Кивок. Одноухий смотрел на него с предельной серьезностью.
– Из «Ло/Рез»? Группы? Полуирландец-полукитаец. Сломанный нос, так и не выправленный. Длинные зеленые глаза.
– Ну и что ты думаешь о нем?
В кэтиторрансовской системе отсчета этот певец воспринимался как нечто особо презренное. Она считала его живой окаменелостью, досадным пережитком давней, первобытной эпохи. Огромная, бессмысленная, как она говорила, известность вкупе со столь же огромным, бессмысленным богатством. Кэти воспринимала славу как некую тонкую материю, первозданную стихию типа флогистона, как нечто изначально распределенное по всей вселенной равномерно, но затем, при благоприятных условиях, концентрирующееся вокруг отдельных личностей и их карьер. Чтобы затем рассеяться, перераспределиться. С ее точки зрения, Рез продержался слишком уж долго. Он подрывал стройность ее теории. Он нагло бросал вызов сложившемуся порядку взаимопожирания. Возможно, все шнырявшие поблизости хищники оказались мелковаты для такой добычи, все, не исключая и «Слитскана». В результате группа «Ло/Рез» выдавала свой продукт с прямо-таки оскорбительной регулярностью в различных медиа, а их певец с упорством, достойным лучшего применения, отказывался убить кого-нибудь, связаться с политикой, признаться в неумеренном употреблении какой-либо любопытной субстанции или в неординарных сексуальных пристрастиях – сделать хоть что-нибудь, за что мог бы зацепиться «Слитскан». Он сиял, может, и тускловато, но зато устойчиво, вне досягаемости для Кэти Торранс. Что и было, по мнению Лэйни, истиной причиной ее жгучей ненависти.
– Ну, – протянул Лэйни по некотором размышлении и ощутил какое-то странное нежелание отвечать начистоту, – я купил тогда их первый альбом. Когда он только вышел.
– Название?
Одноухий стал еще серьезнее.
– «Ло Рез Скайлайн», – отрапортовал Лэйни, крайне благодарный своему мозгу, что тот выкинул эти слова на поверхность. – Но я не знаю, сколько там они выродили с того времени.
– Двадцать шесть, не считая сборников, – сказал мистер Ямадзаки и поправил свои очки.
Лэйни чувствовал, что принятые им таблетки, те, которые должны были, по идее, смягчить джет-лаг, трещат под ним и проваливаются, как некие прогнившие фармакологические леса. Стены «Процесса» сблизились. И продолжали сближаться.
– Если вы не собираетесь объяснить мне, о чем, собственно, весь этот разговор, – сказал он одноухому, – я, пожалуй, вернусь в гостиницу. Устал я, вот что.
– Кит Алан Блэкуэлл. – Лэйни пожал протянутую ему руку. Ладонь одноухого была похожа на ощупь на элемент какого-то спортивного тренажера. – Кити. Теперь мы, пожалуй, выпьем и немного поговорим.
– А может, – предложил Лэйни, – вы сперва скажете мне, каким тут местом задействована эта самая «Парагон-Эйша»?
– Упомянутая вами фирма, – вздохнул Блэкуэлл, – есть не более чем несколько строчек кода в машине, где-то там на Лайгон-стрит. Чистой воды декорация. Наша декорация, если вам от этого легче.
– Легче? – переспросил Лэйни. – Не знаю. Не уверен. Сперва привезли меня сюда для предварительного интервью, а теперь сообщаете, что компания, для которой я должен был интервьюироваться, не существует.
– Но она же существует, – возразил Кит Алан Блэкуэлл. – В машине на Лайгон-стрит.
Подошла официантка. В сером бесформенном бумажном комбинезоне и с косметическими кровоподтеками.
– Большая бочкового. «Кирин». Холодное. А вам, Лэйни.
– Кофе со льдом.
– Коку лайт.
– Вот и прекрасно, – сказал безухий Блэкуэлл, мрачно глядя вслед растворившейся во мраке официантке.
– Я был бы крайне благодарен, если бы вы объяснили мне, чем мы, собственно, здесь занимаемся, – сказал Лэйни и тут же заметил поблескивание светового карандаша; Ямадзаки увлеченно карябал что-то на экране маленького ноутбука. – Вы что, все это записываете?
– К сожалению, нет. Небольшие заметки насчет костюма официантки.
– Зачем? – удивился Лэйни.
– Извините. – Ямадзаки сохранил записанное, выключил ноутбук и аккуратно засунул карандаш в пружинный зажим. – Я специалист по таким вещам. У меня сложилась привычка фиксировать мелкие преходящие детали народной культуры. Ее костюм вызывает естественный вопрос: является он простым отражением мотивов этого клуба или, напротив, представляет некий глубинный отклик на травмирующий опыт землетрясения и последующего восстановления?
2. «Ло Рез Скайлайн»
Они встретились в джунглях.
Келси сделала растительность: большие яркие листья, как у Руссо,[4] мультиковые орхидеи самых что ни на есть тропических расцветок (Кья сразу вспомнила сеть магазинчиков, продающих «природные» косметические средства ярчайших неизвестных природе тонов). Сона, единственная из телеприсутствовавших, непосредственно видевшая хоть что-нибудь, отдаленно похожее на настоящие джунгли, подложила аудио – пение птиц, невидимых, но очень натурально жужжащих насекомых и такое шуршание листьев, не как словно змеи ползут, а будто там какие-то пушистые зверьки, с мягкими лапами и любопытные.
Свет, какой уж он там был, сочился сквозь зеленый полог леса – совершенно, по мнению Кья, диснейлендовый, – хотя какая уж там особая необходимость в «свете», когда все это из одного света и сделано.
У Соны, как и всегда, не было тела, только синий, горящий ацтекский череп да синие призраки ладоней, мерцающие, как подсвеченные стробами голуби.
– Совершенно ясно, что эта бесхуевая шлюха, бесплотная, замыслила опутать его душу своими силками.
Подчеркивая категоричность суждения, над черепом вспыхнули стилизованные зигзаги молний.
Интересно, подумала Кья, как она выразилась в действительности? Что такое эта самая «бесхуевая шлюха» – артефакт мгновенного онлайнового перевода или по-мексикански действительно можно так выразиться?
– Мы ждем надежную подтверждающую информацию из токийского отделения, – напомнила им Келси.
Келси была из Хьюстона, дочь налогового адвоката, и на нее налипло много из папашиного лексикона, а заодно и умение ждать, вызывавшее у Кья прямое раздражение, особенно в исполнении этакой феечки из древнего «аниме» с глазами, как синие блюдечки. И ведь доведись им когда-нибудь встретиться вживую, наверняка оказалось бы, что Келси выглядит как угодно, но уж точно не так, тут уж и ждать нечего. (Саму Кья представляла разве что самую малость отредактированная версия того, как она видела себя в зеркале. Ну, может, носа чуть поменьше. Губы пополнее. Но это, собственно, и все. Почти.)
– Вот именно, – сказала Сона, в ее глазищах яростно вращались миниатюрные каменные календари. – Мы ждем. А тем временем он приближается к роковой черте. А мы тут ждем. Если бы я и мои девочки только и делали, что ждали, «крысы» давно смели бы нас с проспектов.
Если верить Соне, у нее под началом была чиланга – девчоночья, вооруженная ножами шайка. Ну, может, и не самая крутая в Мехико-сити, но достаточно серьезная в смысле территории и авторитета. Кья не то чтобы слишком этому верила, но так было вроде как прикольно.
– Ты так думаешь? – Феечка по-эльфийски надменно вскинулась и пораженно захлопала длинными, как у Бэмби, ресницами. – А в таковом, Сона Роса, случае, почему бы тебе не слетать в Токио и не выяснить лично, что же там происходит в действительности? То есть действительно ли Рез так и сказал, что он на ней женится, или что? Ну а заодно ты могла бы выяснить, существует она все-таки или нет.
Календари остановились, превратились в десятицентовые монетки.
Синие руки исчезли.
Череп словно уплыл в головокружительную даль, оставаясь абсолютно четким, вплоть до мельчайших деталей.
Старые штучки, подумала Кья. Увиливает.
– Но ты же знаешь, что я не могу, – сказала Сона. – Без меня тут никак не обойтись. Мария Кончита, военачальница «крыс», заявила, что…
– А нам вот по фигу, чего она там заявила! – Келси взмыла к нависавшим над поляной ветвям и повисла там, голубая феечка на фоне роскошной зелени; солнечный луч выигрышно высветил невозможную, небывалую в природе правую скулу.
– Сона Роса – трепло вонючее! – заорала она не так чтобы очень феисто.
– Не лайтесь, – сказала Кья. – Пожалуйста. Ведь это же очень важно.
Келси мгновенно спустилась и взглянула на миротворицу:
– Тогда поедешь ты.
– Я?
– Ты, – кивнула феечка.
– Я не могу, – сказала Кья. – В Токио? Да как же я могу?
– Самолетом, а как еще.
– Не забывай, Келси, что у нас нет твоих денег.
– У тебя есть паспорт. Мы знаем, что есть. Твоя мать должна была выправить тебе паспорт во время всех этих дел с таможней. И мы знаем, что ты, нежно выражаясь, в одну школу уже не ходишь, а в другую – еще, так ведь?
– Да, но…
– А в чем проблема?
– Твой папаша большой налоговый адвокат!
– Ну да, – кивнула Келси, – и он летает взад-назад по всему миру, рубит капусту. Но ты знаешь, Кья, что еще он заодно зарабатывает?
– Что?
– Баллы регулярного клиента. Охуенные баллы регулярного клиента. На «Эйр Магеллан».
– Интересненько, – процедил ацтекский череп.
– Токио, – сказала разнузданная фея.
Вот же я влипла, подумала Кья.
Стена напротив ее кровати была украшена огромным, шесть на шесть футов, лазерным увеличением обложки «Ло Рез Скайлайн», их первого альбома. Не такого, как продаются сейчас, а оригинального, групповой снимок, сделанный ими для этого первого, прорывного релиза на инди-лейбле «Сучий суп». Она скачала файл с клубного сайта в первую же неделю, как вступила, а затем нашла заведение рядом с Рынком, где делали такой большой формат. Этот снимок остался для нее самым любимым, и не просто потому, как часто говорила мать, что они там еще молодые. Матери не нравилось, что члены «Ло/Рез» такие старые, примерно ее возраста. Ну почему Кья не западает на музыку своих сверстников?
– А кто там есть, мама, ну кто?
– Ну, скажем, этот самый, «Крутой Коран».
– Отстой, мама.
Кья подозревала, что мать воспринимает время совершенно не так, как она. И не в том даже дело, что месяц казался матери не таким уж и длинным промежутком, а в том, что материнское «сейчас» было поразительно узким и буквальным. Полное подчинение сводкам новостей. Кабельное питание, вроде как бессознательным пациентам жидкую кашицу через шланг закачивают. Настоящее, заточенное до вот этого вот, прямо сейчас, момента в сводке о вертолетном трафике.
Для Кья «сейчас» было цифровым, бесконечно эластичным, мгновенное вспоминание всего чего угодно, обеспечиваемое глобальными системами, совершенно ей непонятными, да и не нуждавшимися в ее понимании.
Релиз «Ло Рез Скайлайн» состоялся – если здесь применимо это слово – за неделю (вернее, за шесть дней) до рождения Кья. Кья прикидывала, что вряд ли на этот момент в Сиэтле была хоть одна жесткая копия альбома, но ей нравилось думать, что даже тогда кто-нибудь его там слушал, какие-нибудь задвинутые визионеры, шарящие по самым захолустным инди-лейблам, вплоть до Восточно-Тайбейского «Сучьего супа».
Ну конечно же, вступительные аккорды «Позитронного предчувствия» сотрясали молекулы сиэтлского воздуха где-нибудь здесь, в каком-нибудь соседнем подвале, в решительный момент ее появления на свет. Она знала это, точно так же, как знала, что «Заклинивший пиксель» – почти что и не песня, а просто Ло терзает чуть не на помойке подобранную гитару – проигрывался где-то, когда ее мать, почти не владевшая на тот момент английским, подбирала имя для дочки из чего-то там, крутившегося по «Телемагазинному», и вот там, в палате послеродового ухода, ласковая фонетика этих слов показалась ей наиболее подходящим сочетанием английского с итальянским, в результате чего эту самую дочку (даже тогда уже рыжую) окрестили Кья Пет Маккензи (что, как узнала потом Кья, немало позабавило ее отсутствовавшего отца-канадца).
Все эти мысли всплыли в густой, хоть сапоги ею намазывай, предрассветной темноте за секунды до того, как инфракрасная мигалка будильника беззвучно приказала галогенному софиту осветить «Ло/Рез» во всей их «Сучий-суповой» славе. Рез в расстегнутой (вроде для стеба, а вроде и нет) рубахе и Ло со своей улыбочкой и всегдашними, тогда еще не очень отросшими усами.
Хай, ребята. Нашарить дистанционное. Пощелкать инфраредом в темноту. Щелк: «Эспрессоматик». Щелк: обогреватель помещения.
Под подушкой непривычные формы паспорта, нечто вроде антикварного игрового картриджа, жесткий темно-синий пластик, текстурированный под кожу, золотое тиснение: герб с орлом. Мягкая бежевая пластиковая папочка с эйр-магеллановскими билетами, полученная в молле от агента компании.
Ехать так ехать, как сказал попугай, когда кошка потащила его за хвост.
Она глубоко вздохнула. Материнский дом сделал то же самое, но вроде как неуверенно, хрустнув своими деревянными, озябшими от утреннего мороза костями.
Да, такси подъехало точно в назначенное время, все равно как по волшебству, и – нет, таксер не гудел, в точном соответствии с указаниями. Это Келси объяснила, как такие вещи делаются. Кроме того, Келси коротенько опросила Кья по основным обстоятельствам ее жизни и тут же сообразила подходящую легенду для ее отлучки из дома: десять дней на Сан-Хуанах[5] у Эстер Чен, чья богатенькая мать-луддитка настолько боялась электромагнитного излучения, что жила в своем сооруженном из плавника и крытом дерном замке не то что без телефона, но даже без электричества.
– Скажи, – посоветовала Келси, – что ты хочешь устроить себе информационный пост, хоть на то время, пока утрясаются дела с новой школой. Ей это понравится.
Так то и вышло. Мать давно ворчала, что Кья проводит до безобразия много времени «в этих твоих гляделках и наперстках».
Кроткая, умненькая Эстер вроде бы и въезжала в музыку «Ло/Рез», но почему-то относилась к ним куда с меньшим энтузиазмом, чем следовало бы, не торчала на них. Кья любила Эстер и успела уже однажды воспользоваться гостеприимством миссис Чен в ее уединенном островном убежище. К сожалению, мамаша Эстер заставляла девиц носить специальные бейсбольные шапочки, сшитые из какой-то там ЭМИ-непроницаемой ткани, чтобы их молодые мозги хоть немного отдохнули от неощутимой, но ничуть от того не менее тлетворной электромагнитной / информационной скверны.
Кья жаловалась Эстер, что они выглядят в этих шапочках как деревня.[6]
– Не будь расисткой, Кья.
– А я и не расистка.
– Ну, классистка.
– Да нет, тут же все дело в эстетике.
И вот теперь, закидывая в жаркий, как духовка, салон такси свою единственную сумку, она подумала о матери, спавшей сейчас за этими темными, промерзшими окнами, под грузом своих тридцати пяти лет и веселенькой, в цветочек, перины, которую Кья купила ей в «Нордстроме», и тут же почувствовала себя паршивкой, вруньей. Когда Кья была маленькая, мама носила длинную косу, увешанную на конце ракушками, ну прямо волшебный хвост какого-то мифического животного, Кья ловила эту штуку и громко хохотала. И дом тоже выглядел как-то грустно, словно жалел о ее отъезде, белая краска на девяностолетней кедровой вагонке шелушилась, обнажая серую, предыдущую. А вдруг я никогда сюда не вернусь? – подумала Кья и зябко поежилась.
– Куда? – спросил водила, негр в нейлоновой пуховке и плоской клетчатой шапочке.
– «Си-Так»,[7] – сказала Кья и откинулась на спинку. Разворот, и – мимо древнего «лексуса», соседи выставили его в своем подъезде, взгромоздили на большие бетонные блоки.
В этот ранний час в аэропорту было не просто неуютно, а даже жутковато. Какая-то такая пустота, что-то такое над тобой нависает, что-то большое, полое и грустное. Коридоры и уходящие по ним люди. Соседи в очереди, люди, которых ты никогда прежде не видел и никогда больше не увидишь. Кья переложила билет и паспорт из правой руки в левую, поправила на плече ремень сумки. Ей очень хотелось кофе. Кофе был дома, в «Эспрессоматике», вторая, так и не выпитая чашка. Нужно было хоть вылить его, а чашку вымыть, а то ведь плесенью зарастет.
– Да?
У контролера была полосатая рубашка, галстук с косой полоской эйр-магеллановских логотипов и тускло-зеленый нефрит в нижней губе. Интересно, он вынимает эту штуку на ночь? И как тогда выглядит его губа? Кья решила, что уж она-то никогда такого с собой не сделает. Она подала ему свою бежевую папочку. Мужик раскрыл папочку, вытащил билет и вздохнул, всем своим видом показывая, что она и сама могла бы это сделать.
Прошелся по билету сканером.
– «Эйр-Магеллан» один-ноль-пять до Нариты, с экономическим обратным.
– Да, все правильно, – услужливо подтвердила Кья, но мужик вроде не оценил ее стараний.
– Паспорт.
– Пожалуйста.
Мужик взглянул на паспорт так, словно в жизни не видел ничего подобного, а потом запихнул его в прорезь своей конторки. У прорези были алюминиевые закраины, сильно ободранные и обклеенные прозрачным скотчем. Скотч кое-где отставал и на этих местах густо облип с оборота грязью. Мужик смотрел на невидимый Кья монитор. Вот возьмет сейчас и скажет, что ей лететь нельзя. Кья снова вспомнила ту чашку кофе. Даже остынуть-то не успеет.
– Двадцать три «дэ», – сказал мужик, глядя, как из другой прорези выползает посадочный талон. Он взял высунувшийся из первой прорези паспорт и вернул его Кья вместе с билетом и талоном. – Выход пятьдесят два, синий зал. Багаж сдаете?
– Нет.
– Пассажиры, прошедшие проверку, могут быть подвергнуты безболезненной и безопасной, не нарушающей целостности организма процедуре взятия образцов ДНК.
Мужик выпалил это залпом, как одно кошмарно длинное слово; пассажиры и сами все знали, но по закону он обязан был их предупредить.
Кья спрятала паспорт и билет во внутренний карман парки, оставив в руке только посадочный талон, и пошла искать синий зал. Чтобы добраться до него, ей пришлось пройти вниз и воспользоваться одним из этих поездов, которые вроде как из лифтовых кабинок, только ползут не сверху вниз, а вбок. Через полчаса она уже прошла проверку и недоуменно разглядывала пломбы, навешанные на все застежки ее сумки. Какие-то колечки из ярко-красной резинистой карамели. Кья никак этого не ожидала, она рассчитывала найти в зале отправления платный терминал, подключиться и сообщить подружкам, что пока что все в порядке. Когда она летала в Ванкувер пожить у дяди, никаких там пломб не навешивали, но это же, считай, и не международный рейс, во всяком случае, теперь, после соглашения.
Подъезжая на резиновой движущейся дорожке к пятьдесят второму выходу, она уже издалека увидела яркую синюю мигалку. Небольшой барьерчик, солдаты. Пассажиры все подходили и подходили, а солдаты выстраивали их в очередь. Все они были в камуфляже и выглядели немногим старше, чем ребята из ее последнего класса.
– Вот же мать твою, – сказала ехавшая впереди женщина, блондинка с роскошными – и, конечно же, удлиненными за счет чужих, приживленных – волосами. Большие красные губы, многослойный грим, подложенные плечи, микроскопическая красная юбочка, белые ковбойские сапоги. Вроде этой кантри-певицы, на которой торчит мама. Ашли Модин Картер. Темнота, но с деньгами.
Кья сошла с резиновой дорожки и встала в очередь за женщиной, похожей на Ашли Модин Картер.
Солдаты брали у пассажиров образцы волос и совали их паспорта в прорезь вроде той, недавней. Кья сообразила, что это чтобы проверить, правда ли ты действительно ты, ведь в паспорте записано что-то такое про твою ДНК, полосатым кодом.
Приборчик, бравший образцы, представлял собой маленькую серебряную трубочку, которая засасывала несколько прядей и обрезала их кончики. Таким манером, подумала Кья, они могут собрать крупнейшую в мире коллекцию волосяных обрезков. Подошла очередь блондинки. На проверке ДНК стояли два зеленых солдатика, один орудовал этой самой трубочкой, а другой тараторил каждому пассажиру, что, дойдя досюда, вы тем самым согласились на отбор образцов и предъявите, пожалуйста, паспорт.
Подавая свой паспорт, блондинка как-то мгновенно вспыхнула откровенной, вызывающей сексуальностью, ну словно лампочку в ней включили; сраженный лазерной улыбкой солдатик часто заморгал, сглотнул, чуть не выронил паспорт, но затем все-таки засунул его в маленькую, подвешенную к барьеру консоль. Второй солдатик поднял свой жезл. Блондинка небрежно подцепила одну из наращенных прядей и протянула солдату ее кончик. Вся эта процедура, включая возвращение паспорта, заняла не больше восьми секунд, по лицу солдатика, бравшего у Кья паспорт, все еще гуляла глупая, мечтательная улыбка.
Блондинка прошла за барьер. Кья была почти уверена, что вот сейчас, на ее глазах было совершено тяжкое, проходящее по юрисдикции федеральных властей преступление. Сказать солдатам?
Ничего она им не сказала, а они уже отдавали ей паспорт, и она взяла его, миновала барьер и пошла к пятьдесят второму выходу. А блондинка куда-то вдруг пропала.
Потом Кья стояла и смотрела на бегающие по стенам рекламы, а потом из динамика сказали проходить на посадку, первым проходит первый ряд сидений, затем второй и так далее.
Кья ждала взлета, посасывая выданный стюардессой леденец, а место 23Е все пустовало и пустовало. Единственное вроде бы пустое место во всем самолете. Если никто не придет, можно будет опустить подлокотники и прилечь. Она пыталась выставить защитное психическое поле, вайбы, которые никому не позволят прибежать в самую последнюю секунду и плюхнуться в это кресло. Сона Роса – вот кто настоящая специалистка, ведь это же одно из боевых искусств, практикуемых ее бабской шайкой. Кья никогда не понимала, ну как можно всерьез верить, что такая штука сработает.
А она и не сработала, потому что в проходе появилась та самая блондинка, и она, похоже, узнала свою соседку, а может, Кья это просто показалось.
3. Почти цивильно
Лэйни не представилось возможности полюбоваться напоследок на эту татуировку, потому что была среда. Кэти Торранс стояла посреди «Клетки», смотрела, как он подчищает свой шкафчик, и орала. На ней был серый с розовым отливом бумазейный блейзер от Армани и юбка в масть, скрывавшая послание из дальнего космоса. В расстегнутом вороте белой, мужского покроя рубашке скромно поблескивает ниточка жемчуга. Парадная форма. Сегодня Кэти вызывали на ковер, один из ее подчиненных оказался дезертиром, ренегатом, а может, и вероотступником.
Лэйни умозаключал, что ее гнев извергается из широко распахнутого рта, однако все звуки этой ярости бесследно тонули в громовом шипении генератора белого шума. Инструктируя Лэйни перед его последним визитом в «Слитскан», адвокаты настоятельно рекомендовали ему не выключать эту штуку ни на секунду. И он не должен был делать никаких заявлений. А что уж там заявляли – или орали – другие, этого он попросту не слышал.
Потом он иногда задумывался: каким конкретно образом могла она сформулировать свое бешенство? Краткое изложение все той же теории славы и ее цены с дополнениями о роли, играемой в этих делах «Слитсканом», и о неспособности Лэйни функционировать в рамках системы? Или она полностью сосредоточилась на его предательстве? Но он ничего не слышал, он попросту складывал никому не нужные вещи в мятую пластиковую коробку, все еще хранившую запах мексиканских апельсинов. Испорченный, с треснувшим экраном ноутбук, прошедший с ним через колледж. Кружка-термос с полуотклеившимся лого «Ниссан Каунти». Кое-какие заметки, написанные на бумаге, в грубое нарушение правил фирмы. Залитый кофе факс от женщины, с которой Лэйни спал в Икстапе; он уже не помнил, как ее звали, а инициалы на этой бумажке невозможно разобрать. Бессмысленные ошметки его личности, которым уготован вечный покой в ближайшем мусорном бачке. Но он хотел забрать оттуда все, подчистую, а Кэти все орала и орала.
Теперь, в кафкианском этом клубе, он подумал, что, наверное, она сказала, что он никогда не найдет работу в этом городе, и так оно, пожалуй, и есть. Предательство интересов фирмы, на которую работаешь, это и вообще один из самых серьезных проколов в биографии, а в этом городе так и самый, пожалуй, серьезный, тем более когда причиной этого предательства стали, если выражаться языком столетней давности, «угрызения совести».
Сейчас это выражение показалось ему очень забавным.
– Вы улыбнулись, – сказал Блэкуэлл.
– Дефицит серотонина.