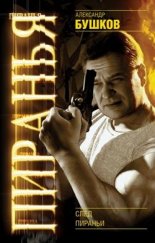Каникулы в коме Бегбедер Фредерик

– Итак, – нарушает молчание Марк, – я удостоился чести танцевать медленный танец с модным фотографом. Не хотите взять меня в топ-модели?
– Да нет, вы для меня щупловаты. Займитесь своим телом, а потом приходите ко мне. Впрочем, мода – вообще не ваш конек. У вас слишком здоровый, нормальный вид.
– Такой гетеросексуальный… такой банальный… Ну, вперед – оскорбляйте меня!
Мы уже говорили, что Марк всегда первым ржет как ненормальный над своими остротами, наводя ужас на окружающих? Нет. Ладно, но все так и есть. Смотри-ка, Жосс поменял пластинку.
– Эй, а Жосс-то поменял пластинку, – говорит Ондин. – Еще один медляк. Что это, Элтон Джон?
– Да, «Candle in the wind» – гимн Мерилин Монро и голливудским фотографам. Пригласите меня снова?
Ондин кивает:
– Похоже, у меня все равно нет выбора.
– Верно, если вы мне откажете, я напишу во всех журналах, что вы – лесбиянка.
Сорокалетние женщины возбуждают Марка. В них есть все – и опыт, и задор. Матери-сводницы и робкие девственницы в одном флаконе. Они просто потрясны – им дали шанс всему вас научить!
– Вы приятель Жосса Дюмулена?
– В свое время мы немало вместе выпили, это объединяет. Все кончилось в Токио пять лет назад.
– Я хотела бы сделать его портрет. Я сейчас готовлю выставку портретов знаменитостей со сгущенным молоком на щеках, подвешенных на большом шкиве. Можете с ним поговорить?
– Думаю, это великолепное предложение его несомненно заинтересует. Но зачем вам это?
– Выставку? Чтобы показать, как тесно связаны фотография, сексуальность и смерть. Разумеется, я упрощаю, но в целом идея именно такова. Марк записывает на очередном желтом листочке: «Для демонстрации аксиомы Трех Зачем иногда оказывается достаточно одного зачем, если у подопытного изможденное лицо, замкнутый характер и тюлевое платье». Американская пятнадцатиминутка подходит к концу. Фаб, зажатый, на манер сэндвича, между Ирэн де Казачок и Лулу Зибелин, танцует медленный танец. Клио проснулась, пригласила на танец Уильяма К.Тарсиса III – праздного богатенького наследника с голосом кастрата – и вновь заснула у него на плече. Ее нижняя губа подрагивает в желтых бликах софитов. Ари, приятель Марка (разработчик видеоигр для Sega), предупреждает его:
– Берегись Ондин, она у нас нимфоманка, террористка!
– Знаю, зачем, ты думаешь, я пригласил ее на танец?
– Нет-нет, я вам не позволю! – восклицает фотографиня. – Это я вас пригласила!
Ари был бы похож на Луиса Мариано, родись тот в Бронксе. Он танцует рядом с ними. Как только Жосс объявляет об окончании американской пятнадцатиминутки, он набрасывается на Ондин.
– А теперь моя очередь! Отказывать запрещается. Марк не настолько собственник и слишком ленив, чтобы протестовать. Лицо фотографини лишено всякого выражения, глаза ее пусты. Если она ломает комедию, то заслуживает «Оскара» за Лучшее Изображение Безразличия В Кино. It was nice to meet you, – бросает на прощанье Марк и исчезает не оборачиваясь.
Ари и Ондин наверняка уже забыли о нем. На вечеринках ничто не имеет права задерживать внимание дольше пяти минут: ни разговоры, ни люди. В противном случае вам угрожает нечто худшее, чем смерть: скука. На верхнем ярусе Клио совершенно расклеилась. Очевидно, в ее крови еще гуляет «эйфория». Представьте себе Клер Шазаль в платье из латекса в ремейке «Экзорсиста» и получите полное представление о разыгрывающейся сцене. Все столпились вокруг Клио. Она кричит – «I love you» и сжимает бокал для шампанского с такой силой, что хрусталь разлетается в пыль. Руки залиты кровью, из них торчат осколки. Она навсегда потеряна для хиромантов.
– ALO-O-ONE! Я ТАК ОДИНОКА! ТАК ОДИНОКА! Увидев Жосса рядом со своей подружкой – пресс-атташе, – Марк понимает: Клио, очевидно, накрыла эту парочку в кабинке диджея, когда они, стоя на карачках, выбирали, какой диск поставить следующим. Он бросает Клио:
– Дюмулино – полный козел! Тебя бросили? Да я стою десяти таких, как он! Когда трахнемся?
– Спасибо, пока обойдусь, – всхлипывает Клио. Тогда Марк хватает бутылку «Джека Дэниелса» и поливает на руки Клио, чтобы продезинфицировать раны. (Он, видать, чуть-чуть не доучился на спасателя.) Вопль Клио секунд на двенадцать заглушает рев 10000 ватт звуковой аппаратуры. Она выдает супернабор английских ругательств, перестает плакать, зеваки расходятся, и Марк во второй раз за вечер уволакивает за собой Клио, держа ее за прелестное обнаженное запястье.
Музыка: «Sweet harmony» в исполнении группы «Beloved» Let's come together Давай кончим вместе
Right now Прямо сейчас Oh yeah Ода
In sweet harmony В сладкой гармонии Let's come together Давай кончим вместе
Right now Прямо сейчас Oh yeah Ода
In sweet harmony В сладкой гармонии Let's come together Давай кончим вместе
Right now Прямо сейчас Oh yeah Ода
In sweet harmony В сладкой гармонии Let's come together Давай кончим вместе
Right now Прямо сейчас Oh yeah Ода
In sweet harmony В сладкой гармонии Программа действий.
Они садятся на банкетку. На руку Клио падает луч прожектора, и Марк осторожно извлекает осколки стекла.
– Марк, я хочу пить, – стонет отравленная фотомодель в перерыве между двумя всхлипами.
– Не сейчас! Перестань капризничать!
– Можно допить из твоего стакана?
Она косится на «Лоботомию» с кубиками льда.
– Are you crazy? Я даже представить себе боюсь, что будет, если ты смешаешь это с… (Марк прикусывает язык: он вспоминает, что дал Клио наркоту, не спросив ее согласия.) Ладно, черт с тобой, пойду принесу тебе стакан воды.
И он встает, бормоча себе под нос проклятья в адрес современной фармацевтической промышленности и ее успехов. Тело Ондин Кензак распростерто на стойке бара, тюлевое платье задрано. Ари вымазал ее кремом «шантийи» и слизывает его со своими приспешниками, осложняя работу бармена. По этой самой причине Марк убивает добрую четверть часа на то, чтобы получить воду и бинт, в которых срочно нуждается юная фотомодель.
Когда он возвращается к банкетке, Клио допивает последние капли «Лоботомии». Она улыбается Марку и тут же засыпает, что-то промурлыкав. Марк не успел. Он вздыхает, сам выпивает принесенную воду и начинает перевязывать ладони девушки. Он больше ничего не знает. Он ни во что не верит – хотя не вполне уверен и в этом. Ему следовало бы поговорить с Клио, но Марк нем как рыба. А ведь известно: кто молчит, тот чувствует себя мудаком.
Тем временем фотографиню под «шантийи» имеют коллективно. Один – перед ней, другой – под ней, Ари – сзади. Эта техника называется у них «системой организации труда по Тейлору».
(Если Марк не примет срочных мер, Клио умрет от передозировки у него на коленях: смесь алкоголя с «экстази» в больших дозах может вызвать сбой сердечного ритма.)
Чувствуя прилив вдохновения, Марк отрывает еще один желтый листок и записывает родившееся четверостишие:
Она хотела отдать им тело, Его раздела во имя дела,
Но тело пало и онемело: До дела телу какое дело?
(А у Клио тем временем идет пена изо рта; глаза закатились, в лице – ни кровинки.)
Четверостишие нравится Марку. Обратите особое внимание на утонченную систему внутренней рифмовки и на изящный омонимический каламбур в четвертой строке.
(Сердце Клио сейчас выскочит из груди.) Подведем промежуточные итоги. Результаты Марка выглядят не блестяще. Во время ужина клеила старушка-журналистка, а Фаб увел у него вторую соседку по столу. Потом он упал лицом в грязь перед хорошенькой пресс-атташе, которая явно на него положила глаз: теперь она уже выпендривается перед диджеем-суперзвездой. Что до сорокалетней слезливой психопатки, с которой он станцевал два медяка, ее сейчас имеет половина гостей мужского пола на стойке бара. .
(Клио скрипит зубами, белая пена течет из уголков рта.) Единственная баба, оставшаяся на долю Марка, – бедняжка Клио, пришедшая в полную негодность.
(Ноги Клио сводят ужасные судороги, но она в ступоре и ничего не чувствует.)
Впрочем, эту самую Клио только что выкинул, словно старый ботинок, Жосс Дюмулен.
(Температура тела Клио колеблется между 36 и 43њС.) Такова горькая правда: единственная баба, на которую может рассчитывать Марк, удолбана по самое не хочу, да и не в стиле это Марка – подбирать объедки с чужого стола.
(Тело Клио покрывается холодным потом.) Увы, Марк, ты утратил связь с массами.
(Внутренности Клио скручиваются в узлы, как носок, который выжимает мамаша Дени.)
Как тебе только пришла в голову эта беспонтовая фраза: «Мадемуазель, позвольте угостить вас лимонадом»? Марронье, ты тупица. (Электроэнцефалограмма Клио готова превратиться в прямую линию.) К тому же эта Клио весит, наверное, целую тонну! (У Клио нет пульса. Конец: клиническая смерть.) Марк смотрит на ее платье из латекса, на бледную спину, на осунувшееся лицо… Какое на нем странное выражение… Есть какой-то эпитет, из репертуара символистов, который был бы здесь уместен… Ее лицо исполнено болезненной истомы. Руки в бинтах, в желудке – смесь кислоты с алкоголем, от нее исходит порочное очарование. Длинные волосы рассыпались по банкетке. Клио похожа на декадентскую богиню. В Марке просыпается жалость. Он наклоняется, чтобы поцеловать ее, но, поскольку барышня лежит у него на коленях, он каждый раз надавливает ей на грудь. С каждым поцелуем он вдувает воздух в легкие Клио и невольно воскрешает ее. В самом центре мира (частный клуб «Нужники», Париж, конец второго тысячелетия после Рождества Христова, около часу ночи) один молодой лоботряс спас жизнь юному созданию. Никто этого не заметил, даже они сами. Возможно, что в тот день Господь просто еще не спал.
1.00
Я упиваюсь желанием сблевнуть, Я изображаю желание уйти, I fuck желание
Всего остального и fucking in the blue Я бреду по миру и не умираю никогда.
Жан д'Ормессон, Член Французской академии. «История вечного жида»
На танцполу звучат вопросы:
– У тебя не найдется четырех миллионов франков?
– Ты веришь, что Долли Партон принимает «долипран»?
– Как себя чувствуешь, кинув палку полиглотке?
– Как будете встречать Новый, 1999 год?
– А что, если я рожу, танцуя этот jerk?
– После того, как тебя снова допустили к Кастелю, желать больше нечего.
– Итак, вы не советуете мне заниматься любовью с фруктами и овощами?
– Мы еще успеем сыграть сегодня в гольф? Но главный вопрос, волнующий всех: «Как определить, когда женщина симулирует оргазм?» Марк снова стоит у стойки бара, уткнувшись носом в бокал с «ката-тоником». Он оставил Клио переваривать смертельную смесь на банкетке. Ее дыхание заметно охладило его пыл. И вот он снова один, сидит и смотрит, как плавится время. Несомненно, мы присутствуем при рождении нового мифа. Сизиф поселился в Париже, он носит галстук в горошек, и ему около тридцати лет. Перед каждой новой вечеринкой он клянется, что не пойдет. Но вот солнце заходит, и Сизиф-Марронье, как всегда, не в силах устоять перед искушением. В конечном итоге, ему почти плевать на этот ад. Сизиф и Митридат в одном лице!
Он закончит жизнь на уличной скамейке, изрытая проклятия в адрес прохожих. Превратится в вонючего старика. Хорошенькие девушки будут морщить носики, проходя мимо него, и ускорять шаг, а некоторые пожалеют и бросят монетку. А виноват будет он один.
Сосед по стойке (barfly, как говорят жители Калифорнии) наклоняется к его уху. Зрачки его исполняют хореографический этюд в постановке Басби Беркли. У него влажные виски, глаза вытаращены. Рот дергается, как будто кто-то выкручивает ему большой палец на ноге и одновременно щекочет. Марк не сразу, но узнает Паоло Гарденаля, толстомордого актера, который чаще всего играет мертвых полицейских.
– А, Марк Марронье, мой личный враг! Слушай, давай помиримся! Я должен сказать тебе что-то архиважное, это супер-суперважно – то, что я скажу, понял? Так вот, слушай: живи, пока живется. Сообразил? А? Усек? ЖИВИ, ПОКА ЖИВЕТСЯ! Блин!
– Скажи-ка мне, Паоло, ты уверен, что не бросил нюхать? Ну, ты меня разочаровываешь. Я с тобой делюсь САМЫМ ГЛАВНЫМ (тут он хватает Марка за лацканы куртки), меня, понимаешь, осенило, а ты, как последняя свинья… Больше я такой глупости не сделаю… (Пауза.) Ну почему ты меня не любишь?
Он берет с разоренного стола грязную салфетку и вытирает нос, вернее, размазывает по щекам остатки чужого ужина. Вообще-то он ненавидит Марка за то, что тот в рецензии на его последний фильм выразил сожаление, что сыгранный им труп не был настоящим.
– Паоло, ты страдаешь эпитаксисом.
– Что?
– У тебя из носа кровь идет. Паоло трет ноздрю и изучает салфетку. Марк пользуется этим отвлекающим маневром, чтобы дать задний ход. Кстати, по здравому размышлению, он соглашается с актером: жить надо, пока живется. Вообще-то Марк именно так и живет. Он неоднократно это отмечал.
На пути Марка возникает Соланж Жюстерини, звезда телесериала и бывшая его любовница. Эта высокая девка всегда пребывает в отличном настроении. Сегодня она просто великолепна в золотистом платье в обтяжку, которое прекрасно подходит к ее светлым волосам. Самое простое решение всех проблем само шло к нему в руки.
– Ну что, по-прежнему без ума от меня? – говорит он ей.
– Идиот! Правда, гениальная вечеринка?
– Не переводи разговор на другую тему. Я слышал, что бывшие любовники всю жизнь страдают по прежним партнерам. Не желаешь проверить? Соланж не знает, рассмеяться ей или влепить Марку пощечину. Наконец она пожимает плечами.
– А ты все такой же мальчишка, бедненький!
– А у тебя как раз все тип-топ… Я видел тебя на обложке «Гламур». Браво!
– Да, вроде неплохо вышла.
Улыбка возвращается на лицо Соланж. Какая же она нежная. Марк и забыл, почему у них ничего не вышло. Ну да, нежность Соланж ужасна. Она способна задушить любовью и участием. Ее милота злила его, вызывала желание сделать ей больно. И вот теперь это желание вернулось.
– Кстати, этот твой сериал в общем ничего.
– Да, ты находишь?
– Да ладно, надо же с чего-то начинать. Всем великим актрисам вначале приходилось играть во всяком дерьме.
– Что?..
– Ну, может, я слегка преувеличиваю, честно говоря, я его не видел. Просто повторяю, что вокруг говорят.
– Не может быть!.. Соланж просто убита. Она живет в окружении льстецов: в этом случае быстро забываешь, как ужасно слушать критику от кого-нибудь из близких. Она нервно теребит пальцами брошь-сердечко на золотом платье. Удивительно, до какой степени Марку ее жалко.
– Кстати, ты случайно не прибавила в весе.
– Мудила.
– Кстати, твой новый приятель здесь?
– Да, вон тот крепыш, Робер де Дакс. Он сопродюсер моего сериала. Ты, кстати, не хочешь повторить ему свои бредни?
– Смешно! Ты, моя бедная девочка, совсем не поумнела. И перестань теребить эту дурацкую брошку, ты меня раздражаешь. Сразу видно, что у тебя со здоровьем не все в порядке. Ну ладно, чао.
Это уже слишком для хорошенькой актрисули. Она начинает рыдать:
– Ну и проваливай! Чтоб ты сдох! Мне было всегда наплевать на твое мнение! Мне было всегда наплевать на ТЕБЯ!
Она разворачивается на каблуках. Марк удивляется собственному хамству. Как можно так ненавидеть столь безобидное создание? Он не узнает себя. Он догоняет ее, берет за талию, протягивает ей свой шелковый платок, просит прощения на коленях, покрывает поцелуями ее руки, пальцы, ногти, искренне сожалеет, что был такой скотиной, умоляет влепить ему пощечину.
– Я пошутил! Ты великолепна! Все, что ты делаешь, гениально! Твой новый парень – просто душка! У тебя шикарная брошка! Умоляю тебя, перестань плакать! Влепи мне пощечину!
Но уже слишком поздно. Соланж отталкивает его и бежит к своему продюсеру. Приходится признать горькую правду: даже бывшие любовницы больше не любят Марка. Судя по всему, он попал в серьезный переплет. Возле танцпола снова столпотворение. Марк спешит посмотреть, что стряслось. В этом смысл вечеринок: гости, как жадные мухи, слетаются то на одно микрособытие, то на другое. На сей раз событие – Луиза Чикконе, рожающая в самой гуще танцующих. Ее приятели трансвеститы с энтузиазмом изображают повитух. Наконец им удается справиться с пуповиной – благодаря счастливо подвернувшемуся под руку осколку бутылки. Новорожденного крестит шампанским Маноло де Брантос, молодой бородатый семинарист, который сразу после этого падает в обморок. В углу один из трансвеститов бьется в истерике от волнения: он только что осознал, что ребенка нельзя выкормить силиконовой грудью.
На телеэкранах мелькают сцены голода в Сомали, а публика танцует под переработанную в стиле «гараж» песню Кэт Стивенс «Trouble». Марк добавляет свежевыжатый апельсиновый сок в свой коктейль и принимает решение пересечь танцпол кролем на спине.
Немного позднее, уже в рубке диджея, Марк умоляет поставить какой-нибудь тяжелый рок. Его костюм пострадал при «плавании»: он поседел от грязи, карманы оторваны.
– Надо расшевелить этих бездельников! – изрыгает Марк. Жосс Дюмулен поддается на уговоры. Он ставит «Highway to hell», и знаменитый двойной рифф разрывает пространство.
– Эй, Жосс!
– Чего?
– Сегодня вечером я наткнулся на жутко платонических нимфоманок.
– Везет тебе!
Жосс поворачивается к пресс-атташе, которая, сидя на корточках, одевается в углу диджейской. Она кайфует от происходящего. По всем признакам пресс-атташе употребила внутрь немалое количество химических возбудителей. В ее дыхании чувствуется метоксиметилендиоксиамфетамин, запах которого ни с чем не спутаешь: он пахнет клубникой с чесноком.
– Как ее зовут?
– Кого? Ее? Не знаю, спроси сам. А куда девалась моя малютка Клио?
– Пребывает в объятиях Морфея.
– Морфея? Это кто еще такой? Треск вспышек фотоаппаратов на лестнице прерывает этот напряженный диалог. Жан-Жорж прибыл верхом на верблюде. Он теперь и не Жан-Жорж вовсе, а «Царь ночи», «Вездесущий» или «Прославленный незнакомец». Он утверждает, что собирался приехать верхом на слоне, но в прокате не нашлось ни одного свободного.
– В 23.07 я решил, что пойду, в 23.34 я надел смокинг, в 23.46 вышел на улицу, в 0.02 сел в «ягуар», примерно в 0.23 освежил лицо и шею туалетной водой («Семенная жидкость Роже» от Анник Гутю, очень качественный продукт); я забрал верблюда в 0.42, в 0-50 мимоходом основал анархистскую партию, так что, леди и джентльмены, извините за небольшую задержку. Он машет толпе рукой. Жан-Жорж тщательно продумывает свои выходы. У него за спиной стайка девочек-подростков играет в серсо. Со спины своего задумчивого верблюда он осыпает толпу дождем белых лепестков. Одна из его почетных фрейлин присаживается на ступеньке, чтобы пописать. Вслед за этим он развязывает самую настоящую бойню: метание горящих дротиков, блуд, групповой секс, публичная порка, лишение девственности, игры с разными правилами (рулетка – русская, заирская и сан-тропезская). Не проходит и получаса, а ребенок Хардиссонов уже обожает его. Вскоре Жан-Жорж под радостные приветствия толпы взвешивает на ладонях сиськи Лулу Зибелин.
– Вот они, прекрасные французские округлости, двойной молочный нарост из материала высочайшей пробы!
– Dear Loulou, – говорит Ирэн с сильным британским акцентом, – позвольте мне вставить вас Джон-Джорджу. (Интересно, преднамеренно она воспользовалась неверным французским аналогом английского глагола «introduce»?) The funniest guy. I know.
– Да он у нас шутник, оказывается, – встревает Марк. – Вы знаете про идиотку, которая решила побелить потолок? Он ее придумал. Марк – зануда. Фаб отводит его в сторону.
– Ну и вид у тебя… Cool man. Откуда эти негативные пиксели? Фаб тащит Марка за собой, подальше от нескромных взглядов любопытствующих. Откуда-то из трусов достает прозрачный пластиковый пакетик с желтоватым порошком.
– Easy, boy, ситуация под контролем. Нюхни-ка чуток моего Special К: треть кокаина, треть конского транквилизатора и треть средства, вызывающего выкидыш у кошек. После него ты захочешь одного – проплясать свою жизнь под балеарскими звездами.
– С чего это все вы решили уподобить меня себе? Сбереги свою отраву для Клио: она вон там, валяется на банкетке.
С этими словами Марк тычет пальцем в спасенную Клио, которая похрапывает на подушках, подвернув под себя босые ноги. Испугавшись, что друга настиг припадок жестокой паранойи, Фаб удерживает его подле себя за руку.
– Уй-я! Я тебе про профилактику, а ты мне про bad-trip? Включи автопилот, чувак…
Как Марку объяснить, что в голове у него неотвязно гудит басовая нота, постоянный звуковой фон, хуже, чем мигрень: это похоже на шум заводского цеха, как в первых фильмах Дэвида Линча, у него нет ни секунды покоя, даже когда он окружен людьми, даже когда на максимальной громкости звучит техномузыка – все равно Марк продолжает слышать гул этой сатанинской фабрики, работающей день и ночь напролет. Как объяснить тебе это, Фаб? И снова Сизиф-Марронье обретает убежище в баре. Он предпочитает сидеть: в противоположность Мишелю де Монтеню, который сказал: «Когда я сижу, мои мысли спят», – мысли Марка умеют спать стоя. Сидя он может попытаться навести в голове хоть какой-то порядок. Он смотрит на сотни зайчиков, испускаемых зеркальными шарами, которые бесшумно поднимаются и опускаются в воздухе над стойкой словно наружные лифты на здании «Софитель». Его хамелеонское существование напоминает рассыпанный пазл, на котором изображено неизвестно что. Есть ли в этом хоть малейший смысл? Имеет ли смысл даже задавать подобный вопрос?
Он родился в западном предместье, его похоронят на кладбище Трокадеро; свою жизнь он потратит, пересекая северную часть XVI округа. А между делом он станет ходить на вечеринки, сидеть на табуретах в барах и рассматривать свое отражение в зеркальных шарах. Марк легко думает о смерти, о тщете всего сущего. Не стоит трижды спрашивать его «Зачем?» – он и так без конца думает о смерти. К чему все эти шуточки? Ничего, они перестанут задаваться, лежа в ящике из лакированной сосны, когда земляной червь начнет внедряться в пустую левую глазницу.
– Ба! – восклицает он, хлопнув себя руками по коленям. – Вот уж там-то и посмеемся над этим миром!
– Вы что, сами с собой разговариваете? Пресс-атташе одаривает его коварной улыбкой.
Кусок салатного листа, застрявший у нее между резцами, исчез, после того как над ней поработал Жосс Дюмулен. Быть звездой вечеринки – лучше не придумаешь, но чтобы заработать свой кусок хлеба, приходится трудиться, не покладая рук. И сейчас он опять забился в свою прозрачную рубку, где пытается решить, какой из груды моднейших компакт-дисков, лежащих перед ним, поставить следующим. Марк буде полным идиотом, если не воспользуется этим мгновением. Что бы вы сделали на его месте? Пока еще не сдохли? А?
– Лучше садись рядом, вместо того чтобы издеваться надо мной, – говорит он, похлопывая рукой по соседнему табурету.
– Вы Вели себя, как полный болван.
– Боже мой, только этого не хватало – и ты туда же! Допустим, у меня трудный период. Не могу же я постоянно быть красивым, блистательным и интересным!
– И скромным… Она улыбается, убежденная, что очень остроумно «срезала» Марка.
– Что ты будешь пить?
– То же, что и вы. Марк обращается к бармену:
– Два «Ката-тоника» со льдом, пожалуйста. Тихий ангел пролетел: ничего удивительного, времени-то – без четверти два. Марк внимательно изучает девушку: тонкие пальчики, маленькие ушки, блестящие губы. Небрежным тоном бросает:
– Не хочешь переспать со мной?
– Простите?
– Извините за прямоту, но уже поздно, и я хочу выиграть время. Ты трахнешься со мной прямо сейчас, как с Жоссом, да или нет, грязная шлюха?
– Говнюк! – говорит девушка и замедленно-элегантно выливает содержимое своего стакана на штаны Марку.
– Кто не пытается, тот не добивается, – бормочет себе под нос Марк, снова оставшийся один. Впрочем, костюм все равно испорчен. Вокруг него кружатся разноцветные оргиасты. Марк прекрасно знает, что без мордобоя, наркотиков, скандалов и трупов вечеринка не может считаться состоявшейся. Он знает, в чем прелесть больших праздников. Но он также знает, что все это бессмысленно. Выпить в одиночку бутылку арманьяка за вечер, это бессмысленно. Строить баррикады, сжигать 205 GTI перед «Макдональдсом» на улице Суффло, избивать иммигрантов – не решение проблемы. Расчленять женские трупы, чтобы они влезали в холодильник, – сущий бред. И даже блевать на рассвете кровью на покрывало фирмы «Сулейадо» – идиотизм.
Все лишено смысла, кроме разве что бледного плеча, на которое можно положить голову и закрыть глаза, грызя орехи кэшью, и лучше всего – в ванне, наполненной горячей водой.
2-00
Антракт
There I am
2 a.m.
What day is it?
Хайку, написанное Джеком Керуаком
И вот наступает время Запредельных Причуд. Уже два часа утра или что-то в этом роде. Марк чувствует, что его организм совершенно обезкофеинен. Не помогают ни смарт-дринкс, ни пастилки гуараны, ни прочие раздаваемые в зале смягчающие плацебо. Жосс Дюмулен уже не заботится о ближних. Он смешивает «Мессу для настоящих времен» с «Гудением, вызванным электрической бритвой, положенной на струны фортепьяно» (обе пьесы сочинены Пьером Анри). Верховный Диджей вернется в свой отель не один. Двери откроет швейцар в роскошной ливрее. Кровать будет застелена невероятно свежим бельем. Пресс-атташе (да, да, опять она!) станет потакать всем его прихотям с чувством профессионально исполненного долга. По кабелю можно будет посмотреть порнушку. Церемониймейстер «запустил» сегодня вечером клуб, и весьма удачно, браво, я читал о тебе в последнем номере «Глаза» – классная фотка, позвони мне на неделе, сейчас у меня полный зарез.
Молодец, Марк, что не падаешь духом, твое упорство осмысленных поисках восхищает.
Ондин хихикает с подружками в баре, и Ари кричит им:
– Быстрее! Они все уже вывалились – Жан-Жорж и остальные! Марк следует за ними на холод. Тридцать подонков – отбросы, жалкие развалины – извергнуты на площадь Мадлен. Обряд этот называется у них «ночной поллюцией».
Перед входом в клуб Жан-Жорж с дюжиной безвестных приспешников распевают «Потрогайте письку соседки», стоя на крышах сверкающих спортивных автомобилей. Бедняга владелец кабриолета «порше» – откидная крыша его любимца дефлорирована острыми каблуками.
И тут провокатор Жан-Жорж восклицает: «В атаку!» Собравшиеся воспринимают его команду как руководство к действию – так что ответственность за последовавший разгром целиком и полностью ложится на него. Вандалы в вечерних костюмах не знают пощады: витрины «Ральфа Лорена» и «Маделио» разбиты и опустошены. Сработавшая сигнализация только раззадоривает погромщиков. Рубашки в пластиковых пакетах летают по воздуху, как тарелочки «фрисби». Марк пополняет свою коллекцию галстуков в горошек – по самой низкой цене. Жан-Жорж хватает коробку с позолоченными запонками, бросает их, чтобы сорвать вешалки охапку нижних юбок. На подходах к предместью Сент-Оноре страсти все еще кипят, но, поскольку никто не предложил следующего «политического шага, последние бунтари отступают: гораздо веселее пинать ночами все подряд тачки, запаркованные на улице, слушая сладкую музыку противоугонных сирен.
Один из светских хулиганов ухитрился даже написать в почтовый ящик у Люка Картона. Вот уж анархизм так анархизм, причем акробатический! Марк попытался вообразить чувства растерянных девушек, которые получат завтра любовные письма, благоухающие мочой, налоговых инспекторов, разглядывающих чеки подозрительно желтого цвета, вонючие почтовые открытки. Мочиться в почтовые ящики – возможно, это последний летний революционный поступок. «Да здравствует эпистолярное хулиганство!»
В сущности, нет никакой разницы между обитателем из Нейи-сюр-Сен и жителем Во ан-Велен, разве что первый обожает второго. А теперь Жан-Жорж и его фаны карабкаются на строительные леса вокруг церкви Мадлен – ей поправляют фасад. На табличке написано: «ГОРОД ПАРИЖ РЕСТАВРИРУЕТ СВОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ». По мнению Марка, на Мадлен не хватает кариатид, чтобы выдержать натиск толпы, хотя трубчатые конструкции держат удар. Чертовское проворство бурлит в крови у людей, хорошо принявших на грудь! За семь секунд они оказываются на крыше псевдогреческого храма наполеоновской эпохи и решают выпить там пивка. Вид с крыши открывается феерический. Париж похож на свой собственный зыбкий план, в масштабе 1:100. Если бы Гулливер (или Кинг-Конг, или Годзилла) наведался сюда, он раздавил бы в лепешку дома, как сласти из глазури. Жан-Жорж стоит над бездной, глядя на Бурбонский дворец.
– Смотрите! Вот там, прямо по курсу, – юг, Африка! Слева – русские, справа – америкашки. Первые дохнут от голода, вторые – от зависти, а третьи – от несварения желудка. В каждом порту бывшего СССР стоит атомная подводная лодка, готовая взлететь на воздух. Мафия правит США с тех пор, как убила Джона Кеннеди. Весь мир страдает, вакцины против этого мерзостного СПИДа никто так и не придумал, а мы тут тратим жизнь на всякую херню! Лишь бы потрахаться… Я ненавижу вас, шайка пидоров! Да еще и пиво теплое, как моча!
С этими словами Жан-Жорж роняет вниз бутылку, она пробивает лобовое стекло «роллс-ройса», который тянет на буксире малолитражка, как назло, именно в этот момент пересекающая площадь. Матье Кокто охватывает приступ неукротимого смеха, и он блюет на прохожих, издавая мерзкие пронзительные крики.
Жан-Жорж, больше всего похожий на записного онаниста, увлекающегося чтением медицинской энциклопедии, продолжает свой обличительный монолог.
– Да вы взгляните на себя, уроды! Сборище беспонтовых шлюх, вот кто вы такие! Бесполезные существа! От вас воняет! Возьмем, к примеру, ее… Он тычет пальцем в баронессу Труффальдино:
– У тебя что, зеркала дома нет, вобла ты сушеная? ЧЈ ты сюда приперлась, мумия восьмидесятилетняя? Старая кошелка, кровь небось только из носа-то и идет?
– Заткнись, жалкий педоимпотент! Насрать мне на тебя! Давай подставляй задницу – флаг тебе в руки! Спидоносец! Самовлюбленный червяк! Мешок со спермой! Прокаженный обрубок! Да ты моим дерьмом и голову мыть недостоин! Старушка сваливает. Тем лучше: исторгнутый бабой поток ругани остужает Жан-Жоржа. Слово берет Ари:
– Эй, босяки, въезжаете, куда попали? Мы на КРЫШЕ МИРА! Здесь сбываются все мечты! Достаточно сказать, кем вы хотите стать! Желания сыплются градом:
– Я бы хотел стать родинкой Синди Кроуфорд.
– А я – сиськами Клаудии Шиффер.
– А можно попкой Кристи ТЈрлингтон?
– Вишенкой Шерилин Фенн!
– А я на всех на вас положил: я УЖЕ И ТАК – спираль Кайли Миноуг, тампакс Ванессы Паради, геморроидальная шишка Лин Рено и клитор Аманды Лир! Я – червь, пожирающий внутренности Марлен Дитрих!!! Ученики хорошо усвоили стиль Жан-Жоржа.
Ледяной ветер поднимает воротники курток. Желудочный сок стынет. Посреди Парижа, на крыше исторического памятника, замерзает банда молодых безумцев. Среди них девушки и парни, а еще те, кто никак не определится. Никто еще не устал настолько, чтобы остановиться. Ари извлекает на свет божий пакет с маслянистой травкой, подтверждая печально известный каламбур Жан-Жоржа: «Ночью все шишки серы».
В сторонке от основной группы Фаб продолжает приставать к Ирэн. Эта ветреная ночь вызывает у меня feeling гипер-gonzo-оживления! Ты веришь в спиральную модель Вселенной?
– You know, Фаб, it's cold here, я замерзла, брр, completely freezing. Вполне возможно, что они влюблены друг в друга, тому есть несколько косвенных подтверждений: во-первых, она отводит в сторону глаза, когда он на нее смотрит, во-вторых, он сидит, подвернув под себя ноги.
– Войди в мою вторую кожу на несколько наносекунд, моя быстрозамороженная baby doll.
С этими словами Фаб протягивает Ирэн свой прозрачный пластиковый плащ «под леопарда». Такие, как он, всю жизнь насмехаются над нежными чувствами, но стоит одному из них влюбиться, и он становится противно-слюнявым безнадежным романтиком. Хоть Марк и похож на счастливого пупсика, ему постоянно хочется плакать. Ему не удается сбежать, и здесь, вдали от шума и суеты «Нужников», он чувствует себя окончательно пойманным. Ари энергично машет ему рукой:
– Вали сюда, мы уже по третьему кругу косяк пускаем!
– Спасибо, я не курю: у меня от травки кашель.
– Ну так съешь кусочек!
Ари показывает коричневый комок, и Марк, которому осточертело все время отказываться, глотает, морщась от отвращения.
– Да вы сами-то пробовали это? Вот уж точно – дерьмо! Марк сидит по-турецки. В клубе у него не было времени грустить, но здесь, над городом, меланхолия мягкой лапой цепко хватает его за сердце. Он безостановочно жалеет о тех, кого нет с ним на крыше. Ему их не хватает – как тех событий, что никогда не случатся, и тех произведений, которые никто не напишет. Наверняка там, за облаками, сверкают звезды. Ледяной ветер подует и улетит. Небо похоже на море. Марк отводит глаза, смотрит вниз; ему чудится – набери он побольше воздуха в легкие, смог бы нырнуть в небосвод.
Примостившись на досточке в тридцати метрах над землей, Жан-Жорж вещает. Во время подобной вылазки на сверкающую крышу Центра межэтнических отношений один их приятель погиб, пролетев вниз пять этажей. Марк никогда не забудет его последних слов: «Все более чем прекрасно!» Он произнес их за секунду до прыжка в полуночную тьму. (Если быть совсем уж точным, то его тело распласталось на асфальте в пять секунд первого.)
– Друзья мои, – восклицает Жан-Жорж, – грядет конец мира. Сотрется различие между Патриком и Робером Сабатье. Между владельцами яхт и экипажем. Что до космополитичной элиты, у них и так никогда не было крыши над головой. Общество потребления погибнет. Общество массовой информации погибнет следом. Выживет только общество мастурбации! Сегодня весь мир дрочит! Мастурбация – новый опиум для народа! Онанисты всех стран, соединяйтесь! Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой! Простим Марку веселость, с которой он реагирует: отрава Ари мало-помалу растекается по венам. Жан-Жорж ограничивается тем, что время от времени нюхает клей, налитый в пустую фляжку из-под бурбона. Да здравствует новый дивный мир всеобщего Рукоблудия! Социологи назовут это индивидуализмом, но я заявляю: мы живем в эпоху онанистического интернационала!
– Но в этом же нет ничего плохого… – вставляет Майк Шопен, светский «вольный стрелок».
– А, нам пытаются противоречить! Очевидно, товарищ полагает, что общество мастурбации ждет долгая жизнь! Не тешьте себя иллюзиями, дорогие мои. Оно вас всех убьет. Если онанизм станет идеалом, мир устремится к гибели. Ибо мастурбация – полная противоположность жизни. Кончить на скорую руку, выбросить свое семя в пространство, забыться в пустоте. Мастурбация ничего не дает никому, особенно тому, кто ею занимается. Она подтачивает нас исподволь. Увы, дамы и господа: КОНЕЦ МИРА БУДЕТ ВЯЛЫМ ОРГАЗМОМ! Спасибо за внимание.
Усаживаясь, Жан-Жорж неожиданно громко пускает газы. Его речь почти убедила Марка, но он уже ничего не боится. У него всегда при себе паспорт, чтобы в любой момент отправиться куда угодно. Именно поэтому он никуда и не едет. И вот он встает и тоже берет слово:
– Ах, если бы кто-нибудь сумел восстановить Берлинскую стену… Насколько лучше мы бы себя чувствовали под защитой бывших врагов! Но – увы! – все кончено.
Он слюнит палец, чтобы определить направление ветра, потом возвращает руку в карман.
– Нашему поколению не досталось никаких идеи. Мы блуждаем по пустыне, ни хрена не понимая. Давайте кинем взгляд на то, что нам предлагают… Экология?
Собравшиеся шикают. Марк продолжает:
– Жуткое дело с экологией. Природа боится пустоты, именно поэтому мы боимся природы. Око за око, зуб за зуб… Религия? Жан-Жорж сдерживает зевок… Марк чувствует, как им овладевает неведомая сила.
– Каждый верит, во что хочет, но согласитесь, что ислам подает дурной пример: религия, которая запирает на замок женщин и убивает писателей, покоится на неверных основах. Что до Папы Римского, промолчим о нем, чтобы не расстраивать наших бабушек и дедушек. Папа – это тот тип, в белом, который проповедует черным, чтобы те не пользовались презервативами, и это – в разгар эпидемии смертельной болезни… Так, что там у нас еще осталось по идеологической части? Ах да, социальный либерализм! Или вы предпочитаете либеральный социализм?
Один из приятелей Ари, отвечающий в «Креди Сюисс Ферст Бостон» за слияния и новые счета, обобщает реакцию публики одной фразой:
– В тот день, когда все взлетит, мы все улетим!
– Заметьте – это ВАШ вывод! – радуется Марк. – Мы живем в царстве бабок, безработицы, пустоты и ничтожества… Итак, с КАКОЙ идеологией мы войдем в грядущее столетие? Внимание, парни! Если сами не найдете правильный ответ, придут фашизоиды, а они шутить не станут.
– НАРКОШИЗОИДЫ? – переспрашивает Ари, затягиваясь. Да нет, красно-коричневые, левые радикалы или крайне правые марксисты, вся эта шатия. Если мы их не прижмем, они окажутся у власти в конце Уже этого десятилетия.
И тут все присутствующие, вдохновленные горними ветрами и конопляным дымком, начинают наперебой предлагать спасительную идеологию:
– Что скажете насчет антилейборизма? Если в обществе будут одни безработные, некому будет завидовать.
– А я могу предложить лучшую систему: общество не-потребления, в котором люди перестанут покупать продукты в магазинах. Все перейдут на вторсырье.
– Нет, моя идея еще круче: тотальное перераспределение. Сначала для всех вычисляется ВНП, оплачиваемый общим НДС. Если угодно, называйте это капиталистическим коллективизмом.
– А что скажете об анархо-плутократии? О мире, в котором не будет ни соцобеспечения, ни подоходного налога, ни запрета на курение, где все наркотики легализуют, а единственную оставшуюся частную собственность будет охранять армия ночных сторожей…
Марк с жалостью смотрит на дело рук своих. Его Генеральные штаты выглядят весьма заштатно. Он подводит черту:
– Мимо кассы. Все вы пролетели. Будущее – за парижским сепаратизмом. Ари и Жан-Жорж переглядываются, но Марк твердо стоит на своем.
– Да, да, именно так. Но не в значении светской жизни или элитарности аристократических кварталов. Я имею в виду борьбу за независимость города Парижа. Будем как корсиканцы, баски и ирландцы только они во всей Европе достойны уважения! Создадим нашу ООП – Организацию освобождения Парижа – и приступим к осуществлению террористических актов против преступной Французской Республики, которая хочет заставить нас жить в одной стране с бретонцами, беррийцами и эльзасцами. Неужели мы позволим, чтобы самый красивый город мира оказался в распоряжении всех этих провинциалов? Да здравствует Париж, долой Францию! Вы готовы умереть за наш город? Нестройным хором аудитория выражает свою поддержку. Тогда Марк предлагает им несколько лозунгов, из которых самый мнемотехничный – следующий: «Париж – не Франция! Парижане – нация». Повторишь такое вслух раз двести, сам начинаешь верить в то, что говоришь!
Проходит полчаса, и революции откладываются. Телевизионные антенны вспарывают брюхо чернильно-черным облакам. Издалека крыша церкви Мадлен напоминает сцену из диснеевских «Котов-аристократов». Эта маленькая, клюющая носом компания сильно смахивает на собрание короткошерстных черногрудых уличных котов. Они не мурлыкают. Так, мявкают… их и гонять-то не за что.
Фаб растянулся на спине. Он смотрит в хмурое небо.
– 24 февраля 1987 года звезда Сандулеак 69-202 взорвалась в районе Большого Магелланова облака в ста восьмидесяти тысячах световых лет от Земли. Если бы эта сверхновая взорвалась чуть ближе, допустим, на расстоянии десяти световых лет, Земля мгновенно погибла бы. Сгорело бы все: животные, растения, биосфера. 24 февраля 1987 года могло стать последним днем этой планеты. Чем вы занимались 24 февраля 1987 года? В ответ – всеобщее молчание.