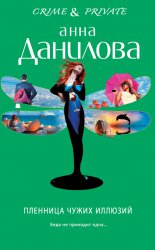Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов Коллектив авторов

Главной формой противоположной тенденции – легитимации университетской традиции – с середины 1920-х годов стала отсылка к революционному студенческому движению[152] и к заслугам прогрессивной профессуры. По мере приближения к рубежу 1917 г. эти профессора представлялись оппозиционной и страдающей группой, третируемой либералами и националистами. Данная стратегия перепрофилирования традиции легла в основу появившейся в 1930-м г. обширной истории Казанского университета (двухтомного труда молодого историка М.К. Корбута, через несколько лет после этого репрессированного[153]).
Переосмыслению подверглось ключевое для прежнего университета (как профессоров, так и студентов) понятие «автономия». В брошюре ректора университета в 1922–1925 гг. филолога Н.С. Державина (которого ранее считали приверженцем правых, почти черносотенных взглядов), выпущенной к шестой годовщине Октября, отмечалась эта «диалектика»: «Либеральный, прогрессивный и революционный лозунг в прошлом – борьба за “автономию” школы сейчас, в новых исторических условиях нашей жизни и нашего общественно-политического и культурно-государственного строительства есть лозунг не только реакционный, но несомненно и контрреволюционный, искусно используемый в стенах высшей школы буржуазией в своих интересах»[154].
Подчеркивание автономии университета от царского правительства и имперской власти, необходимости свободы для развития просвещения и науки (в духе милюковской традиции)[155] определяло подход к университетскому прошлому среди российских эмигрантов первой волны, широко отмечавших 175-летие, а потом и 200-летний юбилей МГУ в 1930 и 1955 гг.[156]
Юбилей МГУ 1930 г. в Советской России показательно совпал с самым яростным наступлением функционеров различных ведомств и идеологического актива на университет как таковой. Зеленый свет им был дан в постановлении ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. «О реорганизации высших учебных заведений, техникумов и рабочих факультетов». Университет виделся рудиментом феодальных времен и представал на страницах печати и в руководящих документах в виде хаотического конгломерата различных факультетов и отделений, который должен быть реорганизован с учетом курса на всемерную индустриализацию и выполнение актуальных хозяйственных задач. Для этого его предстояло разделить на специализированные, преимущественно технические, и практически ориентированные институты. В качестве примера упоминались исторические уроки прежних атак на университеты («не случайным эпизодом Великой французской революции явился декрет 1792 г., закрывший все 22 университета Франции как учреждения реакционные и по своему содержанию и по методам преподавания»[157]) и позитивно оцененный украинский опыт, который следовало повторить и в РСФСР для борьбы с «порождением седой старины». С тем, что срок жизни «175-летнего старца» почти истек, соглашался и тогдашний ректор МГУ экономист И.Д. Удальцов[158].
После постановления ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. «Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах» волна реорганизаций пошла на спад, и уже к середине 1930-х годов университеты были признаны ведущими центрами фундаментальной подготовки специалистов. Юбилеи Московского университета и недавно восстановленных в УССР Харьковского и Киевского университетов были отмечены в 1935 г. в центральной печати[159]. Тогда везде стала подчеркиваться преемственность широкой научной – а не только общественнической – традиции с наследием XIX в. (по шаблону отраслевых историографий вроде изучения химии/геологии/славяноведения etc. в N-ском университете за соответствующее число юбилейных лет), и тон этих дисциплинарных описаний был гораздо более взвешенным и объективным, чем в общих трудах по истории университетов[160].
Теперь острие классового подхода было направлено в иную сторону – не на разрушение прежних канонов, а на пропаганду важности нового, советского наследия, которое только и позволило реализоваться сполна давним университетским идеалам и начинаниям. Характерный текст напечатал к юбилею Ленинградского университета биолог А.В. Немилов: «За 21 год Великого Октября на месте бывшего Санкт-Петербургского университета, в конце концов совсем оторвавшегося от жизни и не знавшего, кого и для чего он готовит, вырос мощный научный комбинат, крепко связанный с массами и пустивший корни в разные направления…То ценное зерно, которое заключалось в самой основе построения университета, не могло себе найти подходящей почвы в дореволюционное время. Только при советской власти основная установка университета и могла быть реализована как следует. Хлынувшая в университет масса рабочих и колхозников нутром почувствовала ценную сущность университетского образования и помогла этой идее созреть и вылиться в тот социалистический Ленинградский университет, который мы имеем в настоящее время»[161].
Таким образом, во второй половине 1930-х годов сформировалось намерение советских идеологов легитимировать за счет современных достижений и успехов университетское прошлое в целом. Накануне войны вышел юбилейный сдвоенный том «Ученых записок МГУ»[162]. Только вместо прежних солидных изданий «к датам», подобных тем, которые обычно профессора-историки готовили в конце XIX в., перед читателем были очерки, в которых история предстала деперсонализированной чередой классовых боев в рамках университета. И это кардинально отличало новую историю от прежних рассказов о жизни корпораций, воплощенных в биографиях профессоров и развитии учреждений.
Примечательно, что авторами юбилейных очерков, особенно касающихся политически острых периодов университетской истории – цезур, были аспиранты, ассистенты, а то и коллективная бригада студентов (в которую входили, в частности, будущие известные историки М.Я. Гефтер и Б.Г. Тартаковский)[163]. С середины 1930-х годов у нового жанра университетских исследований появилась еще одна особенность: на общем фоне весьма политизированного и обезличенного повествования были выделены биографии политически выдержанных профессоров – К.А. Тимирязева, Н.Я. Марра, И.П. Павлова, которые с тех пор становятся своего рода иконами и одновременно олицетворением «славного прошлого». В дни празднования некруглого юбилея, в мае 1940 г., Московскому университету, удостоенному в честь этого события ордена Ленина, было присвоено имя М.В. Ломоносова (с октября 1932 г. по сентябрь 1937 г. университет носил имя историка-большевика М.Н. Покровского). Позднее к этому сонму университетских святых добавятся Т.Н. Грановский, Д.И. Менделеев (несмотря на близость к идеям «реакционнейшего» Александра III) и уже после 1960-х годов В.И. Вернадский, которому перестают вменять в вину членство в кадетской партии и близость к Временному правительству.
В конце 1940-х годов возвеличивание «людей русской науки» и неумеренное подчеркивание русского приоритета во всех областях знания тоже, как ни парадоксально, содействовало реабилитации связи советского и дореволюционного (не императорского) университета. Сразу после окончания Великой Отечественной войны спрос на прошлое оказался неимоверно высоким в Ленинградском университете, во главе которого тогда стоял амбициозный ректор А.А. Вознесенский. Именно там в юбилейном издании «ученых записок» появилась большая статья С.Н. Валка – выдающегося источниковеда, ученика А.С. Лаппо-Данилевского – о развитии исторической науки[164]. В Ленинграде вышел отдельный том о советской истории вуза[165], начал работать первый в стране музей истории университета[166]. Однако новые идеологические кампании эту реставрационную деятельность практически свели на нет (празднование 130-летия этого университета в контексте разворачивающегося «ленинградского дела» было, по сути, запрещено[167]).
Очередная волна реабилитации прошлого и восстановления преемственности пришлась на середину 1950-х годов и проявилась в подготовке юбилея Московского университета. Тогда был издан весьма представительный двухтомный труд по истории ведущего вуза страны[168]. Дореволюционное прошлое в нем перестало быть свидетельством чего-то архаично-буржуазного и обреченного на слом. Напротив, оно предстало залогом нового успешного советского развития, его необходимой предысторией. В конце 1950-х годов стали издаваться сборники с фрагментами воспоминаний об университетах (а не только о героической борьбе за завоевание «крепости буржуазной науки», как в 1920-1930-е годы[169]). Особенно показательна эта сложная игра лояльностей советского и традиционного в случае университетов с большим прошлым в таких непростых регионах, как Западная Украина и Прибалтика. Для университетов Львова, Вильнюса и Тарту (как и университетов Чехословакии, Восточной Германии или Венгрии) это подразумевало обращение к архаическому или заведомо чужому наследию.
В годы оттепели и застоя появилось уже много работ по истории отдельных университетов (особенно Санкт-Петербургского/Ленинградского), сводные юбилейные труды по истории Киевского, Казанского, Тартуского, Томского, Ростовского и Пермского университетов[170]. Но при этом даже свободные от явных сталинских штампов истории еще долго не мыслились как продолжение прежних дореволюционных сводов: с работами предшественников – С.П. Шевырёва, А.И. Маркевича, В.В. Григорьева – историки из МГУ, Одесского университета или ЛГУ обращались или критически, или сугубо инструментально.
Часто авторами работ об университетах, кроме историков-профессионалов, были бывшие ректоры (С.Е. Белозеров в Ростове) или создатели обобщающей сводной работы по университетскому образованию в СССР (бывший ректор МГУ физик А.С. Бутягин и его помощник филолог Ю.А. Салтанов)[171]. К тому времени такие университетские истории перестали восприниматься советской властью в качестве трудов, чреватых опасностью позитивной репрезентации чужого прошлого. После десятилетий чисток и «коммунизации» преподавательского корпуса с университетов было снято подозрение в оппозиционности. Они действительно стали лояльными господствующей системе, в отличие, например, от собратьев в Восточной Европе, где этот процесс растянулся почти до начала 1970-х годов[172].
Университетские истории позднесоветского времени были вполне интегрированной частью государственного дискурса прошлого, что обеспечивало им политико-административную поддержку и финансирование. В обстановке и атмосфере оттепели появились первые труды ныне признанных специалистов по истории университетской системы Российской империи – Г.И. Щетининой, Р.Г. Эймонтовой и А.Е. Иванова. Показательно, что все они были сотрудниками академических институций. Тогдашняя смелость их публикаций заключалась в реанимации идеала университетской автономии в духе С.Г. Сватикова или А.А. Кизеветтера, идеала, который в раннесоветский и сталинский периоды был объявлен достоянием прошлого и рассуждения о котором расценивались как акт политический.
Во всяком случае к концу 1980-х годов, т. е. еще в рамках советской идеологии, канон и возможный спектр легитимной и публично признанной университетской памяти был существенно расширен по сравнению с нигилистическим периодом 1930-х годов[173]. Занятия прошлым университета, собиранием в том числе и неофициальной культурной памяти стало делом немногих энтузиастов, из которых отдельного упоминания заслуживает Виктор Дмитриевич Дувакин (1909–1982), пионерские занятия которого устной историей конца 1960-х годов стали возможны благодаря покровительству тогдашнего ректора МГУ И.Г. Петровского[174]. А к моменту перестройки апелляция к дореволюционному прошлому была четко артикулирована и апроприирована на символическом уровне – как важный ресурс самолегитимации и средство защиты от слишком радикального идеологического вмешательства.
В новых рыночных условиях этот ресурс был заново освоен и перепрограммирован для успеха иных практик самоутверждения прежней университетской элиты. Ведь, как известно, в России не произошло тех радикальных изменений в университетской среде (и управленческом корпусе университетов), которые оказались характерны для вузов Восточной Европы, и особенно ГДР[175].
Стоит напомнить, что к концу 1980-х годов сильно изменилась и расширилась география отечественного университетского строительства. В сакраментальном 1913 г. в России работало девять университетов (Москва, Санкт-Петербург, Киев, Казань, Харьков, Юрьев [Дерпт, Тарту], Одесса, Томск, Саратов), в феврале 1917-го – одиннадцать, а на момент распада СССР – 70. В 1950-1970-е годы многие территориально-административные области и особенно республики (союзные, а затем и автономные) обзавелись своими университетами ради повышения государственного статуса. Впрочем, это обзаведение университетами не было системным и оказывалось успешным только при наличии лоббистских ресурсов у местной власти.
С началом перестройки стала возможной самоорганизация университетских сообществ и их горизонтальная интеграция. Правда, над солидарным духом автономных университетов довольно скоро возобладали амбиции их управленческих звеньев. В марте 1989 г. при весьма благожелательном отношении тогдашнего руководителя союзного Госкомитета по образованию, бывшего ректора Московского химико-технологического института (МХТИ) Г.А. Ягодина была создана Ассоциация университетов СССР, с 1992 г. переименованная в Евразийскую. В конце ноября 1992 г. возникло профессиональное объединение университетских администраторов, Российский союз ректоров. И Евразийскую ассоциацию, и союз ректоров возглавил бессменный руководитель МГУ В.А. Садовничий[176].
Весьма консервативные по своей сути, эти объединения довольно успешно работали в 1990-2000-е годы в административном сегменте образовательного рынка, тормозя или корректируя (в том числе через профильные комитеты парламента) те инициативы правительства, Госкомитета по высшей школе или Министерства образования Российской Федерации, которые были для ректорского корпуса сомнительны или попросту невыгодны[177].
Получив право говорить от лица коллективного «мы» и управлять посредством выстраивания иерархий, Ассоциация и Союз провозгласили наличие в российском образовательном пространстве заповедной зоны – «классические университеты». Записанные в нее школы претендовали на высшие позиции и обосновывали свои претензии историческим вкладом в создание национальной университетской традиции. На практике и на фоне стремительного процесса университизации технических, педагогических и прочих вузов классическими стали считаться или именоваться госуниверситеты советского времени[178]. К ним удалось присоединиться только нескольким университетам из региональных центров, выросшим на базе педагогических институтов.
Созданная в начале 2000-х годов Ассоциация классических университетов России (АКУР) объединила 24 университета, а весной 2010 г. в нее входило уже 43 университета, «соответствующих критериям классического»[179]. Описание этих критериев, присутствующее на сайте АКУР, хотя и начинается со срока деятельности вуза в этом статусе, состоит из формальных числовых показателей (наличия в вузе программ подготовки магистров, бакалавров или специалистов не ниже установленной нормы от всего спектра потенциальных дисциплин).
Несмотря на семантическую размытость понятия «классический университет» (или благодаря ей), под давлением разнообразных лоббистских структур идея классического университетского образования стала механизмом распределения власти и ресурсов на внегосударственном уровне. Это осуществлялось через структуры внутри Евразийской ассоциации университетов и особенно через такую специфическую и непубличную сферу, как методическая работа: утверждение программ, аккредитация, придание грифа учебной литературе и т. д.
В середине 1990-х годов за особый вклад в национальную университетскую традицию (а на самом деле за политическую поддержку весьма слабой тогда правящей власти) ряд самых старых университетов страны были включены в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, что гарантировало им привилегированное государственное финансирование.
Система приоритета старых университетов в определении рамок и параметров учебного процесса стала складываться в России в перестроечные годы. Она была закреплена Комитетом по высшей школе Министерства науки России от 6 мая 1992 г. (постановление № 141 «О создании научно-методических советов Комитета по высшей школе Миннауки России»), а в июне 2001 г. эта привилегия была вновь подтверждена Министерством образования.
Несмотря на разнесенность научно-методических советов по разным (преимущественно «классическим») университетам, для профиля гуманитарных и общественных дисциплин важнейшую роль все 2000-е годы играло Учебно-методическое объединение (УМО) по классическому университетскому образованию (ранее – Учебно-методическое объединение университетов СССР), созданное на базе Московского государственного университета еще в 1987 г.[180] Ректор негосударственной Алтайской академии экономики и права Л.В. Тен заметил, что «сами участники рыночных отношений – государственные вузы – [оказываются] наделены не свойственными им функциями государства. Без решения УМО и Совета ректоров невозможно открытие новых специальностей и направлений, их аттестация и аккредитация. Особо привилегированное положение в такой системе занимают классические университеты, без согласия которых невозможно открытие в других вузах имеющихся у них специальностей и направлений»[181]. В самом деле, негосударственные вузы или созданные в 1990-е учебные заведения оказались объектами решений ректоров «старейших» университетов.
Уже упомянутая Ассоциация классических университетов России во главе с В.А. Садовничим выделилась из Евразийской ассоциации университетов (стран СНГ) в июне 2001 г. Председатель АКУР назвал четыре функции классического университета: производство знаний, их накопление и хранение, передача и распространение. Нетрудно заметить, что под столь расширительное толкование попадало любое учебное учреждение и даже семья. Отстаивая групповые интересы, ассоциация создавала дочерние организации – например, консалтинговые центры.
Впрочем, входящие в Ассоциацию ректоры пытались и самостоятельно определить границы, защищающие привилегии их университетов по праву прошлого, и в этом стремлении достигали большего, чем сама ассоциация. Например, ректор Томского университета Г.В. Майер уверял, что «основной задачей классического университета является подготовка и воспитание не только высококвалифицированной, но энциклопедически развитой творческой личности, способной к саморазвитию»[182].
Сходные процессы шли в независимых государствах бывшего Советского союза. Еще 5 сентября 1996 г. кабинет министров Украины утвердил «Положение о государственном высшем учебном заведении» (постановление № 1074) и закрепил в нем особый статус классического университета[183]. Под ним законотворцы подразумевали «многопрофильные высшие учебные заведения, готовящие специалистов по широкому спектру естественных, гуманитарных, технических и других направлений». Документ уверял, что в таком вузе «проводятся фундаментальные и прикладные научные исследования, ведется культурно-просветительская деятельность. В целом классический университет объединяет три вида общественно значимых социальных институтов: науки, образования и культуры»[184].
В Белоруссии флагманом университетской интеграции (а также агентом исторической политики) стал старейший столичный университет[185], особенно после того как авторитетный Европейский гуманитарный университет вынужден был под прямым давлением властей и вопреки протестам европейских ученых эмигрировать из Минска в Вильнюс.
В 2000-е годы с программами российских УМО по профилю классических работали университеты в Ереване, Душанбе, Бишкеке, а также в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.
Осознание того, что в новых политических условиях родословная может стать основанием для получения административных и финансовых льгот, побудило ректоров ряда университетов заказать исторические исследования и использовать их в качестве исторического обоснования права на привилегии. Эта установка на официальном сайте Саратовского государственного университета выражена так: «Мы с огромным уважением относимся к поискам наших коллег, но сохраняем при этом свое право на выбор модели управления. Наш университет – классический – требует особо бережного отношения»[186]. Последнее замечание характерно для ректора, само назначение и деятельность которого сопровождались громкими публичными скандалами и острым конфликтом между ректоратом и деканатом исторического факультета (при явном участии политических сил). Эта история середины 2000-х годов получила широкую огласку в прессе[187].
Итак, потребность в непрерывной истории, внимание к прошлому и традициям, сближающие позднеимперские и позднесоветские университетские юбилеи претерпели в постперестроечные годы примечательную трансформацию[188]. Политическая актуальность и выгодность «длинной истории» способствовали утаиванию разрывов в университетском прошлом и игнорированию соответствующих тем. Так, казалось бы, доступ к архивам и практически отсутствие цензуры должны были в 1990-2000-е годы вызвать всплеск интереса к политическим репрессиям в советских университетах 1930-1940-х годов. Но он бы явно акцентировал разрыв между дореволюционным и советским периодами университетской жизни, продемонстрировал, насколько выдрессированной и этатистской стала «советская вузовская интеллигенция», а потому такой интерес не родился или не был поддержан.
Изредка попадающие на страницы историографических сочинений сюжеты о репрессиях и ограничениях сверху в привычном страдательном залоге только пресекают возможность социологически заостренной постановки вопроса о сращенности знания и власти в советское время, о симбиозе академической и политической элит[189]. Чаще всего исторические факты политических гонений используются университетской администрацией как охранная грамота для сохранения статус-кво или «свободы рук» в делах внутриуниверситетских. Для сравнения ситуаций напомним, что после 1988 г. в Германии критическая дистанция по отношению к компромиссам с прошлым позволила переоценить немецкую традицию культуры и «чистого знания», показать ее зависимость от политической стратегии и конъюнктуры того или иного периода. Эта болезненная и явно неприятная процедура позволяет обрести иммунитет против повторения трагедий прошлого.
Весь арсенал новейшей критической интеллектуальной истории, истории повседневности, политической и социальной истории оказался неудобным для самолегитимирующих установок верхушки университетского корпуса и обслуживающих их историков. Интерес новейшей университетской историографии к подвижным иерархиям, неравенствам, генерационным или академическим конфликтам[190] никак не отвечает желаниям простой, механической преемственности и представлениям об общей лояльности вузовской интеллигенции к политике властей предержащих (в духе всегдашнего – что в 1890-е, что в 1950-е – «служения Отчизне»).
В результате в сегодняшних общих трудах по истории университетского образования XIX в. можно прочитать следующие рассуждения о национальном своеобразии отечественной высшей школы: «Подводя итог сказанному, подчеркнем еще раз основную особенность литературы, посвященной описанию истории отечественной высшей школы в начале ХХ в[ека]. Речь идет о недооценке духовной или политической составляющей этого важнейшего признака русской модели университета…Не секрет, что гигантский взлет российской науки и культуры стал возможным благодаря возникшей в начале [XIX] века системе императорских университетов, в стенах которых получали великолепную огранку лучшие умы России, прославившие свою страну в веках корифеи науки и искусства. И она, эта система, преодолевая пиковые спады, неуклонно развивалась, развивается и, надо полагать, будет развиваться в дальнейшем. Об этом свидетельствует активное личное участие президента России в разрешении судьбоносных проблем современной высшей школы.
На исходе XIX века особенно ярко оказались выражены именно те признаки отечественной высшей школы, которые выделили ее в мировом университетском сообществе. Посаженный рукой Ломоносова в обогащенную сильной протекционистской политикой, берущей начало от Петра Великого, почву саженец привился, окреп и принес богатые плоды…И если после еще более острых кризисов, пережитых высшей школой в ХХ столетии, она не только устояла, но и обеспечила дальнейший расцвет отечественной науки и культуры, значит, такой курс написан на ее роду, и другого не дано»[191].
Конечно, подобные изоляционистские самоописания «русской модели университетов» представляют собой крайность в исторической литературе, но крайность допускаемую и даже поощряемую. Данный коллективный труд издан под грифом Федерального центра образовательного законодательства и посвящен VII Всероссийскому съезду ректоров.
Условия развития университетских исследований в современной России таковы, что административный заказ и групповые интересы преподавателей-коллег служат жестким ограничением в разработке целого ряда тем и предохраняют университетские исследования в целом от методологической ревизии. Так, поскольку вопрос о кризисах и конфликтах не приветствуется потребителями и заказчиками историй, самыми «фундаментальными» работами по истории университетов раннесоветского времени остаются концептуально устаревшие труды Ш.Х. Чанбарисова и Ф.Ф. Королева[192]. И поскольку ревизия теоретических оснований и аналитического инструментария, выявление дискурсивной природы исторических источников и созданных на их основе нарративов ведет к утрате веры читателей в эпические сказания об Университете, она вызывает противодействие альянса университетских чиновников и ангажированных ими историков. И это понятно.
Действительно, аналитическая деконструкция обнажает рукотворный и изменчивый характер фетиша – «университетской традиции». Более того, в тех случаях, когда мы работаем не только с одним типом источников – правительственными распоряжениями и законодательными проектами, обнаруживается сосуществование в одном временном срезе нескольких несовпадающих традиций (например, одна – у студентов, другая – у профессоров, третья – у ректоров). К тому же далеко не все традиции письменно фиксировались и превращались в нормативный и дисциплинирующий свод. В университетском фольклоре и мемуарах можно обнаружить следы неписаных традиций, действовавших на уровне практик (банкет после защиты диссертации или уход студентов за могилами профессоров, например).
Университетские традиции имеют разные сроки жизни и периоды обновления. И можно сказать с уверенностью: нет единой и всеобщей университетской традиции, она всегда гетерогенна и образуется из совокупности разных традиций. Другое дело, что усилиями нескольких поколений университетских писателей и в XIX в., и в последующем создавался и затем несколько раз радикально переписывался Большой нарратив университетской традиции, своего рода эпос университетской жизни. Собственно, в данной статье мы прослеживали его создание, заложенные в него намерения, его бытование и модификации. Он вбирает в себя писаные и неписаные традиции и пытается создать из них единый, вневременной, самотождественный поток. Такой нарратив всегда изготавливается для определенных нужд – обретения самоидентичности, рекламы, пропаганды образования, мифологизации университета, извлечения политических и финансовых льгот, но затем он утрачивает эту условность и начинает претендовать на документальное отражение реальности.
Понятно, что такое толкование или опрощение святыни не должно нравиться ни верующим в нее, ни тем более «служителям культа». Для многих историков университетов гораздо проще, почетнее и безопаснее поставлять на книжный рынок нечитабельные юбилейные компиляции и биографические справочники университетских сотрудников со времен основания школы и до сегодняшнего ее руководителя[193], чем трогать те стороны прошлого, которые не вписываются в беспроблемную картину поступательного неразрывного развития «нашего славного заведения».
В результате в российской историографии практически нет работ, посвященных университетам периода революций и гражданской войны[194]. Очень редко появляются публикации о противоречиях и изменениях состава послевоенной вузовской интеллигенции. А если и появляются, то их авторы принадлежат скорее к цеху историков науки[195]. У университетской истории России нет удовлетворительной хронологии, нет истории переходов, поворотных точек и трансформаций, нет проблематизации связи политической и университетской историй.
Для движения в этом направлении нужны комплексные источниковедческие исследования университетских архивов и «архивов идентичностей». Без них мы имеем дело, во-первых, с отсутствием исследований, посвященных анализу феномена университетской традиции в России; во-вторых, с разрывом концептуальной преемственности в обсуждении этой темы в разных дисциплинах и даже в рамках исторической науки; в-третьих, со спекулятивным манипулированием университетской историей со стороны одного из участников трансформационного процесса и с весьма слабым знанием генеалогии вопроса со стороны других игроков.
Для создания условий диалога экспертов и политических элит, для успешной реализации реформационных замыслов, а также для стимуляции отечественных исследований было бы полезным соединить усилия специалистов в области истории университетов, историков науки и социологии образования, чтобы достичь категориальных соглашений[196]. Нам представляется возможным выработать согласованные языки и параметры описания феномена «российский университет» в исторической ретроспективе и в социологическом горизонте. Это позволит эффективнее диагностировать объект наших штудий и выявлять причины его современного состояния.
И.П. Кулакова
Протоколы конференции Московского университета как вариант самоописания[197]
Объектами рассмотрения в данной статье являются так называемые протоколы (акты) университетской конференции (ученого совета) Московского университета за 1755–1786 гг. Это пятнадцать увесистых томов свидетельств из допожарной (до пожара 1812 г.) эпохи его истории. В дальнейшем я буду использовать условный термин «протоколы», хотя помимо материалов текущего делопроизводства в переплеты вшиты и иные виды документов. Собственно протоколы составляют только девять томов из пятнадцати. Остальные тома содержат ордера кураторов и директоров, рапорты университетских лиц, их прошения, а также копии документов из сенатского архива[198]. Судя по содержанию этого собрания, в университетской канцелярии хранились так называемые протокольные бумаги – документы, которые конференция запрашивала из разных присутственных мест для принятия решений. Изредка среди этих текстов попадаются записки профессоров научно-методического характера[199]. Присоединенная к протоколам заседаний профессоров переписка конференции и канцелярии обнаруживает конфликты их интересов. Как правило, она возникала в результате стремления чиновников контролировать академическую сферу и защитной реакции на это профессоров[200].
В исследовательской литературе этот сложносоставной комплекс источников именуют «снегиревским собранием». Сейчас он хранится в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и вот уже 150 лет репрезентирует начальную историю Московского университета[201]. Иные известные исследователям источники играют в их текстах комплементарную роль по отношению к протоколам.
Можно предположить, что историографическая ситуация изменится после публикации материалов, собранных Д.Н. Костышиным (в сотрудничестве с Е.Е. Рычаловским) в российских и зарубежных архиво– и книгохранилищах (два тома этого проекта уже увидели свет[202]). Поскольку в 1960–1963 гг. протоколы конференции уже издавались исследователями Московского университета, публикаторы решили не включать их в свое обширное издание. Такое решение вполне объяснимо с коммерческой точки зрения: протокольная коллекция объемна и значительно удорожила бы предприятие[203]. Возможно, в этом решении есть и другой резон: издатели как бы противопоставляют истории Московского университета, версия которой зиждется на преимущественном изложении и цитировании протоколов, новую историю, которая может быть создана на основе анализа выявленных ими документов.
Гипотетическая возможность появления такого нарратива побудила меня задуматься над дискурсивной природой протоколов XVIII в.: над тем, каков был тогда механизм производства и фиксации высказываний, а также над тем, является ли зафиксированная в протоколах версия реальности согласованным корпоративным творчеством или это сумма непреднамеренных разрозненных свидетельств.
На такую постановку проблемы меня подвигли и наблюдения коллег, изучавших университетскую культуру России XIX в.[204] Они выявили глубинную зависимость историографических версий от политики документирования и архивирования исследуемого времени, продемонстрировали разные формы участия создателей и хранителей делопроизводства в создании нарративов университетского прошлого[205].
История интерпретаций протоколов конференции XVIII в. прекрасно иллюстрирует перипетии развития и современное состояние университетских исследований в России. Впервые в качестве источника для большого нарратива университетского прошлого их использовал С.П. Шевырёв в 1855 г. Историк русского языка и литературы анализировал предоставленный ему профессором М.И. Снегиревым[206] комплекс делопроизводственных документов как литературный памятник, который пересказал близко к тексту, оживляя рассказ о славном прошлом просветительского учреждения голосами «старых» профессоров. Поскольку цитаты в «Истории» Шевырёва были объемными, а исследовательская парадигма и принципы обращения с источниками долгое время не менялись, то несколько поколений его последователей легко обходились без обращения к оригиналам протоколов, иллюстрируя свои нарративы фрагментами из юбилейной истории[207].
Вновь «снегиревское собрание» стало объектом анализа лишь спустя столетие после выхода «Истории» Шевырёва. Проявленный к нему интерес был результатом, с одной стороны, реабилитации университетского прошлого, а с другой стороны, развития советского источниковедения. В этом контексте в 1950–1953 гг. появились доклады и статьи о спасенных в годы Отечественной войны 1812 г. и Великой Отечественной войны протоколах[208]. Их автор – сотрудник университетской библиотеки, знаток иностранных языков и истории книжного дела Н.А. Пенчко расшифровала и перевела с латыни, немецкого и французского языков фрагменты протокольных записей и провела тщательную археографическую работу[209]. Выход в 1960–1963 гг. трехтомной публикации протоколов с обширными научными комментариями стал событием для историков.
Это издание предоставило современникам отличный от Шевырёва рассказ об университетском XVIII в. Только, несмотря на кажущуюся объективность и достоверность, эта источниковая версия прошлого не была свободной от дискурсивной организации. Читательское восприятие и прочтение документов запрограммировано научными примечаниями, комментариями, купюрами и даже последовательностью публикации материала. В духе идеологии советского национализма 1950-х годов Пенчко заключила источниковые свидетельства в рамку борьбы русских подвижников науки против союза корыстных профессоров-иностранцев с «сиятельными» крепостниками.
С археографической точки зрения издание не было полным. Во-первых, в целях экономии некоторые латинские тексты заменены переводами. Во-вторых, Пенчко призналась, что поскольку протоколы в основном повторяют содержание протокольных документов, то для публикации порой брались исходные тексты[210]. Такое же решение было принято в отношении всех дублирующих информацию документов. Заметим: это лишает исследователей возможности анализировать нормы университетского делопроизводства XVIII в.
В издании есть указания на неизданные тексты из «снегиревского собрания». Данные из этих текстов потребовались для подготовки комментариев[211]. Но особенно удивительно сейчас звучит следующее заявление Пенчко: «Документы 1761 г. печатаются с некоторыми изъятиями, преимущественно за счет многочисленных ордеров Веселовского, которые не представляют научного интереса (курсив мой. – И.К.)»[212]. Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой стирания фрагментов исторической памяти публикаторами источников, берущими на себя право оценки значимости информации. Исходя из всего этого, я полагаю, что ценная как историографический феномен публикация Н.А. Пенчко вряд ли может заменить для историка аналитическую работу с оригиналами протоколов.
Между тем ситуация в новейшей российской историографии такова, что не только тщательно оберегаемые в ОРКиР оригиналы протоколов, но и вполне доступное их переиздание редко используются исследователями. В XXI в. истории Московского университета XVIII в. продолжают создаваться по лекалам Шевырёва, с его же цитатами и приправой из национально-патриотических аллюзий советского времени[213].
Приведу пример такого воспроизводства. Один из «патриотических» сюжетов, развитый в послевоенной историографии, – о борьбе за чтение лекций отечественными и иностранными профессорами на русском языке (в редкой публикации по истории Московского университета XVIII в. речь не идет о «горячей борьбе Н.Н. Поповского с иностранными профессорами за чтение лекций по философии на русском языке»).
Для его построения на университетском материале исследователи пользовались протокольными свидетельствами. Дело в том, что первые поколения российских студентов были выходцами из весьма разных социальных слоев: дворяне, разночинцы, «поповичи». Из них только дети священнослужителей владели латынью. Для учащихся дворян она была сущей мукой, так как не входила в круг светского образования. В этой связи преподаватели, желавшие удержать студентов первого набора, стремились облегчить их обучение за счет русского языка. Сторонником таких мер был ученик М.В. Ломоносова Николай Поповский (преподаватель-практик академической закалки). На заседании конференции 19 сентября 1758 г. он предложил, «чтоб философия читалась по-русски для нескольких учеников, ездивших в Петербург, и для некоторых других, из коих одни вообще не желают учиться латыни, а другие уже слишком великовозрастны, чтоб быть в состоянии окончить латинский язык к 20 годам (курсив мой. – И.К.); кроме того, они уже сделали успехи в других предметах, которые должны будут оставить из-за латинского языка. Но, как записал секретарь конференции со слов Поповского, чтоб дать им все-таки понятие о философии, г[осподин] Яремский может им ее читать 4 часа в неделю по-русски»[214].
Это предложение Поповского вызвало споры в конференции. Вот аргументация профессоров-иностранцев[215], участвовавших в этом же заседании (именно она обычно цитировалась исследователями для обвинений немецких профессоров в нелюбви к русской культуре и языку): «остальные г[оспода] профессоры, хотя и считают тоже, что это было бы полезно для небольшого числа таких учеников (курсив мой. – И.К.), опасаются, как бы легкость слушания философических лекций на русском языке не привлекла всех других учеников и не отвратила бы их от занятий латинским языком, который есть главная цель учреждения университета и основание всех наук и к которому большинство отнюдь не имеет склонности»[216]. Если данное высказывание контекстуализировать, то из него лишь явствует, что разногласия Поповского и его коллег-иностранцев в данном случае были порождены локальным эпизодом – проблемой отлынивания студентов от изучения трудной для них латыни.
Чтобы избежать таких произвольных интерпретаций и не навязывать протоколам желаемые смыслы, необходимо постоянно иметь в виду специфику российской интеллектуальной ситуации, в которой жил Московский университет, в которой действовала и вела записи своих заседаний его конференция.
К середине XVIII в. в Западной Европе конференции ученых корпораций давно стали частью повседневности[217]. Для России же это было новое учреждение, появившееся в 1725 г. вместе с Санкт-Петербургской академией наук (далее – АН). Прививка новой формы сообщества и управления им проходила с большими трудностями, что демонстрирует история академического университета. Тем не менее к 1755 г. внутри тандема академии и университета выросло целое поколение молодых ученых, знакомых с азами академического быта. Благодаря этому университет в Москве получил возможность использовать два различающихся опыта организации интеллектуальной жизни: приглашенных из Европы профессоров и петербургских ученых. Предполагалось, что отечественный опыт поможет усвоению и адаптации опыта импортированного.
Хотя Московский университет (пока в форме гимназии) открылся весной 1755 г., первое заседание его конференции (или, как ее еще называли, ученого совета или просто совета профессоров) прошло лишь 16 октября 1756 г., после приезда трех первых профессоров[218]. Согласно «Проекту о учреждении Московского университета», который составили М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов, профессора должны были раз в неделю[219] (в присутствии директора) иметь «собирания, в которых советовать и рассуждать о всяких распорядках и учреждениях, касающихся до наук и лучшего оных произвождения»[220]. На основании сохранившихся протоколов можно понять, что куратор, живший в Санкт-Петербурге, рассматривался профессорами как удаленный председатель конференции (и «независимый арбитр»)[221], отслеживающий ее деятельность по присылаемым документам[222].
В полномочия конференции входило руководство учебным процессом. «Проект о учреждении Московского университета» (§ 8) предусматривал утверждение на заседании профессоров учебника (источника) для преподавания каждого курса. Это положение отсылало к западной практике, но в нем имелась корректировка, отражающая российскую специфику: «каждый повинен последовать тому порядку и тем авторам, которые ему профессорским собранием и от кураторов (курсив мой. – И.К.) предписаны будут»[223]. Это дополнение усилило права университетского куратора.
Директор и подчиненные ему асессоры образовывали канцелярию, ведавшую бюджетом, жалованьем преподавателей, закупками книг и инструментов. Она являлась аналогом печально известной своим формализмом и проволочками канцелярии Санкт-Петербургской академии. Впрочем, по замыслу Шувалова, университетский директор был не «только чиновник», он должен был знать «науки» (т. е. учитывать специфику заведения) и выполнять часть функций, которые в западных университетах были у ректора (присутствовать на заседаниях конференции, на экзаменах и вообще «науки учреждать»)[224]. Это должно было защитить университет от бюрократизации. И действительно, подчиненная куратору канцелярия не получила той власти, какая была у канцелярских служащих АН. В этой связи Н.А. Пенчко даже предполагала, что университетской канцелярии как органа управления вообще не существовало[225].
Однако, судя по переписке в протоколах, канцелярия не только была, но и претендовала на монополию в управлении. Она действовала как инструмент контроля в самых разных сферах («для порядочных щетов и экономии», «принять рапорты от г[оспод] инспектора, ректора и пристава»), а также как дисциплинарный орган. Ее асессоры должны были наблюдать за расписанием, поведением и питанием студентов, за чистотой, за лазаретом, «чтоб не случилось пожара». Канцеляристы определяли пространственные координаты жизни учащихся (разделение на классы и уровни, дворян и разночинцев в столовых; устройство учебных помещений и разделение жилья казеннокоштных и своекоштных – в домашнем быту, распределяли учащихся на пансион и в «отборный» ректорский класс). Они структурировали время, деля его на учебное (классное и домашнее) и досуговое (прогулочное, праздничное и каникулярное). Канцелярские служащие (дворяне по происхождению) далеко не всегда считались со спецификой своего ведомства, они активно вмешивались в процесс преподавания и в научные вопросы, что порождало конфликты и противоречия.
В этом отношении история Московского университета может служить прекрасной иллюстрацией к высказыванию Мишеля Фуко: «государственной структуре при всем том, чт.е. у нее обобщенного, абстрактного, даже насильственного, не удавалось бы удерживать таким вот образом, непрерывно и мягко, всех этих индивидов… если бы она не использовала… все возможные мелкие локальные и индивидуальные тактики»[226]. Исследуемое университетское пространство было тем более дисциплинарным, что именно здесь формировались новые для российской культуры навыки поведения образованного человека: начиная от внешнего вида и манер и заканчивая ценностными ориентирами и идеалами[227].
Московский университет, однако, был структурой, не вписывавшейся ни в практику дворянского хозяйствования, ни в систему имперской сословной политики. С момента основания он имел особый правовой статус (и даже в документах именовался «новым местом»). Его документы и проблемы были отнесены к полномочиям Сената, но главной фигурой в нетвердой вертикали власти был «превосходительный господин куратор» (так звучало обращение к нему) – независимый арбитр, имевший право прямой апелляции к императрице.
Административный стиль куратора зависел от его личности и влиятельности при дворе. Образованный и близкий к императрице И.И. Шувалов занимал по отношению к университету позицию покровителя[228]. При этом он действовал в интересах просвещенного государства, а не науки как таковой. Именно этим объясняется его борьба с чиновниками за высокий статус императорского университета[229]. В одном из своих ордеров он рекомендовал университетскому директору подать на коллежских чиновников жалобу прямо в Сенат, обещая такой бумаге сопровождение и поддержку[230]. И хотя сам куратор мог лично конфликтовать с отдельными профессорами[231], он рассматривал такие противоречия как домашние. Плотной опекой он создал благоприятные условия для укрепления социального статуса профессорского сословия, но, похоже, лишил его опыта саморегуляции и отстаивания прав.
Шувалов корректировал недостатки тогдашнего государственного управления университетом личными распоряжениями и личными денежными средствами. Его ордера, направленные директору и канцелярии, выявляют практику такого рода. Эти тексты были типичными канцелярскими бумагами для того времени – деловой слог, в который вплетены фрагменты прямой речи автора[232]. Тем не менее после смерти своей покровительницы, императрицы Елизаветы Петровны, Шувалов был обвинен в небрежении к правилам делопроизводства и заменен В.Е. Адодуровым. Ревизия выявила, что, смешав кассы университета и подведомственной ему Академии художеств[233], доверяя канцеляристам (некоторые векселя оказались «не протестованными»), куратор выдавал деньги «не в силу указов», «без поруки и без закладу».
В своих оправдательных письмах Шувалов писал: «более старание я и прилагал к его [университета] основанию и распространению, нежели к подробному наблюдению канцелярского порядка». Он предложил Сенату либо «списать» обнаруженный дефицит за счет тех средств, которые Шувалов уже передал университету, либо покрыть ущерб его состоянием[234]. В итоге Шувалов был оправдан, так как в ходе расследования выяснилось, что на проекте об учреждении университета императрица написала: «Дополнение штата отдается в волю кураторов», вследствие чего все документы вести «высочайшею доверенностию»[235]. Но для последующих университетских администраторов негативный опыт бескорыстного служения и его уязвимость с точки зрения делопроизводства стали хорошим уроком.
Ретроспективно мы можем сказать, что в этой истории проявился кризис домодерного способа управления, документирования и ведения делопроизводства. Ручное управление профессорским сословием уступало место новым тенденциям в имперском управлении, требовавшим формализации отношений, рационализации всех связей и действий государственного учреждения. И хотя модернизация ассоциируется у исследователей с прогрессом, в памяти современников и в концепциях цитирующих их историков отставка Шувалова стала знаком негативных тенденций в университетской жизни. По свидетельствам мемуаристов, при Адодурове в университете воцарилась тяжелая чиновная атмосфера[236].
Ведение протоколов как административная практика появилось в России XVIII в. в контексте реформы государственного управления. Посредством протоколов документировалась деятельность постоянно действующих коллегиальных органов – коллегий и Санкт-Петербургской академии наук (академические протоколы сохранились за весь XVIII в. и полностью опубликованы)[237]. Они же являлись формой отчетности перед вышестоящими органами, были инструментом дисциплинирования или самодисциплинирования.
Что касается университета, то на него эта практика была распространена не сразу и затем постоянно корректировалась. В 1756 г. прошло 13 заседаний конференции. 14 текстов являются первыми протоколами этих профессорских форумов. Часть из них велась на латыни профессором Ф.Г. Дильтеем. «По содержанию и по внешнему оформлению, – утверждают их издатели, – [они представляли] лаконичный перечень главных пунктов обсуждения, без подписи и без перечисления присутствующих членов»[238].
Как явствует из надписи на заглавном листе книги протоколов за 1756 г., их назначение было в фиксации коллективных решений: «для лучшего учреждения наук обсуждено и с общего согласия». Запись в протоколе 16 октября того же года гласила, что ученым советом «положено решать с общего согласия [общим голосованием] дела, касающиеся до лучшего учреждения наук… и на этом собрании рассуждали о публичных лекциях, которые должен [читать] каждый профессор, сколько часов и дней [в неделю], кроме того, об общих нуждах университета и гимназии, а в заключение постановили, что такие собрания будут происходить два раза в неделю»[239].
Протоколы раннего периода демонстрируют полную зависимость конференции от куратора. Записи Дильтея тех лет являются лишь перечнем пунктов прилагаемого в копии послания конференции к Шувалову («Было утверждено письмо к превосходительному г[осподину] куратору» – с приложением копии письма[240]) или кратким пересказом его ордеров к директору или сотрудникам канцелярии[241]. Протоколы 1757 г. практически не сохранились[242] (их восполняют ордера и «репорты» директора и асессоров за этот период). Но в протоколах 1758 г. заметны перемены: в протокольных текстах появились персональные голоса профессоров. Кроме того, на форме и на содержании стал сказываться накопленный делопроизводственный опыт. Первый секретарь конференции дворянин Б.М. Салтыков[243] стал вести записи на французском языке и делал их более развернутыми и нарративными. Теперь протокол не только фиксировал принятое решение, но и содержал его обоснование.
В 1757 г. директором университета был назначен И.И. Мелиссино[244], с деятельностью которого связаны административные новшества. Запись от 20 июня 1758 г. гласит: «Г[осподин] директор приказал вести на конференции протокол, в котором следует отмечать отсутствующих членов каждого собрания и все, о чем там будут рассуждать и рапортовать его превосходительству»[245]. С этого момента протоколам была придана еще и дисциплинарная функция. В них появились объяснения причин отсутствия профессоров на заседаниях[246], записи, выдающие латентные конфликты с куратором. (Например, одна из записей гласит: «Если только его превосходительство соблаговолит назвать по отдельности тех, кто подразумевается в его обвинении, таковые тотчас же удалятся со всею почтительностью и покорностью, с какой обязаны и всегда будут относиться к его повелениям»[247].)
Благодаря этому протоколы превратились в развернутые синкретичные тексты с включением списков студентов, экзаменующихся и пр. В них уже нет ссылок на приложения. Видимо, протокол интериоризировал информацию подготовительных документов («экстракт» с протокола отсылался в Санкт-Петербург с нарочным). При этом появилась многослойность текста, соединение в нем фрагментов из иных документов. Так, в нарративном по стилю протоколе можно обнаружить куски с личными обращениями напрямую к куратору в виде прямой речи: «Согласно ордерам вашего превосходительства г[осподин] директор намеревался дать по 6 часов в день каждому учителю…»[248]; «Если его превосходительству желательно, чтоб в университете начали печататься периодические листы, то конференция усиленно просит о присылке… сочинений»[249]; «Я прошу ваше превосходительство уведомить меня, вполне ли освобожден г[осподин] Поповский от всех обязанностей, по моим представлениям»[250].
После того как секретарем конференции был назначен учитель Николай Билон[251], протоколы стали более стилистически ровными, а прямая речь в них была переформатирована в косвенную (например: «Так как в 5 часов [уже] темно, то г[осподина] куратора просят подтвердить, что занятия после обеда должны продолжаться только один час…»[252]). С 1765 г. записи заседаний обрели внутренний формуляр: «Постановлено:»; «Рассуждали… решено, что…»; «(готовальни) должны быть закуплены…»; «профессора заявили, что для университета необходимо, чтобы вице-директор послал…»; «было повелено» (устроить диспут); «установлена необходимость» (преподавания этики)[253]. Видимо, усложнение университетской жизни, управления и делопроизводства отразилось на продолжительности заседаний конференции и объеме ее протоколов.
Напомню, что поначалу (с 1759 г.) протоколы велись на французском языке, не визировались и не содержали указания имен заседателей. Кураторов И.И. Шувалова и Ф.П. Веселовского (который в 1760 г. был назначен в помощники Шувалову[254]) устраивала произвольная форма университетской документации. При В.Е. Адодурове конференция стала строго следовать нормам коллежского делопроизводства. Выпускник Академического университета, он, видимо, был хорошо знаком с организацией его управления, воспроизводящего правила делопроизводства коллегий. Воспитанники этого специфического университета стали носителями необычных для ученых корпораций того времени отношений и этики служения. Они воспринимали бюрократизацию академической жизни как должное и сами содействовали этому в своей научно-административной карьере. Примеры тому дает не только управление Московским университетом, но и попечительство над Казанским университетом С.Я. Румовского[255].
Знаток латыни Адодуров, служивший в Санкт-Петербургской академии переводчиком, потребовал вести протоколы на латинском языке. Это требование привело на секретарскую должность доктора юриспруденции и ординарного профессора Карла Генриха Лангера[256]. Секретарь был обязан проверять и визировать протоколы у всех заседателей, указывать дату и даже «часы прибытия и выхода из конференции»[257].
Любопытно, что в те годы профессора стали использовать протоколы в качестве официальных писем, для коллективных обращений к куратору. Причиной тому было игнорирование Адодуровым решений конференции. Отзвуки этих событий отразились в записях. В одной из них высказывалось опасение, что совет профессоров сделается общим посмешищем, «если узнается (чего никак нельзя избежать), что сам председатель конференции, его превосходительство г[осподин] куратор, считает неважным пренебрежительное отношение к приказанию конференции»[258].
Очередной инцидент (1765–1766) возник в связи с необходимостью отстоять честь университета на внешнем уровне как конфликт с книгопродавцем Христианом Людвигом Вевером: он «всю конференцию поносил грубейшими ругательствами…, говоря: “Нахалы в конференции не должны мне ничего приказывать! Они мне не начальство! Пусть они сначала получат чины, а тогда командуют! Плевал я на всю конференцию!”. Возмутившийся профессор Иоганн Фридрих Эразмус потребовал, чтобы его мнение было внесено в протокол. Он смело заявил: “Совещания господ профессоров в конференциях – ни к чему, и они становятся смешны, если господин куратор легко на другой день отменяет то, что постановила конференция”»[259].
Протоколы доносят до нас обрывки и более серьезного инцидента на внешнем уровне, так называемого бунта профессоров в мае 1764 г. Он был вызван массовым «отзыванием» студентов для государственных нужд (30 человек были затребованы в распоряжение Медицинской коллегии). Куратор Адодуров поначалу игнорировал протесты профессоров, подтвердив свое распоряжение в бесцеремонной форме (побывавший у него «офицер донес, что его превосходительством был повторен на словах тот же самый приказ об их отправлении»). Тогда конференция заявила, что из-за куратора не сможет «провести производство в студенты» и подготовить их к государственной службе. Адодуров отступил, и это было обнадеживающим знаком силы коллегиальных действий[260].
Подобные эпизоды, на мой взгляд, важны не только для понимания обстоятельств выработки норм университетского сообщества. Примечательно, что университетские документы (в данном случае протоколы заседаний) стали использоваться как форма фиксации требований. Это подтверждают размышления Мишеля де Серто о повседневных «стратегиях власти» и разнообразии тактик сопротивления им[261]. Их появление в университетской конференции было явным следствием адаптации бюрократического опыта и его использования в корпоративных интересах. Осознание специфики своей деятельности, ответственность и самодостаточность становятся проявлениями автономного мышления профессоров. Они порождали определенный баланс сил, необходимый в условиях слабости университетской автономии.
Итак, можно констатировать: существовавшая в XVIII в. практика ведения университетского делопроизводства породила полидискурсивный источниковый комплекс. Предназначенные для чтения куратора протоколы включали в себя разнородные тексты, были продуктом разных технологий письма – произвольного описания прошедшего заседания, центонных рассуждений, отчетов о проделанной работе. Само предназначение делало его своего рода коллективной репрезентацией, а перформативный характер источника предполагал определенный отбор свидетельств. Некритическое же использование историками этих материалов в итоге обеспечивает воспроизведение в университетских исследованиях коллективной мифологии профессоров XVIII в.
Я надеюсь, что изучение технологий университетского делопроизводства и фронтальное прочтение всего «снегиревского собрания» без купюр в сочетании с изучением иных источников позволят выйти из шевырёвского видения университетского прошлого и отказаться от практики иллюстративного использования документов. Посредством аналитических процедур работы с документальными понятиями мы можем выявить синхронные смыслы и латентные значения исследуемой эпохи, ощутить неспешный ритм и особый эмоциональный строй университетской повседневности, понять психологию московского профессора, распутать сложную паутину его социальных коммуникаций, родственных и научных связей, а заодно убедиться в необходимости жесткой рефлексии над исследовательскими процедурами историка.
А.Е. Иванов, И.П. Кулакова
Ипостаси русского профессора: социальные высказывания рубежа XIX–XX вв.[262]
Большую часть наших представлений о функциях профессоров российских императорских университетов мы черпаем из законодательных актов правительства и отложившегося в архивах делопроизводства. Это тексты, фиксировавшие или регулировавшие поведенческие практики университетского человека в пределах учебного заведения. То, что применительно к XVIII и первой половине XIX в. в большинстве случаев это совпадало с пространством социальной активности профессора, подтвердили появившиеся в печати в конце XIX столетия воспоминания профессоров и студентов. Мемуары же более позднего времени – начала XX в. – убеждают нас в том, что для рубежа веков характерно расширение образовательного пространства за счет кружков и домашних семинаров, а также выход профессоров за пределы учебных аудиторий, кабинетов и лабораторий в публичное пространство политики, предпринимательства и социальной экспертизы. При этом участие профессоров в заседаниях государственной думы и государственного совета, в министерских комиссиях, в коммерческой деятельности, выступления в периодической печати и прочие социальные высказывания не зафиксировались в протоколах университетского совета и не регулировались университетскими уставами.
Для улавливания этих высказываний исследователь должен расставить более широкие сети, используя как послужные списки профессоров, так и «архивы идентичностей» – частные архивы профессоров, которые в годы советской власти образовали альтернативный по отношению к государственным университетским и министерскому архивам фонд. Так исторически сложилось в России, что, например, в отличие от ситуации в Германии профессорские документы не могли быть сданы в государственный архив при жизни и не выкупались университетом после смерти ученого. Только после революции 1917 г. и кардинального изменения архивной политики в нашей стране домашние архивы стали добровольно и принудительно сдаваться в государственные библиотеки и музеи. Со временем они образовали при них сеть отделов рукописей и письменных источников. Эти «архивы идентичностей» позволяют исследователям анализировать инициативные виды социальной активности российских профессоров начала XX в., реконструировать их сложную социальную идентичность.
Престижность интеллектуального труда, порожденная модернизационными процессами в поздней Российской империи, растущие грамотность и сеть государственных школ содействовали увеличению сословия русских профессоров. В 1899 г. их было около 2,5 тысячи человек, а в 1914 г. число профессоров выросло почти вдвое и составило около 4,5 тысячи[263]. Основной их функцией, как и прежде, было воспроизводство себе подобных. И профессора выполняли ее в экстенсивном режиме: в 1913 г. во всех высших учебных заведениях империи училось около 120 тысяч студентов, а с конца ХIХ в. по февраль 1917 г. только в одиннадцати университетах дипломы получили более 150 тысяч человек[264].
В официальном делопроизводстве дооктябрьской России педагогический корпус высшей школы делился на профессоров[265] и младших преподавателей, что отражало не столько специализацию в научно-педагогических функциях, которые нередко мало заметны, сколько различия в номенклатурно-правовом статусе. Первые были администраторами, советниками и организаторами науки (членами ученых советов, заведующими кафедрами, деканами факультетов, членами Академии наук; в 1914 г. профессора составляли 87 % действительных членов Академии наук[266]), вторые – только учителями.
По своему гражданскому статусу профессура, представлявшая различные области и направления фундаментального и прикладного научного знания, относилась к привилегированной части российского чиновничества. По уставу 1884 г. ко времени полной выслуги (25 лет) профессора достигали чинов V–IV (статский генерал) классов. Некоторые поднимались до ранга тайного советника (III класс). Например, по данным на 1898 г., только в Санкт-Петербургском университете служили девять тайных советников. Среди них, в частности, были такие крупные ученые, как А.О. Ковалевский, А.Н. Бекетов, А.Н. Веселовский, В.И. Сергеевич. Возможность такой чиновной карьеры давало либо участие в государственном управлении, либо членство в императорской Академии наук. С 1906 г. стало возможным совмещение того и другого: в составе академической курии университетские профессора заседали в Государственном совете и Государственной думе[267].
Судя по послужным спискам преподавателей 19 высших учебных заведений Министерства народного просвещения[268], в начале XX в. социальный состав профессоров стал более гетерогенным, чем ранее, за счет вливаний из разных категорий дворянства. Примерно треть преподававших в университетах и четверть – в народнохозяйственных институтах были выходцами из потомственно-дворянских семей. Учеными становились потомки именитых и древних дворянских родов, как, например, Б.Н. Чичерин, основоположник «государственной школы» в русской историографии, братья-философы С.Н. и Е.Н. Трубецкие, естественники отец и сын А.Н. и Н.М. Бекетовы, сейсмолог Б.Б. Голицын, физиолог растений К.А. Тимирязев. Подобные примеры редкость, но в отличие от начала века такой выбор жизненного пути для аристократа стал возможен.
В течение всего столетия существования университетов в России столбовое дворянство неохотно направляло своих отпрысков на стезю науки. Взбираться по крутой академической лестнице социального восхождения было существенно труднее, нежели по пологим склонам бюрократической и военной карьеры. Рост ученого не был быстрым и требовал постоянных умственных и физических усилий. Такую карьеру избирали только те из потомков дворянской аристократии, для кого наука и преподавание представлялись единственно возможным способом самореализации.Большинство же представителей потомственного дворянства в профессорско-преподавательской корпорации были сыновьями тех, кто обрел право принадлежать к «первенствующему сословию» не по рождению, а на имперской службе.
В начале нового столетия примерно 50 % состава профессорско-преподавательского корпуса были выходцами из средних и низших слоев российского общества: духовенства, разночинско-чиновничьей среды[269], предпринимательского мира[270], мещан, крестьян, казаков и пр. «Поповичами» были профессор русской истории Московского университета В.О. Ключевский, основатель научной школы по конструированию машин И.А. Вышнеградский, профессор физиологии Санкт-Петербургского университета А.А. Ухтомский, профессор химии А.Е. Фаворский, профессор электротехнического института в Санкт-Петербурге, изобретатель радиотелеграфа А.С. Попов.
Высокий статус профессора «оплачивался» в России беспрецедентной перегрузкой. Если в 1898/99 учебном году на одного преподавателя приходилось 13 студентов, то в 1913/14 – уже 27, а к 1917-му – 34[271]. Правительство явно скупилось на финансирование новых штатных единиц. В начале ХХ в. большинство высших учебных заведений имело штаты и расписание, утвержденные еще в 1880-1890-е годы.
Столь же скупым правительство было и в тратах на подготовку научной смены деятелям профессорско-преподавательского корпуса высшей школы. Многие из так называемых «профессорских стипендиатов», оставленных при университетах для приготовления к профессорскому званию[272], не получали государственного содержания. В 1896 г. таковых было 28 из 91, в 1902 г. – менее половины из 218, в 1915 г. – 111 из 245[273]. Данная ситуация да и размер стипендий побудили профессора Демидовского юридического лицея в Ярославле В.Г. Щеглова заявить: «Научный труд для многих талантливых молодых ученых ныне превратился в научный аскетизм. Посему и университетские кабинеты, и лаборатории значительно опустели, а научная работа в них увяла. Многие способные ученые работники покидают ныне университет, находя себе на других практических поприщах лучшие обеспечение и жизнь. Посему и научные силы России и поныне все еще малочисленны по сравнению со странами Запада»[274]. Данная констатация не утратила своей истинности и в 1917 г.
Хроническое недофинансирование института «профессорских стипендиатов» предопределило низкую пополняемость сословия через процедуру защиты диссертаций. В 1886–1899 гг. диплома магистра удостоились 358 человек, за тот же срок в 1900–1913 гг. – 447[275]. Такой темп прироста был уже недостаточен, чтобы восполнить убыль докторов наук. В начале ХХ в. наблюдается регрессивная динамика: если в 1886–1899 гг. в университетах было защищено 1108 докторских диссертаций, то в 1900–1913 гг. – всего 754[276]. В результате образовывались профессорские вакансии, заполнить которые было некем. В 1900 г. таковых насчитывалось 62, в 1913-м – 123[277].
Дефицит кадров сдерживал развитие отечественной науки и ставил русских ученых – профессоров и преподавателей – перед необходимостью интенсифицировать труд. В том, что это было так, убеждает высокая позиция России в научных рейтингах, в частности, в области промышленной химии. При этом в стране было ученых-химиков в 15 раз меньше, чем в США, в 8 раз меньше, чем в Германии и Великобритании, в 2,5 раза меньше, чем во Франции[278].
В 1909 г. В.И. Вернадский писал о достижениях соотечественников так: «Две расы в последние 25 лет сделали огромный скачок в мировом научном производстве – англосаксонская и русская… То, что было создано русским обществом в литературе, музыке и искусстве, давно уже оценено и понято. Но до сих пор не оценена и не понята огромная творческая работа русских ученых, непрерывно блестяще развивающаяся в течение последнего полустолетия. А между тем по величине и культурному значению она может и должна быть поставлена наравне с другими всем ясными созданиями нашего национального гения»[279].
Ученый имел в виду недооценку «русской научной деятельности» в России. Мировое научное сообщество к началу ХХ в. признавало заслуги российских коллег, особенно в естествознании и технике, развивавшихся, в отличие от гуманитаристики, поверх национально-культурных границ и обусловленных ими научных традиций. «Если мы взглянем на цифры работ русских ученых, – продолжал В.И. Вернадский, – на количество русских имен, мелькающих в мировой хронике естествознания, мы увидим, как это количество неизменно растет, как все больше и быстрее мелькают родные русские имена в культурной летописи человечества»[280].
Для части профессоров загруженность педагогической работой представлялась «учебной барщиной»: на нее были обречены все исследователи, дабы «только получить право проводить свои ученые работы, чтобы оплатить возможности прославить Россию своими открытиями»[281] (высказывание профессора физики Московского университета П.Н. Лебедева). Однако большинство относились к преподаванию иначе – как к культурной миссии профессора.
Профессор был публичным человеком и постоянно находился под наблюдением своих слушателей. Об этом свидетельствуют мемуары студентов 1880-1900-х годов. Прочитанные как единый текст, они передают неоднозначное отношение учеников к учителям. Каждому из тех, кто запечатлелся в памяти слушателей, воздается по заслугам: одним – благодарностью и даже восхищенным поклонением за выдающуюся ученость, высокое педагогическое мастерство; другим – неприязнью за бездарность, нерадение к своим обязанностям. В исследуемое время к этой обычной мемуарной практике добавился еще один аспект. Начало ХХ в. в России отмечено студенческими обструкциями профессорам по политическим мотивам.
Преподавательская деятельность воплощалась в формах общения со слушателями – аудиторных занятиях и домашних беседах. Инициаторы неформального общения и внеаудиторных занятий становились объектами особенной признательности мемуаристов[282]. В учебной рутине запоминались те профессора, которые обладали незаурядным лекторским мастерством.
Возьмем, к примеру, воспоминание московского универсанта второй половины 80-х годов ХIX в. Б.А. Щетинина о виртуозном лекторском даре известного ученого-правоведа Н.А. Зверева: «По изяществу и красоте стиля каждая лекция этого талантливого профессора была настоящим chef d’oeuvre’oм. Что-то классическое, античное чувствовалось в красоте его речи, местами доходившей до высокого поэтического подъема: она то разгоралась бурным пламенем, то звучала грустной и тихой мелодией, нежно лаская слух. В художественных характеристиках Н.А. Зверева каждый исторический образ, выхваченный им из глубины веков, вставал перед нами как дивное классическое изваяние, которым можно любоваться с восторгом. Все эти Анаксимандры и Пифагоры ярко запечатлевались в воображении, по мере того как искусный лектор-художник уверенно и смело набрасывал их великолепные рисунки, и уже не скоро изглаживались из памяти»[283].
И еще один колоритный пример блестящего лекторства – профессора философии Киевского университета А.Н. Гилярова из воспоминаний П.П. Блонского: «А.Н. Гиляров напоминал Сократа. Стоя у доски и несколько цедя сквозь зубы, он как бы вслух вдумывался в мысль излагаемого философа, с сократовской иронией относился к его противоречиям, односторонностям и прямым нелепостям. При этом он говорил просто, но прекрасным слогом, без лишних слов. Каждая его фраза на лекции, как и в книгах, была обдуманна и по содержанию, и по слогу»[284].
Но даже в когорте таких академических звезд недосягаемое место занимали те профессора, кого можно отнести к научно-педагогическим небожителям, обладавшим необыкновенным общественно-культурным магнетизмом, притяжение которого испытывали широчайшие круги учащейся молодежи. Такой живой легендой Московского университета был профессор В.О. Ключевский. «Поистине гениальный профессор», – напишет о нем в своих воспоминаниях московский универсант 1884–1890 гг. А.А. Кизеветтер. В Ключевском-лекторе органически сочетались «качества, которые студенты желали бы видеть в каждом из своих преподавателей» – «глубокий ученый, тонкий художник слова и вдохновенный лектор-артист»[285].
Лекции В.О. Ключевского слушали не только историки-филологи, на них стремились побывать едва ли ни все московские универсанты. Ставший в 1901 г. студентом юридического факультета М.В. Вишняк вспоминал: «На лекцию его валом валили студенты всех факультетов. Задолго до начала огромная аудитория была заполнена до отказа. Теснились у стен и в проходах, устраивались на выступах окон и на ступеньках кафедры…Это была в сущности не лекция, не анализ того, что было в прошлом России, а репродукция прошлого в образах, в тщательно подобранной словесной ткани, в нарочитой интонации действующих исторических персонажей. Отдельная лекция, конечно, не могла дать знание. Но она вызывала не менее ценные эмоции художественного порядка»[286].
Не всегда, однако, для того чтобы привлечь внимание студентов, надо было обладать совершенным ораторским искусством в общепринятом значении. «Тихое, спокойное, лишенное хлестких фраз выступление, иногда с выраженными дефектами речи (В.О. Ключевский, Ф.Е. Корш), зачастую оказывало на аудиторию более сильное воздействие, нежели исполненная пафоса речь»[287].
Имела значение и репутация лектора как человека, своей жизненной стратегией подтверждавшего свои взгляды. На юридическом факультете Московского университета «множество посторонней публики» проникало на лекции А.И. Чупрова (политэкономия) и М.М. Ковалевского (государственное право) – ведь эти профессора являли собой уникальный пример эмансипации интеллектуалов от власти и жизненной самореализации. Медиков, филологов, математиков, естественников, «почтенного возраста вольнослушателей» в огромный актовый зал набивалось так много, что самим юристам приходилось спозаранку занимать удобные в первых рядах места и, чтобы не потерять их, в ожидании своих кумиров прослушивать все предшествовавшие лекции. И тот и другой делали юридический факультет Московского университета популярнейшим у интеллигентной молодежи (и это при том, что здесь работало целое созвездие профессоров-правоведов).
А.И. Чупров обладал всеми качествами, необходимыми для формального лидерства в профессорской среде: выдающимися интеллектуальными способностями в сочетании с такими же качествами души и сердца. Слава Чупрова была огромна: «К нему прислушивались, как к какому-то оракулу… Блестящий оратор, всесторонне образованный, человек стойких и независимых убеждений, искренний, гуманный, прогрессист в лучшем смысле этого слова… Каждая лекция его будила мысль, вызывала оживленные, горячие споры, иногда целые дебаты, и мы все чувствовали, как у нас пробуждался серьезный интерес к науке»[288]. (К сожалению, осенью 1899 г. Чупров прекратил преподавание и выехал за границу для лечения, откуда уже при жизни не возвращался.)
М.М. Ковалевский обладал колоссальной научной эрудицией, «цитатами так и сыпал, то и дело уснащая свою речь разными меткими, великолепными метафорами и необыкновенно удачными сравнениями…неожиданно отвлекшись от своей темы, он делал экскурсию во власть современной русской действительности»[289]. Лекции М.М. Ковалевского о конституционном строе западноевропейских стран были также развернуты на современные проблемы. «Я привык думать, что моя кафедра была учреждена… для того, чтобы готовить россиян к конституции, и я добросовестно исполнял принятое на себя обязательство»[290], – так он характеризовал ситуацию своего увольнения из университета «за убеждения», после чего несколько лет преподавал в крупнейших университетах Европы.
Мемуаристы обессмертили тех профессоров, кто доверился и впустил студентов в свой домашний мир. Благодаря этому известно, что, например, заседания семинара П.Г. Виноградова нередко проходили у него на квартире. Он охотно и во всякое время принимал студентов у себя дома, любезно позволял им пользоваться своей библиотекой. Бывшие студенты вспоминали, что профессор А.А. Остроумов, человек довольно замкнутый, «обладал замечательными способностями учителя-друга, объединявшего вокруг себя учеников»[291]. И профессор-химик М.И. Коновалов каждую субботу собирал у себя дома молодых ученых и студентов, благодаря чему субботние вечера были для многих «и школой науки, и школой жизни, и школой лучшего отдыха»[292].
Многим мемуаристам запомнилось их участие в «дальних экскурсиях» по России и за рубеж. У истоков экскурсионного метода преподавания стояли профессора Санкт-Петербургского университета историк С.Ф. Платонов и И.А. Шляпкин (читавший курс истории русской литературы). Они совместно осуществили первые опыты научно-исторических поездок в Новгород, Псков, Нарву, Москву со слушательницами Санкт-Петербургских высших женских курсов, где они также преподавали. В начале ХХ в. научно-практические экскурсии по России стали рутинным элементом учебно-педагогического арсенала не только университетских, но и профессоров народнохозяйственных – инженерно-промышленных и аграрных – институтов.
Менее распространенными были заграничные студенческие экскурсии. Они были дорогостоящими и чрезвычайно сложными в организационно-хозяйственном смысле. Зато они стали объектами широкого внимания академической общественности и столичной прессы и о них всегда упоминали в мемуарах участники. Их история началась в 1903 г. с экскурсии в Грецию членов возглавляемого профессором философии С.Н. Трубецким Историко-филологического общества при Московском университете. Всего в ней участвовало 139 человек.
В мемуарах можно обнаружить описания экскурсий 1907 и 1912 гг. в Италию, организованных профессором всеобщей истории Санкт-Петербургского университета И.М. Гревсом. Такие поездки готовились как экспедиции, в них приглашались специалисты по итальянскому средневековью: искусствоведы – профессор Д.Н. Айналов и приват-доцент М.А. Полиектов, знаток Ватиканского архива эпохи Возрождения В.А. Головань, специалист по раннехристианскому и византийскому искусству А.И. Анисимов, урбанист средневековой Италии Н.П. Оттокар. В путешествие бралась даже научно-справочная библиотека. Тщательно продумывались маршруты и способы их преодоления (пеший ход, в экипажах, по железной дороге), заблаговременно заказывались гостиницы, разрабатывался распорядок каждого дня, принципы самоуправления.
Формой внеучебного научно-творческого общения профессоров со студентами в начале ХХ в. стали научные кружки. Они объединяли далеко не всех учащихся, а наиболее даровитых, любознательных и пытливых, открывая им путь к личному общению с теми из преподавателей, лекции и семинары которых представлялись им наиболее увлекательными. Для профессоров кружковая работа со студентами нередко обретала не просто просветительско-педагогический смысл, а и научно-исследовательский, например, в случае с кружком философии права при Петербургском университете. Для его руководителя – профессора-правоведа Л.И. Петражицкого – кружок был необходим в качестве экспериментальной лаборатории для коллегиального и «деятельного обмена мыслей, самостоятельной разработки поставленных проблем»[293].
В целом самоуправляющиеся институции, каковыми являлись студенческие научные общества и кружки, будучи относительно автономной по отношению к учебному процессу школой научной самодеятельности, расширили пределы научно-творческого и идейного влияния профессоров на учащихся.
Современники и вслед за ними исследователи российских университетов признавали государственный характер жизни русского профессора: «вся научная творческая работа в течение всего XVIII и почти вся в XIX в., – писал В.И. Вернадский, – была связана прямо или косвенно с государственной организацией: она или вызывалась сознательно государственными потребностями, или находила себе место, неожиданно для правительства и нередко вопреки его желанию, в создаваемых им или поддерживаемых им для других целей предприятиях, организациях, профессиях»[294].
Императорские университеты готовили юристов, преподавателей средней школы и врачей, поступавших в основном на государственную службу, пополняя дипломированными специалистами слой чиновников-исполнителей административных функций, распределяли их по ведомствам народного просвещения и внутренних дел. Вместе с тем после реформ городского и земского самоуправления в конце XIX в. немалая часть дипломированных универсантов поступала на службу в земства и органы городского самоуправления.
В это время стала стираться жесткая грань между чиновниками и университетскими служащими, которая так четко заметна в источниках первой половины XIX в. Профессора стали назначаться на ответственные посты в государственной машине. Так, с конца 1870-х и по начало 1890-х годов пост министра финансов поочередно занимали профессор политэкономии Киевского университета Н.Х. Бунге и профессор механики Санкт-Петербургского технологического института И.А. Вышнеградский. Первый к тому же в 1887–1895 гг. председательствовал в Комитете министров. Министрами просвещения становились профессора: правовед Н.П. Боголепов (1898–1901), филолог-классик Г.Э. Зенгер (1903–1905), правовед Л.А. Кассо (1910–1914). Фабричную инспекцию, учрежденную в 1882 г., возглавил профессор-политэконом И.И. Янжул, автор исследования «Основные начала финансовой политики. Учение о государственных доходах» (1893). И.Х. Озеров был членом Государственного совета от Академии наук и университетов России (1909–1917), а также участником многочисленных официальных комиссий. Он критиковал министерство за недостаточно активную финансовую политику, призывая к более энергичному бюджетному воздействию на развитие производительных сил страны, хотя бы и за счет внешних займов[295].
Правительство привлекало профессоров для экспертизы и аналитической работы во временные и постоянные комитеты и комиссии. Так, начальник Департамента полиции Министерства внутренних дел С.В. Зубатов приглашал в качестве экспертов по «рабочему вопросу» профессоров-экономистов И.Х. Озерова, В.Э. Дена и А.Э. Вормса[296]. Фундаментальные публикации по железнодорожной проблематике выдвинули профессора А.И. Чупрова в число авторитетных экспертов. Он был приглашен к участию в комиссии графа Э.Т. Баранова по исследованию железнодорожного дела в России и к разработке «Общего устава российских железных дорог». Позднее Чупров сотрудничал и в комиссии В.К. Плеве по исследованию причин падения цен на сельскохозяйственные продукты[297]. Подобных примеров обнаруживается в архивах профессоров довольно много.
Развитие исследований в университетах шло в направлении не только фундаментальной науки, но и вполне прикладной. Напомним о вкладе в практику таких профессоров-естествоиспытателей и медиков, как К.А. Тимирязев, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, Г.А. Захарьин и др. Трудами П.А. Костычева, В.В. Докучаева и их последователей в России к началу ХХ в. было создано научное почвоведение, универсальное для всех почв, а значит, для всех стран (правда, при недостаточном внимании правительства к внедрению этих открытий)[298].
Разработка прикладных тем позволяла проводить ревизию теоретических посылок, и она же втягивала профессоров в сферу капиталистического производства. Ученые становились экспертами и советниками на предприятиях, создателями проектов модернизации, что помимо интеллектуального удовлетворения обеспечивало профессору финансовое благополучие.
Д.И. Менделеев оказал неоценимые услуги нефтяной промышленности и промышленному развитию России в целом не только научной экспертизой, но обеспечением ее новыми ресурсами. Накануне Первой мировой войны империя стала крупнейшим в мире производителем и экспортером нефти, причем экспортировалась не сырая нефть, а только продукты ее переработки.
Возможность зарабатывать наукой, практически применять свои экспертные знания и быть финансово успешным гарантировали российскому профессору желанную стабильность и независимость от государства. Среди членов университетского сословия даже появились так называемые «профессора-дельцы»[299], непосредственно участвовавшие в выгодах капиталистического предпринимательства. Вот данные по Московскому университету: профессора терапии Г.А. Захарьин и политэкономии А.И. Чупров являлись держателями акций Рязанской железной дороги; директором Купеческого банка являлся профессор политэкономии И.К. Бабст; в состав учредителей Московского промышленного банка входили профессор минералогии и геодезии Г.Е. Шуровский и профессор зоологии А.П. Богданов; коммерческой деятельностью занимались профессора политэкономии И.И. Янжул, И.Х. Озеров, М.Я. Герценштейн, И.М. Гольдштейн[300]. Читая лекции в Московском и Санкт-Петербургском университетах и других учебных заведениях, Озеров был председателем совета Центрального банка Общества взаимного кредита, членом правления Русско-Азиатского банка, акционерного общества «Лензолото». Профессор Санкт-Петербургского института путей сообщения, известный мостостроитель М.А. Белелюбский принимал активное участие в работе промышленных «Временных совещаний», затем Съездов русских техников и заводчиков по цементному, бетонному и железобетонному делу в качестве вице-председателя, а потом председателя их бюро.