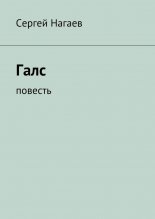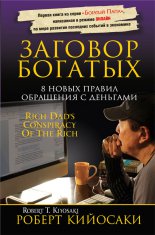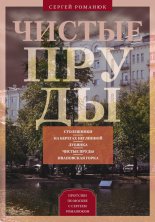Рядовой Рекс (сборник) Сопельняк Борис
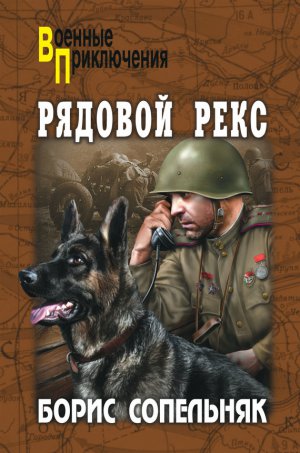
Виктор видел эти взрывы, видел перебегающих от воронки к воронке саперов, видел и тех, кто больше не мог встать. Но вот пришел и его черед. Метрах в тридцати правее, подминая кровавое месиво, катился «тигр». Но спешить нельзя, надо лежать, иначе тут же срежут из пулемета. Взрыв! Сноп огня и земли взметнулся перед самой мордой «тигра»! Тот остановился, будто отряхиваясь, покрутил башней и пошел прямо на Громова.
— Ну вот. Мой, — отметил Виктор. — Или я — его.
Подрагивали ноги. Першило в горле. Хотелось откашляться. Но Виктор терпел, боясь спугнуть зверя. Осталось пятнадцать метров… десять…
«До чего же, гад, вонючий!» — успел подумать Виктор.
Он подтянул ноги, чуть приподнялся и уперся руками в землю. Со стороны выглядело так, будто парень вот-вот стартует на стометровку. Но это был совсем другой старт. И в тот самый миг, когда ставшая вдруг черной махина заслонила все небо, когда от ревущего зверя не было спасения, но его клыки — пулеметы не могли достать, Виктор прыгнул навстречу, сунул мину под гусеницы и кубарем скатился в воронку. Взрыва Громов уже не слышал…
XII
Пятый день громыхала битва, которой суждено было стать величайшей в истории Второй мировой войны. Фашисты бросали в бой все новые и новые силы, они старались во что бы то ни стало добиться решающего успеха. Наша оборона вминалась, вдавливалась, от этого становилась еще плотнее — и фашистские дивизии одна за другой переставали существовать.
Полковник Сажин, от дивизии которого осталось меньше полка, давно понял замысел командования и перестал просить подкрепления: измотать противника, втянуть в сражение все его резервы, сохранив при этом свои, перейти в решительное наступление. Но для этого нужно знать, что у врага нет ни одного свежего взвода! А как это узнать?
— Эх, Громова нет, — сокрушался комдив. — Правильно он говорил: разведчиков надо беречь. Но ведь и танки кто-то должен был остановить. Всех саперов и разведчиков представлю к орденам, а Громов достоин звания Героя. Жаль, что посмертно. А куда девать собаку? Передать Орешниковой — сразу поймет, что Громова нет. Сказать, будто он на задании, — не поверит, без Рекса в разведку он не ходит. Нет, ее надо держать в неведении. Закончится вся эта карусель, исхитрюсь отправить Машу в тыл. А как ей жить дальше? Жаль девчонку, честное слово, жаль. Но сын у Громова должен быть. Должен! Иначе что же это такое получается?! Прожил человек всего ничего, воевал — дай бог каждому, геройски погиб — и чтоб он не имел права хоть на кроху счастья?! Жизнь должна оставлять после себя жизнь! Не-ет, уж кто-кто, а парнишка Громова имеет право на жизнь. И собака эта, будь она неладна, пригодится. Рекс, ну съешь что-нибудь. Тушенка вот американская, сгущенка… Сдохнешь ведь. Ну нет хозяина, нет. На задании он. Вру, конечно, беспардонно вру, но что делать? Жить-то ведь надо.
Рекс лежал в углу блиндажа. Запавшие бока, заострившаяся морда, свалявшаяся шерсть, обвисший хвост — все говорило о том, что собака больна. И Рекс действительно был болен: он тосковал по хозяину. Рекс не мог ни есть, ни пить, ни спать — он напряженно смотрел в дверной проем, боясь пропустить появление хозяина. Он придет, Рекс чувствовал, что он придет, главное — не проспать его появления. Все желания, вся жизнь Рекса сводились только к этому. А ко всему остальному он стал настолько безразличен, что позволял себя гладить, трепать уши, а то и отталкивать, если оказывался на чьем-нибудь пути.
Все это увидел вернувшийся из безрезультатного поиска Седых. Бравый старшина был прекрасным исполнителем, слыл трудягой, а в разведке такие люди нужны, но придумать что-то хитрое, сбивающее фрицев с толку, расставить силки, в которые сам собой попался бы «язык», Седых не мог. Старшина понимал это и лишь виновато моргал белесыми ресницами, когда его распекал комдив.
— Пять дней без «языка», — уже не гремел, а вздыхал полковник Сажин. — Как воевать? Нет, ты мне скажи, как воевать? Пленных полно, но все они с передовой. А мне нужно знать, что делается в их тылах! — вдруг чисто по-громовски врезал он кулаком по земляной стене. Но сделал это неумело, отшиб пальцы и, поморщившись, слизнул кровь со ссадины. Потом безнадежно махнул рукой и спросил: — Слушай, старшина, а тебя-то Рекс признает?
— Знать — знает. Но признает только капитана Громова и, вы уж меня не выдавайте, — виновато моргнул Седых, — младшего сержанта Орешникову.
— Тоже мне, тайну открыл, — усмехнулся Сажин. — Жену Громова вся дивизия знает. Да-да, жену! — с нажимом повторил полковник. — Поэтому слушай приказ: отвести Рекса в медсанбат и передать Маше. Будет спрашивать, в чем дело, объясни, что капитан Громов в длительном поиске, пошел, мол, по тылам противника. И вообще! — повысил он голос. — Пока не получили официального извещения, пока сами не предали боевого товарища вот этой земле, — топнул он ногой, — приказываю командира разведки считать без вести пропавшим!
— Так точно, без вести пропавшим! — подхватил Седых.
— То-то! Мало ли что видели саперы: бросился с миной под гусеницы «тигра». Может, отшвырнуло взрывной волной или что-нибудь еще… На войне не такое бывает. Но Орешниковой об этом ни гугу!
— Есть, ни гугу, — козырнул Седых. — Прошу прощения, товарищ полковник, вы прямо надежду дали. Может, и правда, лежит где-нибудь наш капитан и ждет. А что, если пошуровать в том месте по воронкам да канавам?
— Уже шуровали. Без тебя догадались. Но сначала там шуровали немцы.
— Не может быть! Нет, в плен наш капитан не сдастся! Вы что?! Да он! Да как вы могли такое подумать?! — налился краской Седых.
— Помолчи, не кипятись. Разве я об этом? Я только говорю, что тот участок пять часов был у фрицев. Могли они собрать контуженых и раненых?
— Не могли. Не до того было. Наша артиллерия вела такой огонь, что им не высунуться.
— Верно говоришь. Ладно, что-нибудь придумаем. А пока затишье, бери собаку и веди в медсанбат.
Седых потрепал вялые уши Рекса, предложил кусок сахару, но тот даже не посмотрел на него. А когда старшина взял его за поводок и куда-то повел, Рекс послушно поплелся следом. Как-то сразу дали себя знать все раны, и Рекс с трудом волочился, припадая на перебитые лапы, а из глотки вместо ровного дыхания вырывался мерзкий сип. Но Рекс шел. Ему было все равно куда и зачем идти. К тому же он чувствовал, что хозяин в этом блиндаже не появится. А раз так, какая разница — лежать, сидеть или тащиться по развороченной земле.
Первым увидел Рекса доктор Васильев. Он стоял в заляпанном кровью халате и деловито сортировал раненых: на стол, на перевязку, в тыл…
— Вот, — козырнул Седых. — Полковник Сажин приказал передать младшему сержанту Орешниковой.
Васильев взглянул на Рекса и опустился на пенек.
— Неужели? Где? Когда?! Не может быть!
— Прорвались танки. Комдив приказал взять саперов и остановить. Наши ребята тоже пошли, но капитан уговорил часть разведчиков оставить. Из саперов кое-кто уцелел, а наши не вернулись. Я тоже должен был быть там. Там, а не здесь! — вдруг заплакал Седых. — Ну почему он меня не взял? Почему я жив? Как жить? Как людям в глаза смотреть? Век себе не прощу. Эх, товарищ капитан, какой это был командир! За таким хоть в огонь, хоть… Не взял он меня в огонь, не взял. А как мы слушали соловьев!..
Слезы катились из закрытых глаз старшины. Он понимал, что так нельзя, но никак не мог с собой совладать. Васильев достал какой-то флакончик, заставил старшину отхлебнуть — и тот успокоился.
Потрясенный Васильев не мог сказать ни слова. Уж кто-кто, а он, каждый день имеющий дело со смертью, мог бы привыкнуть к тому, что на войне бывают не только раненые, но и убитые. Но Виктор? При чем тут его лучший друг Виктор Громов? Чтобы такой лихой парень позволил догнать себя какой-то дрянной пуле? Да и что ему пуля, он совладает и с пулей! Наконец, в нем проснулся врач.
— Стоп! Спокойно. Хоть что-нибудь от него осталось? Где схоронили?
— То-то и оно, что ничего не нашли. Саперы сказали, взрыв был чуть не до небес.
— Так. Понятно. Маше ни слова. Впрочем, я сам. Давайте Рекса. Можете быть свободны. Нет! Стойте! И слушайте! Слушайте меня, старшина Седых!
Васильев приблизил сузившиеся глаза к самым ресницам старшины и шипяще процедил:
— Отомстить надо! Слышите, старшина? Так отомстить, чтоб их берлинским матерям сто лет не выплакать слез! Бить их, гадов. Бить, топтать и жечь, пока последний ублюдок со свастикой не будет закопан в этой земле!
— Хрен им, а не нашу землю! — взъярился и Седых. — Вытащить. Вытащить всех до единого, чтоб не оскверняли русскую землю. И пусть их закапывает фюрер на своей главной площади. Чтоб видели ихние потомки и зареклись ходить в наши края! А за командира отомстим. Слово! Все, ухожу из разведки. Надоело таскать целеньких фрицев. Теперь буду убивать! Ну и накрошу же я, ну накрошу! Прощайте, товарищ капитан, может, не доведется…
— Прощай, — протянул руку Васильев. — Воюй, как учил командир, с умом!
Маше доктор Васильев решил ничего не говорить. Он взял поводок, отвел Рекса в свой блиндаж, плеснул в миску супа, убедился, что Рекс на еду не реагирует, понимающе покачал головой и ушел в операционную палатку. Там на столе лежали изувеченные крупповской сталью люди. Их дальнейшая судьба была в его руках, и он вкладывал в эти руки всю свою душу, все сердце, чтобы отвоевать у смерти молодые жизни.
Да, поле боя хирурга на операционном столе. Часто он даже не видит лица раненого, не знает ни его имени, ни звания, ни возраста, ни семейного положения. Но хирург сражается своим скальпелем с автоматом, танком или самолетом врага, изувечившими человека. И как часто маленький скальпель Васильева оказывался сильнее «тигров», «пантер», «юнкерсов» и «мессершмиттов»!
Седых вернулся в штаб, доложил комдиву, что задание выполнил, и тут же заявил о своем решении уйти из разведки в любой стрелковый взвод.
— Прошу не отказать, — настойчиво закончил он. — Все равно живым я теперь не донесу ни одного «языка».
Полковник Сажин понял, что неволить старшину не имеет смысла. К тому же в ротах большие потери. Так старшина Седых попал во взвод лейтенанта Ларина и стал его заместителем.
Каких-то семь дней назад Игорь Ларин был чистеньким городским мальчиком, нежданно-негаданно надевшим военную форму. Его прочили в филологи, да и сам он больше всего на свете любил библиотечную тишину. Но когда весь курс, включая девчонок, решил идти на фронт добровольцами, Игорь тоже отправился в военкомат. Он шел и думал: как это прекрасно — быть добровольцем, как мужественно — отказаться от брони, скрыть от врачей, что у него слабые легкие, а потом вернуться домой с повесткой и всю ночь успокаивать плачущую мать. А ранним утром — на поезд и под гром оркестра на фронт.
На самом деле все получилось шиворот-навыворот. Его долго и придирчиво осматривали медики, заставили заполнить множество анкет, долго сетовали, что он изучает французскую литературу, вот если бы немецкую и знал язык. Игорь ничего не понял в этих намеках и пришел в себя в небольшом волжском городке, где в старой школе размещалось пехотное училище.
Как ни странно, курсант Ларин оказался одним из лучших. То ли сказывалась старая привычка: уж коли учиться, то учиться как следует, то ли проявилось его вечное стремление быть первым. В аудиториях и классах это не составляло труда, но в поле… Одному Богу известно, сколько трудов стоило Игорю научиться быстрее всех окапываться, лучше всех стрелять, в рукопашной не звереть, а побеждать умом и четким знанием приемов, терпеть до колик в животе, но лидировать в изнурительных марш-бросках.
Увешанные орденами однорукие и одноногие преподаватели с удовлетворением наблюдали, как из неумехи студента выковывается настоящий офицер. Иной раз, отложив костыль, командир их роты капитан Деревьев брал автомат и показывал совершенно немыслимые приемы стрельбы, а потом не успокаивался до тех пор, пока их не осваивал Ларин. Другой бы возмущался, что, мол, за дополнительные занятия, когда вся рота отдыхает?! Но Игорь понимал, что цена этой науки — жизнь, что на фронте времени на учебу не будет и чем большему он научится здесь, тем больше шансов не только уцелеть, но и хорошо воевать.
А хорошо воевать — стало для него смыслом жизни. Дело в том, что Игорь был отчаянно честолюбив и не считал это недостатком. «Честолюбие — от слова честь, — рассуждал он. — А что может быть дороже чести? Значит, честолюбивый человек никогда и ни за что не уронит и не запятнает своей чести. Раз так, то он будет работать, учиться и воевать лучше всех! Но если он лучше всех делает свое дело, то почему бы и не воздать ему по заслугам? Значит, лауреатами, орденоносцами и вообще героями становятся честолюбивые люди. Раз уж я стал военным, то почему бы не носить в ранце маршальский жезл?! А что, чем черт не шутит! Нет уж, на шутки черта рассчитывать не будем, — оборвал он сам себя. — Делом, только делом и личным примером! И чтобы ни пятнышка на совести! Деревьев прав: командир имеет право на многое, он даже может послать на верную смерть, но трусость или бесчестный поступок — не для командира. Поэтому и нужно в кармашке-пистончике держать заветный патрон. Все это бесспорно, но… если отрывает ногу, пулеметчик убит, рота отступает, а немцы в пятидесяти метрах, не каждый, как Деревьев, может доскакать до пулемета и полчаса крошить фрицев. В такой ситуации ручаться за себя трудно. Один, дабы не попасть в плен, использует заветный патрон, другой же думает не столько о чести, сколько о том, чтобы не сдать высоту. Но ведь не сдать высоту — это и значит быть по-настоящему честолюбивым! Да-да, именно так! И Деревьеву честь воздана. Я уж не говорю об орденах. Заслужить любовь курсантов ох как трудно, а мы его боготворим».
С такими мыслями лейтенант Ларин — единственный из выпуска, остальные имели по одной звездочке, — отправился на фронт. Взвод, который он получил, был укомплектован полностью, но, кроме отделенных, никто толком не обстрелян. Не теряя времени, Ларин начал в самом прямом смысле слова натаскивать солдат: они без конца копали траншеи и ходы сообщения, носили бревна, изучали приемы рукопашного боя, пристреливали оружие. Проводя политбеседы, лейтенант рассказывал о Германии, о том, как и почему к власти пришли фашисты, а потом вместе со всеми по разговорнику изучал немецкий.
В результате Ларин довольно быстро добился, казалось бы, невозможного: весь взвод души не чаял в командире. Даже подворотнички, как и он, стали менять каждый день. Только старички-отделенные ворчали: посмотрим, каков наш лейтенант в бою…
После первой бомбежки взвод Ларина не понес никаких потерь. Целыми оказались убранные с бруствера пулеметы, не забило землей завернутые в плащ-палатки автоматы, не задело осколками бойцов, спрятавшихся в глубокие щели. Когда показались немецкие танки, Ларин приказал:
— Пропустить через себя. Пехоту отсечь. Бить короткими очередями и прицельно.
Но танки до первой траншеи не дошли. Из-за леса ударили «катюши» и накрыли атакующую волну. Немцы отошли, перестроились и навалились на фланг. Там их встретили артиллеристы. Танки бестолково метались по полю, но пехота упорно шла вперед, прямо на взвод лейтенанта Ларина.
«Очень хорошо», — подумал он и крутанул ручку телефона.
— «Трубочист»! — позвал он. — «Трубочист»! На меня наступает до двух батальонов пехоты. Идут в три цепи. Надо согнать в кучу. Прошу огня в их тыл и на фланги.
Через минуту минометная батарея открыла огонь.
— Хорошо, — радовался Ларин. — Очень хорошо. Стадо сбивается в кучу. Пулеметы. Дистанция двести. Огонь!
Что тут началось! Передние падали, на них напирали задние, пытались обойти, но по флангам били минометы.
— Вперед бы! В контратаку! — жарко шептал Седых.
— Спокойно, старшина, спокойно. Побеждать надо малой кровью. А в контратаке неизбежны потери, — ответил ему Ларин.
— Зря, лейтенант! Ей-богу, зря! Врукопашную бы…
— Будет и рукопашная! Все будет!
Ларин оказался прав. За неделю боев его взвод отступал, наступал, снова отступал и в конце концов оказался в той самой траншее, где принял первый бой. К этому времени взвод заметно поредел. Лейтенант Ларин из щеголеватого выпускника училища превратился в обугленного, обожженного, битого и мятого командира взвода с одним погоном, забинтованной головой и… неожиданно отросшими усами.
Ночью пришел приказ пробиться на сахарный завод: его развалины могут стать отличным узлом обороны.
Немцы выбили оттуда наших поздним вечером и потому закрепиться как следует не успели.
— Пополнить боекомплект! — приказал Ларин. — Побольше гранат. Не забудьте бутылки с зажигательной смесью. Да, и воды! На каждого — по три фляжки воды.
Седых побежал выполнять приказание, а Ларин пристроился у «летучей мыши», достал крохотное зеркальце, бритвенный прибор и начал тщательно подбривать усы.
«Интересное кино, — думал он. — Дергал, дергал — не росли, а забыл — и сразу полезли. Сфотографироваться бы и послать матери. Не узнает. «Ах, Игоречек! Что за манеры? Разве юноша, воспитанный на Флобере и Руссо, позволит себе такую дисгармонию?» Эх, муттер моя дорогая, слышу твои возмущенные вопросы, слышу. Но я уже не Игоречек. Я — лейтенант Ларин, я — командир стрелкового взвода. И чтоб ты знала, у твоего сына самая дефицитная должность. Вакансий вагон, а претендентов… Комвзвода погибает первым, вот в чем дело. Он же впереди, и солдат поднимает в атаку он. Зато и уважение соответствующее, и почет. У меня медаль «За отвагу». За неделю боев — медаль. Если так пойдет дальше, быть тебе матерью орденоносца. Все, мать, все! Поговорили — и ладно. Уже зовут. Не волнуйся, небольшая творческая командировка для изучения немецкого языка в непосредственном контакте с баварцами, саксонцами и прочей сволотой. Пардон, сорвалось! Адью, ауфвидерзеен, а точнее, как говорит мой старшина, покедова».
Мысленно поговорив с матерью, Ларин заметно повеселел. Тем временем вернулся Седых и доложил о готовности взвода к атаке.
— Ну вот, старшина, и сбылась ваша мечта, — сказал лейтенант. — Завод будем брать без единого выстрела. Так что предстоит рукопашная.
— Наконец-то! — хлопнул себя по бедрам Седых. — Сколько у меня было этих рукопашных, и все — нежненькие, чтобы ненароком не повредить фрицеву кожу, чтобы речь он, зараза, не потерял.
— Собирайте взвод, проверьте оружие, снаряжение. Пригнать все поплотнее. Не должно быть ни стука, ни звяка.
— Ясное дело, — не по-уставному ответил Седых. — Не первый год в разведке. А у нас — чем тише, тем надежнее.
— Вот-вот. Мы должны фашистам как бы присниться. Но так, чтобы они никогда не проснулись!
Когда бойцы расплывчатыми тенями поплыли к развалинам сахарного завода, Ларин начал самоедствовать: «Балда я, балда! Ну как можно идти на такое дело без саперов?! Одна паршивая мина испортит весь замысел. Взрыв переполошит немцев — и никакой внезапности. А поди-ка достань их в открытом бою: они за кирпичными стенами, а мы в чистом поле. Ну кретин!»
И вдруг что-то непонятное поднялось в душе лейтенанта, отшвырнуло все сомнения и бросило в голову колонны. Он почувствовал такую силу, такую уверенность в том, что сейчас в нем проснулось сверхъестественное чутье и он сможет провести взвод по любому минному полю. Ларин понимал, что в этой ситуации командир не имеет права быть впереди, ведь в случае его гибели сорвется вся операция, но какой-то лукавый черт шептал: «Трусишь, лейтенант? Боишься, ноженьку оторвет? А то и головка — в кусты? Эх ты, а еще о чести рассуждаешь, о совести без пятнышка».
Этот дьявол не раз искушал Ларина. Он был его антиподом, вторым «я», которое жило где-то в тайниках души и все время зудело и ныло, призывая Игоря смириться, выпустить это «я» наружу и жить по его законам, не расходуя понапрасну столько сил и нервов на то, чтобы казаться сильным и цельным. «Не казаться, а быть. Быть! — твердил себе Ларин. — А тебя, черт полосатый, я выжгу. Не знаю, как ты в меня забрался, но рано или поздно из души я тебя выжгу!»
Но пока бог спит, черт, как говорится, не дремлет. Это он заставил Игоря еще в курсантское время за одно лето научиться плавать и перемахнуть Волгу, это в споре с ним Ларин одолевал одну за другой свои слабости и, сам того не замечая, становился мужчиной. Мужчиной с большой буквы.
В каждом из нас есть такой дьявол, каждою он искушает, показывая зазеркальный образ и призывая ему соответствовать. Ведь это так просто и, главное, нехлопотно — смириться со своими пороками и недостатками, потакать им и жить, как живется. Многие, ох многие поддаются этому искусу — и плывут, плывут куда придется.
Но мир держится не на них. Мир держится на тех, кто без конца борется сам с собой — а на свете нет ничего труднее этой битвы, — кто вечно собой недоволен, кто всегда помнит, что душевный покой — удел душевнобольных. Борьба, только беспощадная борьба с дремучим зверем, сидящим в каждом, делает из нас человека.
В том, как иногда полезно доверяться самому себе, Ларин убедился довольно быстро. Его взвод благополучно дошел до развалин, выбил оттуда немцев и занял круговую оборону. Фашисты бросили на завод две роты мотоциклистов. Причем с тыла. Каково же было удивление Ларина, когда мотоциклы стали подрываться один за другим, когда фашистскую пехоту разнесли в клочья собственные мины.
А ведь немцы рассуждали правильно: русские не могли пройти по этому полю, не сняв мин, значит, атаковать можно спокойно.
Автоматчики Ларина, поеживаясь, наблюдали эту жуткую картину и с еще большим уважением поглядывали на командира. А он, девятнадцатилетний лейтенант, основательно испугавшись задним числом, лежал за грудой кирпичей и чуть не плакал, вспоминая безумный бросок по начиненному смертью полю.
XIII
Два дня просидел Рекс в блиндаже доктора Васильева, а потом выбрался наружу. Его покачивало, кидало из стороны в сторону, в глазах — липкий туман. Нюх, правда, остался: запах крови Рекс чувствовал остро. Да и как не чувствовать, если под каждым деревом лежат наскоро перебинтованные, израненные люди. Одни ждали операции, другие — транспорта в тыл, третьи требовали отправить на передовую.
Больше всех возмущался немолодой старшина, чем-то знакомый Рексу. Он бродил от палатки к палатке и то кричал, то что-то клянчил, то грозил.
— Бумажку! — сипел он. — Дайте бумажку — и я уйду. Без бумажки нельзя: скажут, сбежал. А я никогда не бегал. И от фрица не бегал! Не бегал! Уволокли меня. Ваши санитары и уволокли. А мне надо в строй! У меня батарея бесхозная.
Наконец он наткнулся на Васильева.
— Товарищ капитан! — обрадовался он. — Ну вы-то меня знаете. Дайте бумажку, а?
— Зачем бумажку? На папиросу, — протянул доктор пачку «Беломора».
— Да не курю я, — досадливо поморщился старшина. — Бумажку на выписку. Здоровый я! Честное слово.
— Погоди-погоди, где-то я тебя действительно видел.
— У вашего друга капитана Громова. Помните, я щенят приносил, а вы лечили вот этого волкодава?
— Бывшего волкодава, — жалостливо покосился доктор на Рекса.
— И правда. Что это с ним?
— Тоскует. Хозяина, знаешь ли…
— Да ну?! Не может быть!
— Может. Он бросился под танк.
— Ох ты-ы… Тут шансов мало. Но есть. Есть! Его хоть нашли?
— Какое там, — махнул рукой Васильев.
— Эх вы! Надо искать. Не там искали, не там!
— Там. Саперы все видели. Они были рядом. Ладно, чего уж теперь. Ты-то с какой бедой?
— Да не с бедой я! Бумажка нужна. Контузило малость. Сутки пролежал — отпустило.
— Не тошнит? Не мутит? В ушах не звенит?
— У артиллеристов всегда звенит.
— Фамилия, имя, возраст, звание? — спросил Васильев, доставая блокнот.
— Старшина Губин. Иван Захарович. Сорока двух лет. Девятнадцатый артполк.
— Получай, Иван Захарович, справку и дуй к своей пушке. Дырявь их танки! Дырявь, потроши и жги!
— Есть, жечь! — молодцевато козырнул старшина. — А капитана Громова все же поищите. На войне всякое бывает. Я вон читал, один летчик без парашюта с тыщи метров сиганул — и ничего, жив-здоров, опять летает.
И тут появилась Маша. Она прибыла с передовой, сопровождая очередную партию раненых. Оборванная, с ссадиной на лбу и разбитыми коленками, она совсем не походила на ту хорошенькую женщину, какой была неделю назад. С Васильевым она виделась не раз, но все мельком. А тут ее прямо-таки бросило к доктору.
— Товарищ капитан…
— Да ладно тебе, — поморщился Васильев.
— Товарищ капитан Коля, — улыбнулась Маша, — очень рада вас лицезреть.
— Ну и видик у тебя.
— А что, нормальный ведьмоватый видик. На передовой, Коленька, все такие. У нас…
Вдруг Маша вздрогнула и оборвала фразу. Она услышала такой жалобный, такой зовущий и такой безысходный скулеж, что у нее разом похолодело сердце и подкосились ноги. Маша обернулась. Обернулась медленно, уже предчувствуя беду. Под деревом лежал Рекс. Узнать его можно было только по рваному уху и желтоватым глазам, преданно и до жути горестно смотревшим на Машу. Рекс очень хотел броситься к хозяйке, лизнуть ее руки, лицо… Но не держали ноги. У него даже что-то случилось с глоткой, и он не мог толком гавкнуть, чтобы дать о себе знать достойно, по-собачьи.
Маша упала рядом. Плакать она не могла, слез почему-то не было. Она обняла отощавшую, истосковавшуюся собаку и тоненько завыла. Тут уж Рекс совсем зашелся!
Он уткнул морду в небо и издал такой душераздирающий вопль, что к ним с Машей потянулись люди. Они топтались около бьющейся в рыданиях женщины и похоронно воющей собаки, спрашивали, чем помочь, но доктор Васильев, кое-как совладав с собой, говорил, что все в порядке, помощь не нужна и они сами во всем разберутся.
— Маша, Маша, — тронул он ее за плечо, — нельзя так. Нельзя. С чего ты вдруг? Ничего не случилось. Ровным счетом ничего.
— Ничего?! А Рекс? Почему здесь Рекс? Почему он такой?
— Очень просто: Рекс тоскует. Уже несколько дней без хозяина. А Виктор так его воспитал, что еду он ни от кого не берет.
— А что же… хозяин? Почему не покормит сам? — холодея от страха, спросила Маша.
— Будто не знаешь? — старательно бодрясь, продолжал Васильев. — Ушел в разведку. На этот раз надолго. Полковник Сажин приказал пошуровать по тылам. А собаку девать некуда, вот и привели сюда. Рекс ведь никого, кроме тебя, не признает, так что его здоровье, а может, и жизнь, в твоих руках. Во всяком случае, до возвращения Виктора.
— Да? Ты так считаешь? — дала убедить себя Маша. — Такого солдата, как Рекс, надо держать в форме. А то ведь, действительно, вернется Виктор, отоспится, потом опять в разведку, а верный помощник — словно водовозная кляча. Значит, так, — поднялась Маша и отряхнула юбку. — У меня есть полсуток. Ты, Коля, займись моими ранеными, а я — Рексом.
— Хорошо, — улыбнулся Васильев. — Только сначала собой, а потом Рексом.
— Конечно, конечно, — смутилась Маша.
— Можешь занять мой блиндаж. Я там все равно не бываю. Да и Рекс к нему привык.
Два ведра воды — одно для себя, другое для Рекса, две миски супа, банка тушенки, крепкий чай, вычищенная гимнастерка, надраенные сапоги, вычесанная шерсть и раздутое, как барабан, брюхо собаки. Когда Васильев увидел эту картину, у него отлегло от сердца.
«А может, старшина Губин прав? Может, и вправду плохо искали?» — подумал он.
Тем временем старшина Губин торопливо оборудовал огневую позицию. Его 76-миллиметровое орудие стояло метрах в ста левее и чуть впереди всей батареи.
— Мы будем в засаде, — убедил он командира. — Замаскируемся, закопаемся — и молчок. Вы стреляете, а мы молчим. А вот когда танки отвернут и пойдут на нашу высотку, мы врежем прямо поддых!
Все получилось, как он и предполагал. Напоровшись на прицельный огонь батареи и потеряв несколько танков, немцы пошли в обход — прямо на безымянную высотку. Губин улыбался. Правда, со стороны гримаса походила на ехидно-свирепую маску, но все-таки это была улыбка. Сколько раз говорили ему и командиры, и подчиненные, чтобы не ярился, но Губин непонимающе смотрел на товарищей и отвечал: он, мол, нисколько не ярится, а совсем даже наоборот, радуется, что через секунду влепит в лоб танку бронебойный снаряд.
Вот и сейчас наводчик Иванов скосил глаза на старшину и заметил:
— Чему радуетесь? До танков меньше километра.
— Ничего, пусть лезут. Ты, главное, следи за их пушками. Видишь, как бестолково башнями крутят? Значит, нас не обнаружили. А это кой-чего стоит.
— Дуриком идут. На психику давят, — сплюнул Иванов.
— Совсем обнаглели, — поддержал заряжающий Козлов. — Ну, ничего, сейчас мы по ихней спеси врежем! — добавил он, подавая снаряд.
— Мужики, — ни с того ни с сего спросил Губин, — а где наши щенята?
— Вспомнил тоже, — ответил Иванов. — Пока ты кантовался в медсанбате, отдали в хорошие руки.
— Что еще за руки?
— У саперов есть целое собачье подразделение. Дрессируют, а потом выпускают против танков.
— Знаю я эту дрессировку. Целый день не кормят, а вечером ставят миску с похлебкой под танком. Само собой, по бокам у шавки две противотанковые мины. Она ведь под танк пожрать бежит, а вместо этого… Жаль щенят, пропадут.
— Да ладно тебе! — вмешался Козлов. — Будто собака не стоит танка.
— Не стоит! Ничто живое не стоит этой железной подлюги! Все, с этим кончено! Работаем, как и раньше. Первый снаряд — по гусеницам. Танк разворачивается. Второй — в борт. Тут же переносим огонь на соседний. Начнем с крайних, а то, чего доброго, обойдут с флангов. Давай, Козлов, шустри! От тебя зависит скорость стрельбы.
Больше Губин ничего не говорил. Пушка методично изрыгала снаряды. Горят уже два, три, четыре танка! Но на их месте появляются новые и подбираются все ближе. Рвутся снаряды, свистят осколки, смрадный чад повис над высотой, но артиллеристы бьют и бьют по стальной стене. Вот снаряд рикошетом отскочил от «тигра», но танк загорелся.
— Что за чертовщина? — удивился Губин.
Танк как на ладони. Снаряд чиркнул по лобовой броне, а густой дым валит сзади. И экипаж не выскакивает. Больше того, башня медленно поворачивается в сторону пушки Губина.
— Эге, хитришь, фашист! — обрадовался старшина. — Сбили спесь-то, сбили! Поджег на корме дымовую шашку и думаешь, что избавился от путевки в рай? Нет, гад, не на тех напал. Снаряд!
Два выстрела раздались одновременно. Теперь уже по-настоящему вспыхнул «тигр», но и его снаряд разорвался у самого орудия. Упал Иванов. Губин стал на его место.
— Снаряд! — прохрипел он. — Снаряд!
Но снаряда не было. Оглянулся. От расчета осталось двое — он да ефрейтор Козлов.
— Сейчас, — простонал Козлов. — Момент…
Козлов полз. Полз на боку, прижимая к груди снаряд.
Снаряд был красным от крови. Губин бросился к товарищу, на ходу доставая индивидуальный пакет.
— Стреляй! — процедил Козлов и пополз за следующим снарядом.
Теперь орудие Губина посылало по танкам окровавленные снаряды. А потом Козлов не поднялся. Упал рядом и Губин. Орудие замолчало. Давно молчала и вся батарея. Теперь немцы без опаски двинулись вперед. Здесь их встретили танкисты капитана Маралова.
— Ну, что, славяне, будем делать? — спросил он командиров взводов и рот. — Я сосчитал: пятьдесят «коробочек». Было больше. Спасибо артиллеристам, кое-что подчистили.
— Двадцать пять «тридцатьчетверок» — тоже не фунт изюма, — заметил молодой командир взвода.
— Верно, лейтенант, не фунт, а пуд. И не изюма, а кумулятивных снарядов. Все, братцы, времени в обрез. Митинг заканчиваем. Слушайте приказ. Первая рота: все десять танков спрятать в лощине левее подбитого «тигра». Вторая. Сколько у тебя, семь? Занимаешь позицию перед лощиной. Задача: вызвать огонь на себя, а потом — врассыпную и полным ходом за обратный скат высоты с подбитым «тигром». Я пойду с вами. Третья рота как будто не существует. Стоять здесь и ждать сигнала. Рано или поздно немцы подставят вам корму. Тогда и атакуйте, стремительно, дерзко. По местам!
Когда восемь «тридцатьчетверок» открыли редкий огонь, немцы сначала не обратили внимания на эту стрельбу. Но когда одна за другой загорелись пять «пантер», лавина развернулась и двинулась на «тридцатьчетверки». Этого-то и ждал Маралов. Полным ходом все восемь танков рванулись к высотке и скрылись за ее обратным скатом. Немцы даже не стали их преследовать и шли прежним курсом. Тут-то и показались из лощины башни десяти танков первой роты. Расстояние было не больше пятисот метров, к тому же «тридцатьчетверки» били кумулятивными снарядами. Бронированная лавина притормозила, затопталась на месте, стала разворачиваться, подставляя борта выскочившей из-за высотки второй роте. Но немцы быстро перестроились и устремились на вторую роту. Та не стала отступать. Почувствовав легкую добычу, фашисты бросили все свои танки на высотку. Тогда вторая рота попятилась. Немцы прибавили ходу. Но именно в этот момент с тыла ударила третья рота, а из лощины прямо во фланг — первая.
На поле творилось невообразимое: стреляли в упор метров с двадцати. Кончались снаряды — шли на таран. В азарте боя не замечали ни ожогов, ни ран. Выскакивали из подбитых танков, садились в целые, иногда даже в немецкие — и снова бросались в бой.
От батальона капитана Маралова осталось всего три танка, но свою задачу он выполнил: ни один «тигр», ни одна «пантера» не пробились через рубеж его обороны. Если бы знали танкисты, что этот бой был последним в оборонительном этапе Курской битвы! Глядя на колонну новеньких «тридцатьчетверок», идущих через их позиции, танкисты Маралова радовались подошедшему подкреплению, но им и в голову не могло прийти, что через несколько дней эти танки будут штурмовать Орел.
А капитан Маралов лежал на той самой высотке с подбитым «тигром» и, покусывая травинку, прикидывал, сколько лет будут работать уральские мартены на крупповской стали, превращенной в металлолом.
— Ну что, славяне, — говорил он уцелевшим танкистам, — наше дело правое, мы победили. Не грех бы по этому поводу, а?…
— Не грех, — подхватили чуть живые от усталости танкисты.
— Валяйте сюда, под «тигра», а то жарковато, — позвал Маралов. — Пока не подвезут солярку, боекомплект и ордена, все равно с места не двинемся. Неплохо здесь, неплохо, — осматривался он. — Прямо хоть бомбежку пережидай. Сверху броня, внизу глубокая воронка. Красота! Давайте-ка, братцы, у кого что есть, сольем в одну фляжку. Помянем товарищей. И отомстим!
Маралов сделал обжигающий глоток и передал фляжку дальше. Он видел, как танкисты понемногу оттаивали, вспоминали отдельные эпизоды боя, кто-то даже достал губную гармошку и заиграл «Катюшу». А капитан Маралов в который раз оглядывал усеянное сгоревшими танками поле, но теперь он отыскивал свои «тридцатьчетверки». Вон — с оторванной башней, чуть дальше — каким-то чудом подпрыгнула и оказалась на «тигре»: явно шла на таран. Правее — вообще оплавленная груда металла.
«Вот вызовет меня командир полка, — с грустью думал Маралов, — и скажет: «Плохо воюете, товарищ Маралов, очень плохо. Вы тут намекали насчет орденов, а вас надо в штрафбат. Да-да, именно в штрафбат! Потерять почти весь батальон! Ведь это же тридцать семь танков, сто сорок восемь прекрасных парней! А то, что немцев было больше, вовсе не оправдание. Надеюсь, не забыли так любимое вами суворовское изречение: побеждают не числом, а умением!»
Вы правы, товарищ комполка, абсолютно правы. И я хорошо понимаю, что вы хотите сказать. В том, что погибло столько прекрасных танкистов, моей прямой вины нет, но все же не могу отделаться от мысли, что мог их сберечь, мог спасти. Ведь я же цел! Ведь не заговоренный же я от пули. А не брала не то что пуля — снарядам «тигров» и то не по зубам. Значит, тут что-то другое… Может быть, я чувствовал, куда полетит снаряд, и вовремя отворачивал танк в сторону? Тогда этому надо было научить весь батальон. А я не научил. И вот горят ребята вместе с танками, горят на моих глазах, а я ничем не могу помочь. Жуткая это картина, когда полыхают танки и выскочившие из них люди. Еще страшнее, когда в танке начинают взрываться боеприпасы. Чудовищная сила распирает машину изнутри, броня вздувается пузырями, лопается, рвется на части. Броня! А что же люди?!
До войны я, между прочим, работал на Челябинском тракторном и был тихим инженером-конструктором, погруженным в проблемы прочности корпуса и облегчения его веса. Не поверите, все вечера — за кульманом, даже жениться не успел. Так-то вот… А теперь весь начинен ненавистью! И не в роже моей дело, мщу я не за сгоревший нос и спаленные уши, а за товарищей и израненную землю. Хитрости и изворотливости во мне тоже до чертовой матери. Не поверите, но я наперед знаю, какую лощину проскочить, а где спрятаться, когда стрелять с ходу, а когда притормозить. Я даже успеваю чуть-чуть отвернуть, если стреляют в лоб, — и снаряд рикошетом отлетает в сторону. Оказывается, на войне и этому можно научиться», — закончил Маралов воображаемый разговор с командиром полка.
Тем временем танкисты выбрались из-под «тигра», стянули прожженные комбинезоны и грелись на солнышке. Маралов тоже полез наружу. И вдруг его рука наткнулась на что-то круглое! И теплое! Маралов стряхнул с этого круглого землю — и в ужасе отпрянул: голова! Оторванная голова. Но почему теплая? Осторожно разгреб землю — шея! И плечи!
— Эй! — каким-то свистящим шепотом позвал он. — Ко мне!
Когда танкисты увидели командира, то не на шутку испугались: всегда лилово-красное лицо капитана стало совершенно белым.
— К-кажется, человек, — сказал он. — А м-может, половина.
Танкисты бросились в воронку. Заскорузлыми ладонями разгребали землю, выносили ее шлемами — и вот из курского чернозема на свет начал появляться человек: сперва плечи, потом руки, живот, ноги. Он был совершенно голый. Вытащили на солнце. Присмотрелись — дышит. Но кто он, немец или наш? Хотя что делать нашему под «тигром»? Ясное дело, немец, выскочивший из подбитого танка.
— Сейчас узнаем, — сказал кто-то и плеснул незнакомцу в рот из фляжки.
Человек закашлялся, захрипел и вдруг забористо выругался.
— Наш! — обрадовались танкисты и брызнули на лицо из другой фляжки, где была вода.
И тут к нему бросился Маралов.
— Еще воды. Лей! — крикнул он. — Еще!
Из-под размазанной земли, из-под черной жижи проступали хорошо знакомые черты. Маралов сорвал с себя рубаху и бережно вытер высокий лоб, чуть приплюснутый нос, крепкий подбородок…
— Громов! — ахнул он. — Дружище Громов! Витька! Я же говорил, что на войне тесно. Братцы, это же капитан Громов, мой лучший друг! Это такой парень!
У Маралова не было ресниц, да и веки наполовину сгорели, поэтому он не мог сморгнуть слезы радости, которые даже не пытался скрыть: он просто размазывал их по лицу и без конца тискал и трогал Громова, будто желая убедиться, действительно ли он жив. А тут и Виктор пришел в себя. Он узнал Маралова, пытался что-то сказать, но язык не слушался. Маралов суетился, бегал туда-сюда, смеялся, приглашая всех убедиться, что Громов жив. И вдруг он как-то сразу стал серьезным и собранным: в нем проснулся командир.
— В таком виде капитана в медсанбат везти нельзя. Надо одеть. Рубаха подойдет моя… А штаны? Штанов нет, у всех комбинезоны. Что делать? А вот что. Ефрейтор Галкин, снимайте кальсоны.
— Дык вроде как-то…
— Снимай, тебе говорят! — повысил голос Маралов. — У тебя комбинезон, а человеку срам прикрыть нечем.
— Дык я что, я пожалуйста, — путаясь в лямках, начал раздеваться ефрейтор.
Когда пришла машина с горючим и грузовик с боеприпасами, Маралов приказал прямым ходом везти Громова в медсанбат. Машина уже тронулась, как вдруг Маралов рванул планшет, достал лист бумаги, написал, где, когда и как нашел капитана Громова, и бинтом привязал записку к руке.
— Не помешает, — сказал он на прощание. — А то пока промычит, что да как, не за того примут.
Полсуток, которые были отпущены Маше, неожиданно растянулись. Шальной снаряд разорвался недалеко от операционной палатки, и осколком серьезно ранило хирургическую сестру. Работать без помощницы Васильев не мог. Позвонил в медсанупр: обещали прислать дня через три, не раньше. Но раненые не ждут, их надежды на жизнь исчисляются не сутками, а минутами. И тогда Васильев обратился к Маше.
— Другого выхода просто нет, — сказал он. — Сработаемся. Тем более однажды мы уже делали совместную операцию.
Маша вскинула брови.
— Забыла? В блиндаже у Виктора. Помнишь, как оперировали Рекса?
— Так то собаку. Боюсь я, Коля. Вдруг что не так?! Люди же на столе.
— Ничего. Я буду рядом.
Так Маша стала хирургической сестрой. К крови она давно привыкла, человеческих страданий насмотрелась, так что дело было за малым: изучить инструментарий, вовремя подавать зажим или скальпель, а если требовалось, придерживать края раны, пока в глубине ее работал хирург.
Медперсонала не хватало, поэтому Маше приходилось помогать и в сортировке раненых. Вот и сейчас с передовой привезли новую партию кое-как перебинтованных бойцов. Маша шла следом за Васильевым и записывала, кого немедленно на стол, с кем повременить, кого в перевязочную… Рядом крутился быстро набравший форму Рекс. Внешне он стал той могучей овчаркой, какой был раньше, но в поведении многое изменилось: он позволял себя гладить, бежал к каждому, кто подзывал, и, что совсем никуда не годится, брал из чужих рук еду. Рекс охотно протягивал лапу, подавал голос, ложился, вставал, полз. И вдруг Рекса будто током пронзило! Он бежал к кому-то из раненых, чтобы дать лапу, но когда тот протянул руку, Рекс так злобно гавкнул, что раненый шарахнулся за дерево.
Рекс обеспокоенно крутил головой. Что это? Что за запах? Откуда? Не может быть! Маша хотела было прикрикнуть на Рекса, но с первого взгляда поняла: с ним творится что-то неладное.
«Может, кошку чует, — подумала она. — Хотя откуда здесь кошки?»
А Рекс преображался прямо на глазах. Он сидел, как и в былые времена, по команде «смирно», подобрав хвост, подняв уши, и сосредоточенно вслушивался в медсанбатовскую возню. Нет, слух обманул, ничего волнующего он не слышал. С чутьем было сложнее: перемешавшиеся запахи йода, карболки и крови напрочь отбили нюх. Но что-то снова пронзило Рекса. Теперь он знал, что делать. Рекс поднялся и на деревянных ногах пошел вдоль лежащих на траве раненых.
Маша прижалась к сосне.