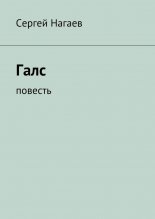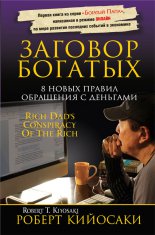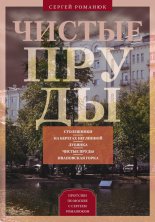Рядовой Рекс (сборник) Сопельняк Борис
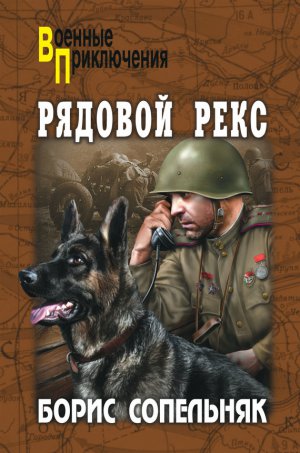
Читать бесплатно другие книги:
Главный герой, 20-летний студент Алекс Мейк, под влиянием ряда необъяснимых психофизиологических явл...
Герой повести — бывший подводник. Он немолод, уже не женат, едва сводит концы с концами в бизнесе и ...
В своей новой книге Роберт Кийосаки делится с читателями размышлениями о глобальной экономике. Он пр...
Ироничные философские сказки, однозначно, с гораздо большим смыслом, чем кажется на первый взгляд. С...
В книге, посвященной судьбе одного из основателей отечественного джаза, вводится в научный оборот не...
Прогулки по Москве всегда интересны и содержат в себе некий элемент неожиданности, даже если и прохо...