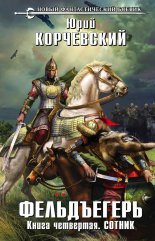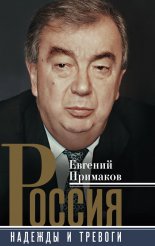Сонъ какъ м?ра пониманiя Рубцов Денис

Хоть она и была шлюхой, называвшей себя проституткой, но денегъ съ каждымъ днёмъ ей становилось явно мало.
– Что ты глаза на меня вылупилъ?
– Думаю.
– Ищи работу, а не слоняйся по городу. Больше пользы будетъ.
– Кому?
– Идіотъ.
Иногда она кричала, но, какъ и денегъ, такъ порой и силъ переставало хватать. Поэтому почти каждый вечеръ обезображенная хриплымъ голосомъ безоглядно сбгала изъ дома.
***
– А если я теб кое-что разскажу, ты будешь меня любить?
– Смотря что.
– Нтъ, ты отвть.
– Ты чего сегодня такой глупый? Конечно, буду.
– Я знаю, гд есть деньги.
– Гд?
– Въ томъ дом умалишённыхъ, откуда ты меня вытащила.
Когда-то тамъ били, было больно, но слдомъ приходила привычка; какъ и привычка къ лкарствамъ. Однажды, стоя за изгородью, увидлъ въ витрин какого-то магазинчика нчто сверкающее. Тайкомъ выбжалъ, но было холодно. Тогда и замёрзъ бы, но пришла она и спасла мн жизнь. Иногда она объ этомъ напоминаетъ.
– Деньги? Откуда тамъ деньги?
– Пожертвованія.
***
Сегодня мы идёмъ туда.
***
Пятый день болитъ голова, всё сильне и сильне.
Деньги было достать несложно, такъ какъ многія двери не закрывали. И вообще, теперь она за меня гордится.
Тогда же вечеромъ ршили немного отмтить.
Весь день гулялъ и кормилъ голубей. Шёлъ дождь, обивая слабые кленовые листья.
***
Пьютъ ли кофе съ добавленной ложечкой коньяка. Къ полуночи одного лишь кофе показалось мало, и она сильно напилась коньякомъ. Оставилъ её спящую на диван. Ко всему прочему она обмочилась и поэтому пришлось её раздть. Оказалось, что у нея тамъ не всё такъ, какъ у меня. Провёлъ рукой, но было гладко. Когда случайно пальцы прошли ещё глубже, стало страшно, и я накрылъ её одяломъ.
Сегодняшній день ходилъ возл желзнодорожныхъ путей, а когда ушедшій послдній вагонъ оставилъ гудніе въ рельсахъ, я, прислонившись ухомъ, слушалъ. Сердце громко стучало.
«Ты у меня хорошая» – всегда шепчу ей на ухо.
***
Пока она спитъ, выйду на крышу дома встрчать разсвтъ. Вдь теперь есть чму улыбнуться.
***
Исторія съ нкоторыми продолженіями, о которыхъ не были написано нигд, разв что въ протоколахъ полиціи.
Съ нимъ гораздо проще вышло. Разбился. Глупо, но и равновсіе, и слабая черепица сыграли не въ пользу. Она же посл его смерти почти не выходила изъ квартиры. Сосди порой отчётливо слышали ея ругань, что-то о прочтённомъ дневник, ублюдской похоти. Рже и рже слышали ея хриплый голосъ, ея ночные стоны съ криками. Теперь мужиковъ она водила къ себ просто такъ – не могла отвыкнуть. Черезъ недлю посл его смерти умерла и она. Полицейскимъ недолго пришлось искать причину. Тотъ диванъ, что кто-то выставилъ наружу, былъ пропитанъ пролитой ртутью.
Рка
Тёплыя руки ровно лежатъ на скатерти. Гуще обычнаго вино, а та угрюмая рка, что поодаль, въ одночась стала пасмурнаго цвта.
– Рка, что исчезаетъ, какое время движетъ тобой?
– Ничего-то она теб не отвтитъ.
– Придётъ время – отвтитъ.
– Какъ же.
– Ты только не сомнвайся.
Передъ глазами есть домъ. Тёплыя бревна и нсколько оконъ, самоваръ на угляхъ и ржавая щеколда. Рку же слышно везд.
– Слышно.
– Не забылъ?
– Куда тамъ.
– Прояснится.
– Уже.
Приплывётъ отраженіе луны, ещё ближе прибьётся беззавтный стукъ сердца, а свтъ съ небесъ будетъ радовать.
– Разглядишь?
– Доплыву.
– Заглянешь?
– Прикоснусь.
– Въ втр и волнахъ?
– Навки обниму.
Родинка какъ божья коровка
Протянувъ руку до бокала, отставить вино, которое выдохлось.
– Вы научились танцевать?
– Эпатажъ?
Твой взглядъ давно, какъ сквозь. И лампы на столикахъ просторно освщаютъ блыя скатерти. И музыка смеркается.
– Это мой жестъ.
– Это твоё танго.
Неизбжность свободы и объятіе. Предплечье, локоть, родинка. Ножки въ туфляхъ на тоненькихъ ремешкахъ невольно царапаютъ паркетъ. Шагъ, взглядъ, родинка.
– И танго.
– Это твоё танго.
Босыми ножками по ломкой прибрежной трав ступаешь. Съ послдними аккордами.
– Движенія.
Закрой глаза и прожужжитъ божья коровка – словно кленовый листъ цвта краснаго. Подлетитъ къ теб, присядетъ.
– Танго.
– Это мой жестъ, это твоя родинка. Это твоё танго.
Сестра изъ стали
Сталину:
…у меня нтъ семьи, значитъ некого убивать. Я знаю, вы побдили, но у меня нтъ семьи.
04.03.1953
Всё больше становится причинъ пожаловаться и совсмъ позабытъ страхъ. Многое разршено, но не всё забыто. Накрывать столъ теперь уже не по деньгамъ, но чистую скатерть и ея фотографію я поставила. Теперь никого и не осталось, кто помнитъ о ней. Теперь помнятъ не о ней.
– Ты слышишь? – говорила мн она возл тишины шахты, – Слышишь Смерть?
Пятьдесятъ лтъ назадъ ея не стало. Пятое марта – не весна. И даже не выдохъ зимы. Пятое марта – только въ пятьдесятъ третьемъ.
Ощущеніе разлуки съ болью? Исчерпано. Не стало сестры, и умеръ Сталинъ.
***
Нашёлъ ихъ смятыми въ оконной пыли. Замтки на оторванныхъ листкахъ повязаны шнуркомъ. И тотъ, кто писалъ, ещё живъ. Возможно, хотя и для чего.
Пожелтвшія, съ паутиной въ углахъ стны квартиры сосдки, что увезли въ больницу.
Слдуетъ полить алоэ и на ночь закрыть окна.
***
Интересно ли, вывернувъ высоко голову, разсматривать отраженія оконъ. Т снжныя облака, что расплываются въ синев стёколъ и опускаются застывшимъ занавсомъ.
Мн проще. Отъ непониманія спшу къ бумаг и карандашу. Исторія о спасённой двочк ложится въ строчки и, кажется, становится легче.
Лицо моей сестры, какъ дв разныхъ половинки. Добрая и добрая. Маленькая. Жила страдая.
– Къ ней… пусть же денно и нощно будутъ подниматься въ гору люди; подъ маршъ тростниковыхъ флейтъ.
Осколки отъ разорвавшейся мины прошли въ тло; посл чего, немедля, её помстили въ военный госпиталь – тамъ, гд солдаты, были и дти.
Сдлавъ операцію, немедля, вс сняли съ себя вину.
– Не всё, не всё можно извлечь.
Она посвятила меня въ мистерію, извстную ей одной. Мистерію предутреннихъ исполиновъ, прихоящихъ на мигъ въ тотъ тёмный часъ, когда всё безпробудно. Ихъ руки, проскальзывая, не могли помочь ей. Но ощущалась сила.
Это былъ одинъ единственный день, а потомъ Сталинъ, получивъ, прочёлъ ея письмо. Изъ динамиковъ рзало рчью о смерти вождя, и плакалъ народъ. Народъ, потерявшій страхъ. Народъ, боящійся свободы.
Въ тишин её изнасиловалъ врачъ и, второпяхъ застегивая ширинку, исчезъ. Немедля, на площадь, на общее собрані.
Край полупустынныхъ задворковъ съ тщательнымъ отсутствіемъ иллюзій. Сестра считала шахту раемъ, а шагъ въ неё былъ прыжкомъ къ свобод. Шахта за госпиталемъ со временемъ стала использоваться, какъ общая могила, гд горы труповъ пересыпали хлоромъ и запахъ гнили истекалъ зловоніемъ.
Туда на телжк я отвезла её. Отвезла я, но она сама стянула себя въ бездну; прыжкомъ въ мсиво.
– Тогда страна оплакивала отца народовъ?
– Тогда же надъ шахтой отстроили псарню, какъ надгробіе надъ несуществующей сестрой.
Словно втромъ касаться
У тополей много обычныхъ листьевъ, но если взять лишь одинъ опавшій, прикоснуть къ ладони – будетъ совсмъ по-другому. Или брать въ руки открытку съ поздравленіями, или дотрагиваться до женской груди.
Непріятной кислотой, оставшейся отъ лта, звздами пахнетъ.
– Не хмурься.
– Не буду.
Хлёсткіе удары въ колоколъ и можно считать, что міръ преобразился. Вотъ къ концу осени и подавно чище станетъ.
– Куда ужъ тамъ.
– Точно-точно. Увидишь, удивительно станетъ.
Псни птицъ и чиханіе котятъ, горькій кофе и затхлое мясо. Взять книгу, попробовать на ощупь. Такъ можно и садовое яблоко покрутить; сплое.
– Можно до губъ?
– Тихонько.
– Очень тихо.
– Не робй.
– До губъ.
Оттолкнутся и взлетятъ. Отъ земли къ земл паря, отъ тепла къ теплу ровно крича. Птицы – он вдь, пожалуй, везучія – у нихъ своя награда.
Восковыя свчи и ночью асфальтъ, крупный у моря песокъ и ея бёдра. Просто красивыя.
– Тихонько.
– Помню.
– Оно вотъ.
– Втромъ.
Терпко
Самую чуть, но чай отличается. Разнится вкусомъ воды и лимонностью карамели, что вприкуску. Совсмъ не похожа и заварка съ плавающими листочками поверхъ.
Жить загородомъ, ходить по обмелвшему берегу съ трупами сорокъ и берёзовой корой.
На тополяхъ сосдняго берега пожелтла листва, пожелтли берёзы, пожелтла трава, и только полынь оставалась полынью.
Въ сосдней комнат спитъ двушка съ маленькой грудью. Спитъ ея улыбка, похожая на нкогда виднную чью-то. «Чью-то» – есть въ этомъ отъ аристократіи.
– Въ сосдней комнат спитъ двушка съ маленькой Чьюто.
– И стараться не надо.
– И любить подавно поздно. Это же Чьюто.
Двушка – хорошо. Пауки и печь – неплохо. Вотъ цпочка ходиковъ повисла надъ топоромъ, виситъ и косичка лука въ углу – всё подъ рукой. Пожалуй, стоитъ подойти къ портрету Ленина, тихо протереть отъ пыли коммунизмъ мозаики, отодвинувъ отъ края керосиновую лампу, допить бутылку коньяка.
Сексу въ двухъ метрахъ отъ портрета вождя кто-то не придалъ бы значенія. Сексу въ двухъ метрахъ отъ чугуннаго олимпійскаго медвдя никто не радъ. Фіолетъ астръ, желтизна шафрановъ и массивы соціалистической мебели.
– Что въ теб не такъ?
– Совсмъ не такъ?
Вдь заходилъ разговоръ и о сил съ надёжностью, и о пріоритетахъ, и о томъ самомъ Чьюто.
– Какъ сильно пахнетъ облпиха?
– Сильно.
– Насколько надёженъ ея запахъ?
Сейчасъ замчательное время, сейчасъ восхитительные люди, сейчасъ грандіозный сумракъ.
Удивить
– Ты вся хорошая.
– Конечно.
– Съ этого можно и начать.
– Только держи меня.
Гобеленъ чуть испачканъ, но значенія не стоитъ придавать. Люстра въ пыли, её совсмъ не различишь. Дышится свободно и каждый вздохъ будто отрзанъ. Дышится свободно, но всё же что-то не такъ. Нкоторыя изъ пластинокъ въ трещинахъ, нкоторыя по полу. Всюду книги и подъ окномъ раскинуто одяло.
– Держу.
– То, что держишь ты, держитъ и тебя.
– Не паясничай.
Поодаль полотенце въ песк и солнечный свтъ. Смотришь въ патину зеркала, силишься разглядть помолодвшее лицо сквозь трещины амальгамы, но сдютъ волосы, и приближается втеръ. Но, какъ и прежде, дышится свободно. Если не принимать близко къ сердцу затхлый апельсиновый амбре.
– Душа моя, не устала ли отъ діалога?
– Отнюдь.
– Влюблюсь вдь.
– А затмъ?
Кислотой прожжённыя изображенія пны моря, изображенія трещинъ, что разсыпались гд-то въ облакахъ, поля хризантемъ и потоки сливочнаго масла. Нырять и заново погружаться, ласкать и сглатывать сокъ, торопиться ото сна и отворачиваться къ лун.
– Навка – душа двочки, умершей до крещенія.
– Но навку сердца удивить не сумешь?
– Посмотримъ.
Затмъ онъ подойдётъ къ ней поближе и, почти не соблюдая личной дистанціи, прикоснётся къ ея груди, вдохнётъ запахъ шеи, услышитъ, какъ накапливается ея женское.
Шёлъ и плакалъ
– Кто же тебя побдилъ, старикъ? – спросилъ онъ себя… – Никто, – отвтилъ онъ. – Просто я слишкомъ далеко ушёлъ въ мор.
Эрнестъ Хемингуэй.«Старикъ и море».
– Ты спрашиваешь, отчего мн такъ грустно? А разв каждаго, кто въ такую лунную ночь оказывается въ пути, не одолваетъ тайная печаль? Разв теб не тоскливо?
– Да, конечно. Что и говорить, и мн сейчасъ грустно. Но даже не понимаю почему.
– А ты взгляни на небо и поймёшь. Печально отъ луны. И если теб тоскливо, поплачь вмст со мной. Пожалуйста, поплачь, – Слова эти прозвучали какъ музыка, ничуть не уступая мелодіи бродячихъ музыкантовъ. И что удивительно: даже сейчасъ, разговаривая со мной, женщина продолжала играть на сямисэн.
– Тогда и вы не скрывайте слёзъ… повернитесь ко мн. Я хочу видть ваше лицо.
Дзюнъитиро Танидзаки.«Та, которую я люблю».
– Видишь? – сказалъ Ёжикъ. – У него нтъ ни папы, ни мамы, ни Ёжика, ни Медвжонка, онъ совсмъ одинъ – и не плачетъ.
Сергй Козловъ. «Ёжикъ въ туман».
Сейчасъ, какъ никогда, ршить и выбрать опору.
Публично-пасторальное можетъ приглянуться, но сдлать акцентъ на ноткахъ вульгарности и напрочь вышвырнуть изъ каждой глотки по трахе. Можно пообщать сцены насилія и аляповатыхъ непотребствъ. Но лучше представить глубокую осень въ стародавней лпнин, представить покинутыя стны столтняго зданія и отмершій отъ нкогда насыщенной жизни курортъ.
Постители, густое масло, холстъ и запахъ берега, что неподалёку. Картина ясна, но видимо малопонятна.
Ему правильне сказать нсколько за сорокъ. Съ половиной.
Половина – ей нтъ и половины его возраста. Ея фигура, скоре всего, не можетъ похвастаться крпкими мышцами, но, несомннно, у нея есть удачныя сиськи и безудержно лысый двичій лобокъ. Она какъ несравненная шлюшка, взятая напрокатъ въ одномъ изъ провинціальныхъ городковъ, что на свер ихъ страны.
Естественно, на ней есть подобающее лицо, есть алыя губки, присутствуютъ ухоженные маникюры и лакомыя бёдра – такимъ наборомъ ея хозяинъ вполн доволенъ.
Пріхалъ ли онъ на отдыхъ отъ жены, убжалъ ли отъ любовницы къ новой, скрылся ли отъ своего кожанаго кресла, никто не знаетъ.
Ближе къ вечеру, пшкомъ онъ идётъ до ближайшаго городка и въ омертввшемъ бар пьётъ небольшими глотками пиво. Каменныя улицы и чмъ-то памятную площадь съ городской ратушей онъ не приметъ къ своему вниманію. Остаётся безотвтственный пріёмъ пива и разсредоточенный взглядъ, остаётся запахъ мяса и доносящихся голосовъ.
Это же время она проводитъ въ неплохо устроенной ванной, вымывая изъ себя густые остатки. Посл пны споласкиваетъ своё тло прохладой, надваетъ его халатъ и тщательно разсматриваетъ своё юное лицо въ зеркал.
Вечеромъ он вмст ужинаютъ, онъ принимаетъ таблетки, она разстёгиваетъ его ширинк и пуговицы рубашки. Происходитъ сексъ; спустя какое-то время они начинаютъ неизвстный и пустой разговоръ.
Три одинаковыхъ дня и три столь же одинаковыхъ ночи. Потныя простыни, неспшная грязь вокругъ и ея слова о счастливой жизни. Утро четвёртаго дня открывается руками полицейскихъ, вошедшихъ въ дверь заштореннаго номера. За ночь подсохшая кровь отчётливо видна всмъ. Виденъ чулокъ на его горл и сперма на ея губахъ. Вны перерзаны на рукахъ двушки, а его опавшій членъ прикрываютъ ея волосы.
Женщина, которая рядомъ
Глотокъ кофе и можно смотрть сонъ. Тамъ безъ изъяновъ радуга, тамъ шорохъ сухого хмеля и стаи журавлей, – какой же это сонъ. Всё здсь, на ладони вкъ. На ладони – вкъ.
Сколько бы ни становилось ей лтъ, она выглядитъ молодо. Время застынетъ снжинкой, когда придётъ зима, и, выкроивъ моментъ, она вспомнитъ то, что прошло. Вспомнитъ добрымъ словомъ и, казалось бы, станетъ моложе.
– Снова весенніе анемоны распускаются въ ея сердце.
– Ты, правда, увренъ, что мн это подойдётъ?
– Какъ никогда.
– Стану счастливой?
– Міръ вязи старается не позволить себ, чтобы кому-то было пріятно вн его круга.
Она обниметъ, искренне попроситъ подождать короткое время. Дотронуться до ея шеи губами и согласиться. Теперь осень, теперь всё рядомъ.
– Стану счастливой?
– Конечно.
– Какъ скоро?
– Только ршись.
– Давай вмст?
– Согласенъ.
Ирисы
Почти съ самаго начала этой недли на подоконник въ спальн выдыхалось вино. Ничего не происходило. Ещё совсмъ немного и придётъ декабрь. Тнь каждой ночи увеличивалась, а ея индиго расцвтало въ оконномъ ине. На кресл всё чаще оставался пледъ, но тепло не приходило. Отчего не забылась встрча съ ней, сейчасъ и не придумать. Встртились и не забыли – такое бываетъ. И нтъ ничего страннаго.
Рейсовый автобусъ съ мстами рядомъ. Подлокотники немного лишали уюта, но отъ такой тсноты становилось тепле. Такъ познакомились.
– Пріятно говорите, очень по-доброму.
– Ваша правда.
– Домой возвращаетесь?
Какъ такое бываетъ, порой не разобрать. Кто-то похлопоталъ, гд-то что-то хорошо сложилось. Черезъ годъ знакомство. Заставляемъ другъ друга. Не останавливаемся. Просьбы въ приказы и никакой любви. Только не съ ней.
Утромъ на вокзал купить семь ирисовъ полуночнаго неба и пріхать домой.
Корабль длаетъ бурю
Что онъ могъ ей сказать? Поднялъ на руки, отнёсъ на диванъ, слъ рядомъ и сталъ разсказывать про хрустальные храмы, про весёлые сады на много миль безъ гнилья, комаровъ и нечисти, про скатерть-самобранку, про ковры-самолёты, про волшебный городъ Ленинградъ, про своихъ друзей – людей гордыхъ, весёлыхъ и добрыхъ, про дивную страну за морями, за горами, которая называется по-странному – Земля…
Здсь и дале Аркадій и Борисъ Стругацкіе. «Трудно быть Богомъ».
Когда-то во дворахъ бгали мальчишки въ рейтузахъ съ фіолетовымъ узоромъ ромбовъ, прыгали по асфальтовымъ классикамъ двчонки въ колготкахъ. Родители наливали клюквеннаго морса въ сифонъ и долго трясли, зарядивъ баллончикомъ газа. Коричневая известь стнъ и въ гудрон вс руки, вкусный напитокъ «Байкалъ» и картонная коробка мойвы.
Зимы почти не запомнились, вдь были ватные тополя, и огромные рулоны типографской плотной бумаги, что иногда оказывались рядомъ. Это былъ городъ, дтскій городъ, лтній міръ.
– У насъ подъ ногами есть земля.
– Какъ день провёлъ?
– Посмотри, прыгни. Наши ноги ходятъ по земл.
– Да, и твои и мои ноги, но что въ этомъ такого?