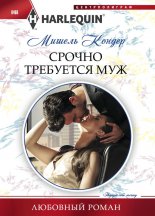Периферийный авторитаризм. Как и куда пришла Россия Явлинский Григорий

Понятно, что этот элемент не является чем-то абсолютно новым, тем более – неожиданным. Критика правил, устанавливаемых Западом, была важной составляющей внешней и внутренней политики постсоветской России на протяжении, как минимум, последних полутора десятилетий. Достаточно вспомнить такие эпизоды недавней истории международных отношений, как кризис в бывшей Югославии и вмешательство в него ЕС и НАТО; война стран НАТО против режима Саддама Хусейна и последующая оккупация Ирака; напряженные споры вокруг развертывания американских систем ПРО, расширение НАТО путем включения в него Восточной Европы, российско-грузинский конфликт 2008 г., вылившийся в масштабные боевые действия, и многое другое. Каждое из названных событий порождало острые разногласия между Россией и ведущими западными державами, которые не только сужали поле для возможного конструктивного взаимодействия, но и активно использовались всеми сторонами в процессе формирования внутреннего общественного мнения. Каждое обострение разногласий закрепляло убеждение сторон в том, что консенсуса по поводу правил действий в конфликтных ситуациях нет и быть не может, так что какие-либо дипломатические усилия по сближению или хотя бы согласованию позиций могут иметь лишь ограниченный и временный эффект.
При этом, естественно, западные державы исходили из того очевидного для них положения, что их роль как ядра мирового капитализма (и, соответственно, современного мира в целом) дает им преимущественное право и привилегию устанавливать правила международного поведения в соответствии с их собственными представлениями о справедливости и международном праве. Соответственно, чьи-либо попытки противодействовать игре по устанавливаемым таким образом правилам рассматривались ими как деструктивные, а авторы этих попыток – в лучшем случае как своего рода политические «спойлеры», а в худшем – как антагонисты, подрывающие существующий миропорядок. Россия и до последних событий уже имела в их глазах устойчивую репутацию «спойлера», а российское руководство и подконтрольное ему общественное мнение, в свою очередь, убедили себя в том, что игра по предлагаемым Западом правилам не приносит России никакой пользы, зато чревата постоянными потерями и убытками.
Однако в последние два-три года вышеописанные разногласия стали обретать острую форму. Развитие событий вокруг Ливии, Сирии, а затем и острый политический кризис в Украине[27] убедили Кремль в том, что подчинение России правилам, устанавливаемым Западом, ведет лишь к тому, что его мнение и интересы (в том виде, в каком он, Кремль, их понимает) игнорируются. Никаких дивидендов от занятия «конструктивной» (с точки зрения Запада) позиции он не получает и не может получить, а его возможные потери никем и никак не компенсируются. Соответственно, для него имеет больший смысл не пытаться подладиться под правила в их западной интерпретации, а действовать исключительно по собственному усмотрению, по крайней мере в тех пределах, в которых у него имеются соответствующие материальные возможности, и попросту игнорировать международную (то есть западную) реакцию на его действия.
Именно такую (по сути) позицию Кремль занял в сирийском вопросе, и в еще более откровенной и даже вызывающей по отношению к Западу форме – в своей реакции на политический кризис в Украине и на попытки западных политиков найти выход из этого кризиса без приоритетного учета позиции и интересов Кремля. Последние были восприняты особенно болезненно – как проявление полного пренебрежения к тому, что политическая элита в России считала своими безоговорочно исторически обоснованными требованиями к западному сообществу[28].
В свою очередь, Запад классифицировал для себя нынешнюю Россию как угрозу международной стабильности, которую следует устранить с помощью различных мер – политических и экономических санкций и, возможно, силового давления. Независимо от того, какие конкретно меры были выбраны в качестве средства непосредственного реагирования на действия Кремля в украинском кризисе, общественному мнению в странах Запада была предложена их однозначная трактовка как вызова привычному для Запада миропорядку – вызова, с которым невозможно и не нужно примиряться. Эта оценка является долгосрочной и, очевидно, не будет меняться, даже если будет найдена какая-то формула взаимной адаптации интересов и требований Кремля и Запада в украинском вопросе.
Конфликты Кремля с глобальным Западом, сотрясавшие их отношения в течение последних двухтрех лет, в итоге привели к закономерному результату – Россия, как считают многие, прочно и надолго откололась от «мирового сообщества» в его западной интерпретации, а правящая в ней группа решила для себя, что демонстративная изоляция или самоизоляция России от Запада в большей степени соответствует ее интересам, чем попытки адаптации к Западу и его правилам. И хотя это решение некоторые наблюдатели и в России, и на Западе приписывают одному человеку, вряд ли можно отрицать, что настроения подобного рода были широко распространены в правящей команде и в российском политическом классе в целом. Этим же объясняется, что официальное провозглашение «нового курса» в международной политике, прежде всего на постсоветском пространстве, не только не встретило даже глухого сопротивления, но было встречено большей частью элиты с неподдельным энтузиазмом. Бывший долгое время популярным взгляд на российскую элиту как на космополитичную, прочно связанную с Западом деловыми и бытовыми интересами, оказался не соответствующим реальности. Напротив, выяснилось, что подавляющая часть административной и деловой элиты прекрасно осознает, где находится подлинный источник ее благосостояния, и не готова ставить его под угрозу ради призрачных бонусов от существовавшего до сих пор или еще более тесного взаимодействия со странами Запада.
Понятно, что публично заявляемая официальная позиция с неизбежно присущим ей элементом лукавства по-прежнему говорит о важности диалога, необходимости поиска точек соприкосновения, о желательности и взаимовыгодности сотрудничества и т.п. Тем не менее следует трезво отдавать себе отчет в том, что произошедшие в этой области изменения на данном историческом этапе носят очень глубокий характер, и о «возвращении в начало 1990-х годов», когда еще только формировавшийся российский авторитаризм был готов внешне принять предписанную ему роль подчиненного и контролируемого элемента общей картины миропорядка, в нынешних условиях и речи быть не может. Состояние конфронтации с Западом; отрицание заготовленной для него роли становится для Кремля не просто приемлемым, но и комфортным состоянием, в котором он получает возможность выстраивать мобилизационную модель внутриполитического развития, эффективно блокируя протесты тех сил внутри страны, которые пытаются этой модели противодействовать.
Более того, педалируя в своей пропаганде инициативу Запада по наказанию России (как нарушителя правил) посредством экономических санкций, Кремль тем самым снимает с себя ответственность за грядущее ухудшение экономической ситуации в стране, для которой интенсивные связи с мировой метрополией являются необходимым условием высокого уровня потребления и, в особенности, его роста.
В этой связи стоит также заметить, что роль украинского кризиса в процессе поворота российского авторитаризма к его самоизоляции от Запада не стоит преувеличивать. На самом деле, он лишь сыграл роль спускового крючка, предоставив российской правящей элите удобный предлог для демонстративного «развода» с Западом, политические и экономические предпосылки для которого созрели ранее и лишь ждали подходящего случая, чтобы проявиться и дать толчок соответствующим действиям. Которые, кстати, случись они позже, – возможно носили бы не столь громкий, но более последовательный и более необратимый характер.
Экономические предпосылки, которые являются, на мой взгляд, более фундаментальными, состояли в том, что сырьевая модель экономики России не только теоретически, но и практически исчерпала свой ресурс как двигателя экономики и потребления в России. Несмотря на то, что этот тезис стал чуть ли не точкой консенсуса всех политических сил России и произносился уже чуть ли не как заклинание, его смысл долгое время не осознавался российской элитой реально и в полной мере. Лишь после кризиса 2008—2009 гг. и утраты надежд на возобновление экономического «мини-чуда» в виде «тучных» лет периода 2003—2007 гг. стало очевидным, что рост с опорой на экспорт нефти и газа действительно затухает, а никаких новых толчков для развития отечественной экономики активные связи с Западом сами по себе дать не могут. Соответственно, и ценность этих связей в глазах российской политической элиты неизбежно стала падать, а возможные формальные и неформальные санкции со стороны Запада перестали служить сдерживающим фактором. Исчезновение былых бонусов от растущего сырьевого экспорта, ориентированного на главные индустриальные страны, стало фактом сознания той большей части российской элиты, которая непосредственно не завязана на сырьевой бизнес, а возможности расширения круга отраслей и сфер, способных получить новое развитие именно в результате активного взаимодействия с западными экономиками, либо изначально отсутствовали, либо так и не были реализованы. Все это и привело к тому, что начатый руководством разворот в сторону политического противостояния с Западом ценой сворачивания экономических связей с ним так и не вызвал сколько-нибудь серьезного сопротивления экономической элиты.
Политические же предпосылки, очевидно, в первую очередь были связаны со взглядами и психологией человека на вершине авторитарной вертикали. В нашем случае, В. Путин оказался в положении чужого, чужеродного элемента клуба высших мировых управляющих, которые не видели в нем не только равного, но и просто «своего». Само его наличие в той же «Большой восьмерке» виделось им как пережиток холодной войны, как следствие наличия у России непропорционально крупного арсенала ядерных боезарядов, не соответствующего гораздо более скромной роли России в мировом хозяйстве, торговле и инвестициях. Одновременно тот факт, что российский лидер упорно отказывался видеть ситуацию в таком свете и претендовал на большее, служил источником постоянного взаимного недовольства и раздражения, которые рано или поздно должны были вырваться наружу в форме жестких, бескомпромиссных действий.
Очевидно также, что и уже упомянутые расхожие представления о верхушке российской элиты как якобы космополитичной, тесно завязанной на Запад своими экономическими интересами и жизненными планами, также не соответствовали реальности. Даже те части деловой и политической элиты, которые субъективно хотели интегрироваться в «большой» западный мир, в силу иного образования, психологии, ментальности и личного опыта также ощущали себя в нем неуважаемыми и неприкаянными «чужаками»; не могли избавиться от определенных комплексов, инстинктивно порождавших в них чувства обиды и даже собственного превосходства над якобы изнеженными и ограниченными представителями западных элит. Большинство высокопоставленных российских чиновников и предпринимателей так и не смогли обзавестись в развитом мире источниками доходов и социального положения, сопоставимыми с внутренними, и не могли избавиться от ощущения, что за пределами своей страны они воспринимаются с определенным пренебрежением как своего рода глобальные «провинциалы». Все это, естественно, сказывалось на их мировоззрении, что и отразилось в том, что, когда с «самого верха» шел импульс ненависти и презрения к Западу, они не могли и не хотели этим импульсам серьезно сопротивляться.
В этом смысле совершенно естественно, что толчок к внешней изоляции (как результат действий, совершаемых Кремлем в нарушение установленных для него правил) получил в российской авторитарной системе быстрое и далеко идущее развитие, особенно в ситуации, когда такие действия сопровождались символически важным бонусом в виде территориальных приобретений и связанного с ними всплеска государственнических чувств. Соответствующие угрозы, поступавшие со стороны Запада, вместо опасений вызывали в рядах элиты даже определенный энтузиазм, поскольку рассматривались как своего рода признание собственного величия, проявляющегося в привилегии действовать по собственному усмотрению, без оглядки на «международную общественность». Что же касается возможности заморозки и конфискации зарубежных активов высокопоставленных чиновников, в первую очередь из силового блока, то она только приветствовалась как их единоличным лидером, еще ранее взявшим курс на «национализацию элиты», так и, можно сказать, российским населением в целом.
Насколько можно судить по объективным показателям и фактам, провозглашение готовности радикально свернуть политические, да и, в значительной степени, экономические отношения со странами Запада было достаточно спокойно воспринято высшим слоем государственной машины, включая и экономическую ее часть. Во всяком случае, в период, когда соответствующий поворот обозначился четко и недвусмысленно, не было ни отставок, ни сколько-нибудь демонстративных действий, которые можно было бы трактовать как попытки публично обозначить сопротивление этому курсу.
С учетом же того, что иные обозначившиеся тенденции, о которых речь пойдет ниже, закрепляют поворот к внешней изоляции и, более того, делают затруднительным включение здесь обратного хода, с достаточной степенью уверенности можно предположить, что период упадка или замораживания связей российской политической элиты с внешним миром – точнее, с наиболее развитой его частью – продлится так долго, насколько долгим будет век нового российского авторитаризма в его нынешнем воплощении.
Многое, впрочем, будет зависеть от того, как будет развиваться украинский кризис. Действительно, внимательный и непредвзятый анализ происходящего в Украине показывает, что при всех серьезнейших внутриукраинских факторах возникшего кризиса одна из главных его причин находится территориально за ее пределами. Она – в том, что происходит в России, где органическим элементом созревания и укрепления авторитарной периферийной системы стали ее постоянные попытки по расширению своего «жизненного пространства», экспансия в бывшие советские республики и ультимативное желание навязать им собственные правила жизни. Учитывая исключительное значение для будущего России трагических событий, происходящих с весны—лета 2014 года на Востоке Украины, а также политических последствий, связанных с аннексией Крыма, несколько отступим от логики и формы нашего анализа и рассмотрим российско-украинскую ситуацию более подробно.
В культурно-историческом плане и Россия, и Украина, и Беларусь принадлежат европейской цивилизации, единственное реально существующее направление их дальнейшего развития – европейское. Ничего иного для них просто не существует, если только эти страны хотят сохранить в XXI веке свою государственность. Попытки двигаться в другом направлении являются отклонением от естественного исторического развития, каковым был и большевистский эксперимент строительства социализма-коммунизма. Только теперь результаты такой попытки будут еще более разрушительными для государств-экспериментаторов.
Украинский кризис имеет особое значение, поскольку является первым масштабным открытым проявлением попытки такого отклонения и прямым следствием нарушения естественного процесса европейского исторического развития постсоветского пространства.
Ключевая роль в этом кризисе, как уже было сказано, принадлежит России. В последние пятнадцать лет своей нарастающей «евразийской» внутренней и внешней политикой она упорно пытается олицетворять то направление развития, которое принято характеризовать как «антиевропейский вектор». Отказ России как на уровне практических действий, так и на уровне высшей политической риторики двигаться по европейскому пути, в свою очередь, означает разрыв постсоветского пространства. Украинский кризис – следствие этого разрыва, когда вместо того чтобы вместе с Украиной двигаться в европейском направлении, Россия пытается тащить Украину в противоположную сторону.
В Украине же, по существу, долгое время действовал своеобразный общественный договор: люди были готовы терпеть президентство Януковича, но при условии движения страны в Европу. Для огромного числа людей по всей Украине это было главной надеждой и мечтой. Более того, накануне подписания договора об ассоциации с Евросоюзом при всей неоднозначности последствий такого шага было понятно, что выбор в пользу Европы не раскалывает, а объединяет страну. Выбор в сознании украинцев сложился очень ясный – между европейским будущим (возможно идеализированным, сильно приукрашенным) и таким настоящим, в котором никто жить не хотел.
Однако власть разорвала этот договор. В результате люди почувствовали себя обманутыми и униженными, взбунтовались, возник Майдан как политическая сила.
В украинской политике и уличной активности есть, конечно, и такой двигатель, как региональный фактор, а именно запад страны, прежде всего бывшие Галиция и Буковина. Эти регионы более пяти веков не входили в состав России и, конечно же, их население по своей культуре и менталитету отличается от восточной и центральной Украины. Люди, приезжавшие из этих регионов «на Майдан», были более упрямы и радикальны, чем, скажем, киевляне. Но главные причины радикализации ситуации заключались все же не в этом.
Если энергичное, способное к движению вперед и требующее серьезных институциональных перемен общество сдавить жестким корсетом, чтобы предотвратить его развитие, процесс рождения нового произойдет все равно, но плод будет уродливым. Таким было правление Николая II: власть, отделенная от общества и отказывавшаяся меняться, привела к ситуации, когда из желания российской элиты осуществить современную для того времени трансформацию самодержавия в конституционную монархию, тем самым создав условия для дальнейшего развития страны, родился большевистский монстр.
Сейчас, почти сто лет спустя, гораздо более корыстная, мелочная и мстительная, но при этом менее воспитанная и образованная властвующая группа, воспринимающая развитие общества как опасность для себя, иррационально и абсурдно пытается делать вид, что этого развития нет. Она вновь надевает на общество жесткий корсет из ограничений, запретов, извращений и беззакония, тем самым программируя рождение очередного социально-политического уродства – засилья в политике откровенных невежд, популистов и радикалов.
Российский периферийный авторитаризм воспринял произошедшее в Украине как покушение на смысл существующей в России системы. Однако напрямую защищать эту «евразийскую» систему он не решился, а объявил себя борцом за российские интересы, использовав заведомо выигрышное с точки зрения роста популярности незаконное присоединение Крыма и защиту русскоязычных от украинских националистов («бандеровцев»). Однако суть предпринятых действий системы связана не столько с Крымом (это лишь дополнительный приз), сколько с сохранением своей власти в России и с защитой от покушения на российскую периферийную авторитарную систему (причем это уже второе покушение – первое было в 2004 году в связи с разоблачением фальсификаций на президентских выборах). Так же как в 1956 году в Будапеште или в 1968 году в Чехословакии, дело было не в территориях, а именно в покушении на систему авторитарной власти.
Именно по этой причине Россия категорически выступала против ассоциации Украины с ЕС в любой форме. Более того, российская властвующая элита поставила перед собой задачу подталкивания процесса разрушения украинской государственности и доказательства всему миру, что Украина в нынешних границах является несостоявшимся государством.
В конечном счете, она добивается передела (раздела) территории Украины и, в том или ином виде, отторжения от нее Крыма, Востока и Юга в пользу России – не обязательно в виде присоединения, но через создание в той или иной форме «буферной» зоны, отделяющей Россию от Запада. Западная и часть центральной Украины, возможно, смогут существовать как независимое государство, и Россия даже согласится с их вступлением в ЕС, а возможно и в НАТО (это будет зависеть от того, как пройдет «операция» и какая будет территориальная конфигурация).
В любом случае, операция «Украина-2014» имеет своей целью закрепление «неевропейского», «евразийского» характера российского государства, по-своему трактующего права человека и международное право, выступающего в роли антагониста Запада и, в конечном счете, сохраняющего все основные элементы «суверенной» криминально-олигархической системы власти, созданной после 1991 года.
В случае успеха этой операции вполне возможно и даже вероятно расширение ее зоны и на другие бывшие советские территории. Однако как бы ни развивались события в дальнейшем, Россия уже сейчас в результате своего сползания к антиевропейскому курсу создала новый болезненный контекст для всех своих соседей, порождая у них острое желание как можно дальше от нее отодвинуться. Настойчивое проталкивание альтернативных (на самом деле несуществующих) «евразийских» ценностей оборачивается демонстративным игнорированием гражданских и политических прав, отказом от принципов равенства перед законом, разделения властей и правового государства, культивированием олигархической системы собственности, отсутствием конкуренции.
Своим отказом от европейского вектора движения Россия создает значительный пояс нестабильности, поскольку практически во всех соседних с ней странах есть серьезные проевропейские силы, противодействующие российским планам их «держать и не пущать». В ближайшей перспективе Россия располагает серьезными возможностями генерировать нестабильность в Украине, используя для этого как экономические рычаги (зависимость от российских рынков и энергоносителей), так и разогревание сепаратизма с использованием денежных вливаний и медиа-пропаганды. Поэтому и для Украины, и для всего постсоветского пространства одним из ключевых вопросов является судьба европейского будущего России.
Идеалом или перспективой, равновеликой России, способной не отпугнуть, а увлечь людей, может быть только общая, общеевропейская. Такой реалистической перспективой, безусловно, является концепция «Большой Европы» – от Лиссабона до Владивостока. И это не просто красивые слова, фигура речи. Это весомая, действенная и единственно практичная альтернатива, во-первых, тупику стабильного гниения, в который сегодня загоняют российское общество, а во-вторых, ново-старому мифу о национализме как единственно возможной движущей силе либеральной революции.
Для Европы (и для России с Украиной как ее неотъемлемых составляющих) такая самоидентификация и ее последовательное экономическое, политическое и военно-стратегическое воплощение – единственный способ выживания и обретения нового, значительно более высокого качества в глобальной политике и экономической конкуренции с Северной Америкой и Юго-Восточной Азией в XXI веке.
Отдельно ни Европа, ни уж тем более «евразийская» Россия, отрицающая Запад и считающая его источником опасности, никогда этого не смогут.
Европа вообще может быть сильной и перспективной, только если европейский образ жизни будет постоянно расширяться, преодолевая сегодняшние границы. Как только она останавливается, полагая, что политическая Европа ограничена после присоединения стран Балтии бывшей советской границей, то такая лишенная энергии движения и важного
Новая идеология: мифический «полюс силы» как высшая ценность
содержания Европа будет все больше бюрократизироваться, застывать, разлагаться.
К тому же, Россия и Украина со своим культурноисторическим опытом, сохранившимися, вопреки всему, традициями и творческим потенциалом могли бы позитивно повлиять на решение многих европейских проблем.
В предыдущей главе было сказано, что авторитарная власть в ее классическом виде не склонна придавать большое значение выработке единой общей идеологии, ограничивая себя контролем над властными – финансовыми и административными – рычагами, но не над умами и помыслами подконтрольного ей населения. Последним уделяется не так много внимания, а там, где оно присутствует, оно, как правило, ограничивается провозглашением в качестве идеологии набора общих мест в духе борьбы за все хорошее против всего плохого. Это положение, безусловно, верно в ситуации, когда автократия находится в периоде своего становления или расцвета и чувствует себя достаточно уверенно, чтобы не искать себе дополнительные опоры в виде всеобщей и обязательной идеологии. Тем более что использование последней для управления обществом несет в себе не только потенциальную выгоду, но и определенные сложности и риски: глубинные чувства и инстинкты, к которым часто апеллируют идеологии, легко возбудить, но крайне трудно поставить под контроль и ограничить, когда интересы власти этого потребуют.
Однако там же, в главке «Поиски идеологии», уже было отмечено, что для современного российского авторитаризма период расцвета и уверенности в своих силах продлился не так долго. Приблизительно к концу десятилетия 2000-х гг. стало очевидно, что невозможно продолжать быстро и зримо увеличивать доходы населения. Одновременно проявились жесткие пределы возможностей присвоения и распределения элитой щедрой административной ренты, которая в это время фактически перестала расти.
Тогда же, как было сказано, активизировались поиски дополнительной опоры в идеологической сфере, которая в итоге была найдена в консервативно-охранительной идеологии (сакральность власти, «народность» как неотделимость народа от власти и власти от народа, упор на «традиционные ценности») с изрядной долей державности (завышенной самооценки проповедуемого симбиоза народа и власти) и ксенофобии (враждебный окружающий мир, страна в осаде недругов и их пособников и т.п.). Все эти элементы, как мы отмечали, в конце первого десятилетия 2000-х годов приобрели достаточно осязаемый характер, прочно закрепились в стиле и содержании политического контента государственных и окологосударственных СМИ, а также в официальных речах и выступлениях представителей властной верхушки и провластных деятелей культуры.
Наконец, там же было замечено, что идеологизация российской власти, ее попытка найти себе дополнительную опору через более агрессивную обработку общественного сознания, с одной стороны, является свидетельством того, что пик прочности системы уже пройден, и у нее пропадает или уже пропала былая уверенность в достаточности относительно комфортной и безопасной стратегии неидеологического контроля за ситуацией. С другой стороны, как было сказано, подобные действия власти являются крайне рискованными, поскольку будят и поднимают в обществе силы с большим деструктивным потенциалом, контролировать которые крайне непросто.
В таких условиях естественным и весьма соблазнительным способом решения этой дилеммы становится превращение государства в идеологическое, в котором защита, пропаганда и насаждение удобной для власти идеологии становится государственным делом, а все остальные взгляды, помимо официальных, выводятся за пределы допустимого и эффективно подавляются. Другими словами, власть в этом случае становится на скользкий путь превращения авторитарной системы в тоталитарную со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но именно эти тенденции в последние годы в возрастающей степени проникают в российскую общественно-политическую жизнь и, более того, начинают в ней закрепляться. Все перечисленные в предыдущей главе основные черты «нового курса» (хотя все его элементы просто взяты из разных эпох российской истории от раннего самодержавия до советской власти и эклектически перемешаны[29]) в последние годы стали полноценными составными частями официальной идеологии и заменили собой пережитки фразеологии «переходного периода» с ее ритуальными клятвами в верности принципам демократии, прав человека и свободной экономики. Курс на политическую изоляцию страны от «западного» влияния сделал последние не просто излишними, но даже вредными с точки зрения мобилизации поддержки населением нового идеологического курса. Именно поэтому все «установочные» выступления и документы последнего года, исходящие с самого верха властной вертикали, уже практически свободны от следов либеральной парадигмы и однозначно ориентированы на идеи единства и монолитности власти, ее прямой опоры на «волю народа» (без отсылок к механизмам представительной демократии), строительства отношений с внешним миром исключительно на собственных условиях и с позиции силы.
Чрезвычайно большое место в новой идеологической парадигме занимает также тезис о том, что долг власти – хранить и укреплять традиционные ценности, оберегая их от возможной «порчи» (размывания) внешними воздействиями и влияниями. При этом сами эти ценности, во-первых, тесно увязываются с русской этничностью и российской территорией, а во-вторых, рассматриваются как данность («глубинные основы»), которая не подлежит ни изменению, ни переосмыслению, ни даже адаптации к новым реалиям. То есть, по сути, власть в этой новой идеологической конструкции уже рассматривается не как продукт некоей общественной договоренности, а как непосредственное выражение народного (национального) духа, «духа территории», смысл существования которой состоит в организации противодействия изначально враждебному и чуждому внешнему миру.
Естественно, что в такую картину организации и функционирования власти не вписывается ни разделение (распределение) ее между конкурирующими субъектами, ни какая-либо форма контроля за ее (высшей власти) деятельностью. Максимум, что возможно вписать в эту конструкцию, – это определенный (пусть и малорезультативный) контроль снизу, со стороны населения, за деятельностью низовых звеньев государственного аппарата. То есть речь может идти о сотрудничестве с населением в деле контроля за мелким «служивым людом», но не выше и не более того.
Смена акцентов в области идеологии, естественно, сделала необходимыми и соответствующие изменения в редакционной политике федеральных телевизионных каналов как главном инструменте работы с общественным мнением. Из эфиров стало исчезать любое, даже критическое упоминание о наличии иных, помимо официальной, точек зрения, а в тех случаях, когда упоминание о них все же присутствует, оно неизменно сопровождается замечанием о наличии в стране «пятой колонны», работающей на зарубежные интересы. Носители иных идеологий переквалифицированы из интеллектуальных сектантов в сознательных врагов национальной государственности, которым не должно быть никакого, даже маленького места в общественно-политической активности, а градус самой пропаганды повышен до максимально возможного, граничащего с истерией. Все институты, имеющие выход на общественное мнение – от Государственной Думы до Общественной палаты, – очищаются от «смутьянов», использующих свой статус членов этих институтов для публичного выражения антивластных суждений.
Одновременно была повышена роль правящей идеологии как теоретического обоснования политической и бытовой ксенофобии и исключительной роли государственного самосознания. Понятие «русского мира» (в противовес понятию российской гражданской нации), до того служившее преимущественно предметом интереса интеллектуалов национально-патриотической ориентации, стало не только частью официальной доктрины, но и неформальной основой внешнеполитической стратегии на постсоветском пространстве, трактуемой близкими к власти идеологами политической и территориальной экспансии России как этнонационального государства. Лозунг «собирания русских земель» и «единства русских людей», если не по форме, то по существу, стал новой государственной идеей.
Излишне говорить, что важной частью официальной идеологии стало отрицание универсальных ценностей «демократии и прав человека». Эти понятия приписываются «враждебному Западу», что позволяет, если не отрицать их полностью, то жестко ими манипулировать. Любые ограничения этих прав, их всяческое сужение становится не нарушением принципиальных норм человеческого общежития, а естественным правом государства на защиту своей безопасности и самобытности, якобы вытекающей из национальных традиций и ценностей. По сути, это утверждение прежней концепции «суверенной демократии» в качестве части теперь уже более целостной официальной идеологической доктрины.
Другими словами, стихийно выработанная российским постсоветским авторитаризмом собственная идеология не только повысила свою значимость в жизни государства и общества, но и приобрела начальную форму идеологии евразийского государства как воплощения многовековых «русских» полиэтнических ценностей, якобы состоящих в отрицании индивидуализма и корыстолюбия, в растворении отдельного человека в имеющем трансцендентный смысл особом общественном организме – симбиозе народа и авторитарной власти. При этом последняя мыслится как существующая изначально и независимо от современного общества – как бы до и отдельно от конкретных людей.
Конечно, элементы такой идеологии существовали задолго до нынешней реинкарнации российского авторитаризма, ее корни подчас уходят на столетия назад. Будучи сформированной как нечто целое на обочине философской мысли прошлого столетия, она оказалась востребованной доморощенным периферийным авторитаризмом, поскольку в общем и целом удовлетворила его потребности в идеологических средствах консолидации власти и ее защиты от внешних и внутренних угроз – как реальных, так и воображаемых. Более того, ощущение необходимости такой защиты оказалось настолько сильным, что пересилило и явные неудобства этой идеологии для управления обществом. А ведь проблемность такой идеологии именно для этой цели в российских условиях очевидна и состоит, во-первых, в том, что слишком большие общности, прежде всего национальные меньшинства, начинают ощущать неустранимую двусмысленность своего положения в государстве, а во-вторых – в непонятном положении «зависают» и некоторые унаследованные от предыдущего периода институты, – например, партии, создававшиеся в рамках иной парадигмы политического развития; образовательная система, в нынешней организации которой заложен непозволительный в рамках новой идеологии плюрализм, и некоторые другие.
Тем не менее, политический выбор на уровне верховной власти, похоже, уже сделан, и все последующие шаги будут направлены на консолидацию идеологии русского государственного евразийства в качестве государствообразующей идеи и адаптации к ней существующих государственных и общественных структур и институтов. Вскоре встанет вопрос – как со всякой государственной идеологией: насколько жестко и с какой конкретной политической целью такая идеология будет использоваться. В ближайшее время мы узнаем ответ.
Политическая модель: поиск идеальной вертикали
Наконец, третьим трендом из числа перечисленных в самом начале этой главы стало движение к чрезвычайно жесткой вертикальной политической модели, ставшее особенно заметным в ходе «крымской кампании» и непосредственно после нее.
Главное содержание этого движения – стремление системы избавиться от лишних, чужеродных для нее элементов политической конкуренции и каких бы то ни было альтернативных источников власти. В предыдущей главе мы говорили о том, что нынешний российский авторитаризм вырос и консолидировался из эклектичной реальности постсоветского перехода – в результате длительного поиска, во многом стихийного и неосознанного, той политической модели, которая смогла вы выразить и защитить интересы нового правящего в стране класса, – класса постсоветской номенклатуры.
Естественно, процесс этого поиска не был простым и прямым. Наиболее наглядно сопутствующие ему зигзаги и переломы проступали в некоторые особенные периоды истории постсоветской России. Прежде всего, это были первые годы после краха советской системы, закончившиеся печально известными событиями осени 1993 г. и разработкой принципиально новой политической конструкции – президентской (или, как формулируют некоторые эксперты, суперпрезидентской) республики. Затем это был период президентской выборной кампании 1996 г., когда тогдашняя правящая группа впервые отказалась от идеи действительно конкурентных выборов. Потом – 1999 год, когда правящая команда впервые использовала институт кулуарной передачи власти – фактическое назначение уходящим (в силу объективных причин) лидером правящей группы официального преемника российского «престола». Затем, в начале 2000-х годов, последовало пресловутое «строительство вертикали», главным содержанием которого стало ограничение любого рода политической «самодеятельности» в регионах и в политических партиях.
Восстановление, хотя бы частичное и ограниченное, губернаторских выборов и некоторое ослабление ограничений на партийную деятельность в 2012—2013 гг., казалось, обозначило некоторое отступление от генеральной линии на сворачивание политической конкуренции, но уже в начале 2014 г. политическая атмосфера в стране сгустилась до беспрецедентного уровня, когда уже сам принцип политического плюрализма был поставлен под сомнение, а грань между оппозиционной и «подрывной» политической деятельностью была затерта до состояния неразличимости.
В чем можно усмотреть особенности ситуации и тенденций в этой сфере, наглядно проявившиеся в начале 2014 г.?
Во-первых, это окончательное исчезновение различий между официально правящей и представленными в Государственной Думе оппозиционными партиями с точки зрения их политического лица. Тот факт, что в парламенте перестала звучать критика главы государства не только по поводу его действий в связи с украинским кризисом, но и вообще по любым вопросам, нельзя объяснить ни, как это пытались сделать, всеобщим «патриотическим подъемом», ни якобы неуместностью критики верховной власти в критически важный и ответственный период. Нюансы и различия в партийных подходах к важнейшим политическим вопросам не исчезают до конца даже перед лицом реальной внешней угрозы, если эти партии находятся в отношениях конкуренции и представляют различные группы внутри элиты. В условиях же, когда нет очевидных признаков явного усиления или актуализации таких угроз, когда вопрос выживания государственности в гораздо большей степени связан с характером и содержанием реакции власти на внутренние вызовы, столь трогательное единодушие власти и официальной оппозиции свидетельствует о другом. А именно: либо все эти партии являются не более чем различными функциями одной и той же правящей группы, обслуживая, в сущности, одни и те же интересы; либо, что столь же вероятно, правящая команда решила для себя, что внутриэлитные разногласия представляют для нее недопустимую угрозу, и их нужно, как минимум, загнать глубоко внутрь и не допускать их публичного проявления даже в мягкой форме парламентских дискуссий.
Так или иначе, но к настоящему моменту представительские институты федерального уровня, и в первую очередь Государственная Дума, предстают в форме части единого монолита авторитарной власти, не допускающей даже малой возможности кристаллизации альтернативных ей структур в легальном политическом поле. Исключить такую возможность при наличии многопартийности можно лишь путем ликвидации даже намека на альтернативность парламентских партий – или же путем ликвидации самой этой многопартийности. Очевидно, что правящая группа выбрала первый путь, используя для этого свои отношения с верхушкой «оппозиционных» партий и огромные возможности воздействия на эту верхушку с помощью различных бонусов или, наоборот, репрессий.
В немалой степени это связано и с охарактеризованным выше процессом активной идеологизации авторитарной власти, ее движения к идейному тоталитаризму. Само наличие официальной идеологии, обязательной к исповедованию каждым, кто не хочет быть зачисленным в предатели и враги государства, предполагает политическое единство и отсутствие структур, заявляющих себя как альтернативные.
Правда, и парламентские выборы как институт при этом окончательно лишаются практического смысла. Если в предшествующий период они рассматривались правящей командой как чрезвычайно широкий по охвату опрос общественного мнения, легитимизирующий роль и положение абсолютного лидера, то при отсутствии каких-либо внятных различий между партиями (кроме имени лидера) проведение выборов лишается и этого смысла. Они либо превращаются в фарс, в заранее расписанный на роли и тщательно отрежиссированный спектакль, либо ликвидируются как институт. Какой из этих двух возможных путей будет избран властью, покажет время – скорее всего, вопрос будет решаться ситуативно. Однако в любом случае этот чужеродный для тоталитарной или полутоталитарной системы институт в нынешних российских условиях выглядит обреченным.
Во-вторых, это консолидация правящей группы с точки зрения ее экономических интересов, резкое ограничение хозяйственного лоббизма. Что здесь имеется в виду?
В течение десятилетия 2000-х гг. в рамках правящего класса можно было выделить несколько течений, ориентирующихся на различные хозяйственные уклады и области деятельности – от сырьевого сектора и инфраструктурных мегапроектов до обрабатывающих и даже технологически продвинутых экономических кластеров. Отдельно существовала группа, делавшая ставку на современный финансовый сектор («превращение Москвы в международный финансовый центр»). Существовали и течения, представлявшие различные территориальные интересы и приоритеты, – например, акцент на ускоренное развитие восточных регионов, освоение ресурсов в Арктике и т.п.
Эти течения формировали для себя определенное теоретическое обоснование, различающиеся между собой концепции экономического и социального развития. Если одни делали упор на концентрацию финансов и инвестиционной деятельности в руках государства, на «мегапроекты», разработанные под существующие или будущие гигантские госкорпорации, то другие – на облегчение налоговой нагрузки на бизнес, на поощрение преимущественно мелкого и среднего предпринимательства. Концепции создания «энергетической сверхдержавы» противостояла концепция «модернизационного роста» с опорой на высокотехнологичные «кластеры». По разному виделась отдельным группам и течениям роль иностранного капитала.
Дискуссии и споры между носителями и оппонентами соответствующих концепций в изобилии велись в средствах массовой информации и прослеживались в кулуарных схватках экспертных групп за расположение со стороны верховной власти и дополнительные возможности влияния и финансирования. Наконец, эти течения даже получали определенное институциональное оформление в виде разного рода структур – советов, ассоциаций и т.п., способных выражать и отстаивать различающиеся между собой групповые интересы.
Это, конечно, не было политической конкуренцией в чистом виде, однако соревнование лоббистских и подобных им структур за привлечение на свою сторону большего финансово-административного ресурса, безусловно, несло в себе и элементы политического соревнования. Даже действуя в условиях жестких ограничивающих рамок, они, тем не менее, придавали системе большую гибкость и снабжали ее механизмами обратной связи, позволяя ей в известных пределах модифицироваться в соответствии с вызовами времени.
Теперь же возрастание общей жесткости конструкции затронуло и эти ее элементы. Бюджетные ограничения, усиливаемые падением эффективности и ростом расходов на покрытие издержек, связанных с самоизоляцией, сузили пространство для маневра, порождающее конкуренцию экономических интересов. «Новый курс» жестко фиксирует отраслевые и территориальные приоритеты, во многом обессмысливая лоббистские усилия, а новые идеологические «скрепы» резко принижают значение и смысл интеллектуальной поддержки конкурирующих экономических интересов. К этому же ведет линия на еще большую концентрацию права принятия решений в руках одного-единственного человека, который к тому же становится все более нетерпимым к протестам и возражениям, все более категоричным в своих суждениях о людях и группах, высказывающих свое неприятие происходящего. В итоге даже такая конкуренция рассматривается как угроза и становится объектом репрессивного давления.
И, наконец, в-третьих, это отказ от горизонтальных связей элементов политической системы с внешним миром. Курс на самоизоляцию подразумевает, что любые контакты на уровне отдельных институтов, – контакты, не выходящие непосредственно на вершину властной пирамиды, – становятся не просто лишним, но и потенциально опасным действием. Это относится не только к неправительственным или полуправительственным институтам (академическим, экспертным, культурно-просветительским, благотворительным), но и к вполне официальным структурам – региональным правительствам, территориальным ассоциациям, администрациям территориальных и иных образований с особым хозяйственным режимом и т.д.
В итоге общий объем внешних контактов начинает неизбежно сокращаться, что косвенно оказывает сдерживающее действие и на хозяйственную деятельность на территории страны иностранных субъектов или юридических лиц с иностранным участием. Политика привлечения зарубежного капитала меняется на индифферентное, а то и враждебное отношение к нему со стороны властей. Это еще не закрытие страны, но существенный шаг к таковому, который может иметь серьезные долгосрочные последствия.
Конечно, сегодня этот процесс находится еще на самой ранней стадии, но некоторые очевидные его признаки уже можно обнаружить и оценить.
В сферу повышенного внимания в этом плане будут попадать не только и не столько гражданские активисты и «неприкаянные» оппозиционеры, сколько как раз люди из рядов внешне абсолютно лояльной бюрократии, которые имеют возможность свободно контактировать с внешним миром и обзаводиться зарубежными активами в той или иной форме. Право бюрократии на подобное непатриотичное поведение, казавшееся незыблемым еще несколько лет назад, сегодня ставится наверху под сомнение, и у элиты появляются веские основания полагать, что новая политика по отношению к космополитичной части элиты, вводится всерьез и надолго.
Кампания «деофшоризации» и «национализации элит» легко может быть развернута именно в эту сторону, и уже есть признаки того, что полноценный процесс движения в данном направлении не заставит себя ждать.
От периферийного авторитаризма к авторитаризму провинциальному
В предыдущих главах я пытался показать, что авторитаризм как политическая система является, в сущности, неизбежным или почти неизбежным следствием господства в стране капитализма периферийного типа, как бы естественно ему сопутствуя.
Это связано, я напомню, с тем, что периферийный капитализм по своей природе не создает достаточных оснований для полноценного функционирования институтов политической конкуренции, поскольку именно в силу своей периферийности опирается на небольшое число достаточно простых по своему содержанию ресурсов. Это могут быть природные ресурсы, представляющие интерес для ядра мирового капитализма, это может быть изобилие дешевой рабочей силы, а может – и экономия на материальных и транспортных издержках. Однако в любом случае возможностей для встраивания в экономику мирового капитализма относительно немного, они достаточно просты и очевидны, а потому легко поддаются контролю и монополизации той частью правящего слоя, который занимает в стране ключевые властно-административные позиции. Она, эта часть, с неизбежностью подчиняет себе существующие и возникающие экономические структуры, а это, в свою очередь, подрывает саму возможность открытой и относительно честной конкуренции различных политических групп и сил. Альтернатива правящей группе душится экономически в результате отсутствия у нее возможности обзавестись собственной независимой и легальной материальной базой. Ибо не может быть реальной политической конкуренции в системе, где все главные экономические ресурсы находятся под контролем одной-единственной группы.
Эта закономерность действует, хотя и с известным своеобразием, во всех странах мировой периферии, даже если формально в них и провозглашаются политические свободы, многопартийность, институт выборов и все остальное, что принято считать признаками политической демократии. Российский вариант, в основных чертах подтверждающий эту закономерность, осложнен олигархической структурой и условным характером собственности, запрограммированной залоговыми аукционами и другими формами произвольного дележа собственности, практиковавшимися в нашей постсоветской истории.
Однако в любом случае периферийный капитализм с большим трудом поддается политическим преобразованиям в направлении конкурентного правового государства. В частности, в нем, как правило, нет возможности независимого финансирования политических партий, гражданских организаций, ответственных и независимых СМИ, отражающих широкий спектр квалифицированных мнений по насущным общественным проблемам. Нет возможности выстроить правовую систему так, чтобы она не зависела от воли одной-единственной группы, занимающей ключевые позиции в административной системе и имеющей в силу этого возможность по собственному желанию и разумению регулировать ключевые потоки финансовых и материальных ресурсов.
В таком обществе определение вектора его развития через взаимодействие различных групп интересов, что, собственно, и составляет реальное содержание политической демократии, становится невозможным и заменяется безраздельным господством субъективных, чаще всего весьма небескорыстных устремлений и представлений узкой группы лиц, обладающих монополией на власть и управление крупными хозяйственными активами.
С другой стороны, формирующийся в странах мировой периферии авторитаризм по своему характеру также является периферийным по отношению к ядру современного мира. Обладая огромными возможностями контролировать свое собственное общество, в международном плане он находится «в хвосте» мировой политики и не способен влиять на ее магистральное направление движения.
В то же время, как мы уже отмечали, состояние общества и государства не определяются только экономикой и ее положением в системе мирового хозяйства. Существенными факторами являются политическая воля, состояние (или просто наличие) элиты, целостность и господствующие идео-логемы национального сознания. Если бы это было не так, в истории не было бы случаев, когда те или иные страны и общества делали рывок, переходя на другую орбиту движения, существенно приближаясь к центру, к ядру мирового развития. Ни одно общество не является по определению «приговоренным» к вечному отставанию и роли дальней периферии мирового хозяйства и глобального сообщества. Точно так же и достигнутое кем бы то ни было положение в центре этого хозяйства не может гарантировать, что такое его положение будет сохраняться вечно.
Конечно, изменение своей судьбы требует сознательных и упорных усилий, и это утверждение справедливо как для отдельного человека, так и для стран и народов. Путь с периферии к центру требует не только времени и сил, но и ума, знаний, умения маневрировать, находить выход из невыгодных и даже проигрышных ситуаций, в том числе путем игры на противоречиях между конкурентами и на их слабостях. Вести страну по этому пути задача элиты общества, которая должна быть не просто образованной, но и активной, целеустремленной, способной идти на конфликт с наиболее косной и реакционной частью собственного общества и побеждать в этом конфликте. А для этого, в свою очередь, она должна обладать соответствующей идеологией – стремлением активно участвовать в международной борьбе за экономическое и технологическое лидерство, не боясь конкуренции и не рассчитывая на поблажки и привилегии, тем более на автоматическое получение желаемого высокого статуса. Элита должна понимать, что в жестком мире международной конкуренции «в зачет» не идут ни прошлые заслуги, реальные и мнимые; ни самопровозглашаемое историческое величие; ни претензии на ведущую роль, не подкрепленные реальными возможностями и ресурсами. Более того, она не должна бояться ни признания совершенных ошибок, ни необходимости, если того требуют интересы дела, играть роль младшего партнера, не способного навязать ведущим игрокам свой взгляд и свое видение ситуации.
Если же она оказывается лишена всех вышеназванных качеств, то даже частичное преодоление отставания от «центра» становится практически невыполнимой задачей, а естественной реакцией на нее – желание уйти от борьбы, прикрывшись лозунгом самодостаточности и изначального духовного превосходства. И в этом случае периферийность, которая сама по себе не исключает нацеленность на ее постепенное преодоление, превращается в про-винционализм, особенностью которого является отчетливое нежелание менять свое положение в мировой системе координат; убежденность в том, что ставшее привычным положение и соответствующий ему образ жизни являются лучшими из возможных. И тогда бедность преподносится как благо, застой – как дающая уверенность стабильность, косность и нежелание меняться – как верность традициям. А ощущение собственного величия становится изначально данным, не требующим подтверждения ни реальными достижениями, ни победами в конкурентной борьбе.
С этой точки зрения и с учетом событий 2014 года характеристика российского авторитаризма как периферийного требует уточнения.
Прежде всего следует сказать, что несмотря на постоянно провозглашаемые «особость», суверенность и принципиальную неподчиненность всему остальному миру, российский авторитаризм остается периферийным. Остается уже потому, что отвергая для себя возможность участия в глобальном управлении, хотя бы и на вторых ролях, он тем самым лишь подтверждает свою периферийность. Ведь отказываясь выступать в роли пусть и не главного, но все-таки субъекта мировой политики, он все равно остается ее объектом: просто те вопросы, на решение которых он мог бы оказать то или иное влияние, теперь будут решаться без него и без учета его интересов.
Вместе с тем, отгораживая себя от мирового капиталистического ядра – отгораживаясь политически и, как следствие, экономически, – российский авторитаризм превращает себя в авторитаризм сугубо провинциальный. Из пригорода большого города, имеющего все шансы стать его частью и тем самым получить право на участие в его управлении, он пытается превратиться в глухую деревню, до которой этому городу, по большому счету, не будет никакого дела. Да, в этой деревне никто не будет мешать ему жить по-своему, по своим понятиям, даже если они обернутся нравами и образом жизни многовековой давности – с произволом сильных, бесправием слабых и подавлением всего, что движется или хотя бы шевелится без разрешения свыше. Но и вмешиваться в жизнь мирового «города» ему уже не позволят – ни прямо, ни косвенно, ни экономическим принуждением, ни силой оружия, даже если ему и удастся его сохранить.
Действительно, сегодня мы можем наблюдать, как в России формируется не просто периферийный авторитаризм, а авторитаризм провинциальный, кичащийся своим периферийным положением и стремящийся закрепить его ради сохранения власти в руках ныне правящей группировки. Он исключает подконтрольную ему территорию из мирового развития, сознательно противопоставляя себя силам глобального управления и заявляя о несогласии с принципами, на которых оно было построено после Второй мировой войны. Среди них есть и принцип иерархии силы и ответственности, согласно которому претензии на роль силы, определяющей правила международного поведения, должны подкрепляться адекватными этой роли экономическими, финансовыми и организационными возможностями. И, соответственно, путь к повышению своего статуса в рамках глобального управления лежит именно через наращивание этих возможностей, а не через отказ следовать правилам на том основании, что они установлены другими. Потому что правила, которые в более или менее устойчивом виде сформировались к концу XX века, являются результатом и следствием бесконечных войн, которые европейские страны вели друг с другом и с остальным миром в течение многих столетий, пытаясь доказать собственную исключительность, загубив при этом десятки миллионов человеческих жизней и уничтожив в бессчетном количестве плоды их усилий. И этот обильно политый человеческой кровью свод неписаных правил не будет изменен на основании того, что он не удовлетворяет амбициям и представлениям о справедливости одного национального лидера или даже группы таких лидеров, недовольных своим нынешнем положением в мировом сообществе.
Провинциальный авторитаризм в его российском варианте поступает по-другому: он стремится предъявить всему миру иные, свои собственные правила существования, пребывая в обывательской уверенности, что везде все именно так и устроено – от времен незапамятных и до наших дней, и с перспективой на обозримое будущее. При этом он претендует на безусловное сохранение этих правил в своей провинции, границы которой он определяет произвольно и по собственному усмотрению. «Русский мир» в нашем случае есть не более чем эвфемизм для обозначения такой провинции, простирающейся на все российское историческое пространство.
Вместе с тем возможности «узаконить» эти правила в масштабах всего мира практически отсутствуют.
Да, Россия обладает значительными военными возможностями, особенно если принять во внимание ее ядерный потенциал. Но ее экономические возможности крайне ограничены, несмотря на огромную территорию и природные ресурсы, которые, впрочем, далеко не всегда и не обязательно оборачиваются экономическими преимуществами.
О так называемой «мягкой» или «умной» силе – силе, использующей культурный и интеллектуальный потенциал общества – в нынешней ситуации не может быть и речи. В этом отношении мировая периферия ни при каких условиях не может соревноваться с центром, как и деревня – с городом, а территория массовой нужды – с обществом потребления. Даже пропаганда с использованием современных информационных технологий неэффективна: глобальный информационный мейнстрим она определять неспособна даже в малой степени, оборачиваясь бессмысленной растратой и без того ограниченных ресурсов на строительство воздушных замков и обман собственного населения.
Итог же всех этих усилий предсказать нетрудно. Логика развития провинциального авторитаризма ведет его к увеличивающемуся расхождению с глобальной политикой, к самоизоляции, к замыканию в себе с четкой перспективой коллапса, схлопывания внутрь.
Уход с этой траектории объективно необходим не только российскому обществу в целом, но и его политическому классу, и даже самому российскому авторитаризму, историческая судьба которого в случае продолжения нынешних тенденций может оказаться незавидной. И главный вопрос, ответ на который определит наше будущее, заключается в том, сможет ли российская политическая элита найти и мобилизовать в самой себе достаточные силы, чтобы переломить возобладавшие сегодня тенденции и попытаться заново вписать судьбу страны в мировой контент, найдя там для нее достойное место и перспективу на будущее.
Новый облик российского авторитаризма
Рассматриваемые в совокупности, вышеописанные тренды формируют новый облик российского авторитаризма, который формируется здесь и сейчас как логическое продолжение тех его черт, которые сформировались в предшествующий период, но приобрели новое качество под влиянием ужесточения внешних условий, в первую очередь сужения экономических возможностей.
Это сужение возможностей, в свою очередь, было неизбежным следствием периферийного характера российского капитализма, поскольку общее замедление роста мировой экономики и все более явственный отход ее центра от традиционных отраслей и сфер усложняет условия воспроизводства для экономик капиталистической периферии, к числу которых относится и российская. Не имея возможности и ресурсов для переориентации на сектора, обеспечивающие больший динамизм и щедрую отдачу от затраченных ресурсов, эти экономики сталкиваются с падением собственной эффективности, доходов и возможностей; с ростом неудовлетворенности наиболее энергичных и амбициозных групп населения, которые начинают либо в массовом порядке искать возможности работы за рубежом, либо выражают свое недовольство доступными им способами.
Кроме того, усиление проблем и рост ограничивающих факторов в глобальной экономике ведет к тому, что объективно сокращаются возможности обеспечить каждой из стран необходимые условия для экономического процветания. Это с неизбежностью побуждает более сильных игроков на мировой хозяйственной сцене меньше задумываться о состоянии «периферии» глобального бизнеса, в меньшей степени учитывать ее интересы в мировой политике и международных отношениях.
В случае России эти перемены воспринимаются особенно болезненно, поскольку национальная элита априори оценивает свою роль и свое место выше, чем это делают окружающие. Громко озвучиваемые претензии на большее вызывают у мировых лидеров раздражение; ощущение того, что российский руководитель пытается играть не по правилам, не «по понятиям» (а в случае с присоединением Крыма – и вовсе «беспредельничать»), что становится причиной новых глубоких обид и резких реакций.
Собственно, все это и привело к тому закономерному итогу, что эволюция постсоветской российской автократии пошла по пути замыкания режима «на себя» и усиления в нем тоталитарных черт, а не постепенной конвергенции с западным политическим мейнстримом. При этом следует оговориться, что конвергенция в данном контексте не означает устранение различий, и уж тем более подчинение поведения интересам более сильного. Сходство политических систем, основанных на внутренней политической конкуренции, безусловно, не отменяет конкуренцию внешнюю. Когда сторонников такой конвергенции (а именно она имеется в виду, когда говорят о необходимости «европейского пути», или «европейского выбора» для России) обвиняют в том, что они собираются «лечь под Запад» или «под США», то это не более чем пропагандистская ложь (если речь, конечно, не идет об отдельных маргиналах или откровенно больных людях).
Если смотреть на мировую политику беспристрастно и непредвзято, то нельзя не заметить, что конкуренция между государствами ядра мирового капитализма острее, нежели конкуренция между ними и мировой периферией – точно так же, как внутривидовая конкуренция в животном мире гораздо ожесточеннее межвидовой. Схватки между отдельными компаниями и группами за рынки и, соответственно, перспективы больших будущих доходов, протекают острее, чем схватки между средневековыми монархами за новые территории для освоения и грабежа. Разве что при этом льется не кровь, а лишь невидимые миру слезы, однако накал страстей и масштабы интриг, а также оказываемого давления, нажима и затрачиваемых ресурсов таковы, что многие войны прошлых столетий кажутся рядом с ними детской игрой «Зарница» советских времен.
И если бы Россия сумела совершить исторический прыжок из мировой полупериферии, где она находилась в высшей точке своей советской истории, в ядро всемирного капитализма, конечно, ни о какой идиллии отношений с другими частями ядра не могло бы быть и речи. Да, ей пришлось бы считаться с более сильными, уступать им в тех или иных вопросах. Однако при этом она могла бы отодвигать конкурентов на тех участках, где имела бы возможность сосредоточивать превосходящую массу ресурсов; строить коалиции, интриговать, но добиваться своих целей. Это в итоге давало бы ей шанс расти не только абсолютно, но и относительно, повышая свое место в мировой иерархии богатства, силы и влиятельности.
Но история распорядилась так, что этот шанс оказался утраченным на длительный срок. Конечно, ничего по-настоящему необратимого пока не произошло, но дорожный каток, если его уже разогнали, остановить довольно трудно, особенно если водитель не собирается это делать и, напротив, испытывает восторг от того, как окружающие в ужасе разбегаются, боясь оказаться на пути его движения.
Но каток предназначен лишь для того, чтобы закатывать все в асфальт. Для гонок на скорость и на выживаемость он абсолютно непригоден. В глобальной гонке индустриальных, постиндустриальных и просто современных экономик авторитарные режимы на длинных дистанциях неизбежно проигрывают, если не начинают эволюционировать в направлении продвинутых конкурентных систем, снабженных механизмами поиска и реализации общественных целей, позитивного отбора кадров, самокоррекции и страховки от глупостей и крупных долгосрочных ошибок. А наша система не только не двигается в этом направлении, но, наоборот, дрейфует в противоположную сторону.
Многие сегодня говорят о возвращении советских времен (имея в виду позднесоветский период, т.е. так называемую «эпоху застоя»). А некоторые – что на самом деле Россия ее и не покидала. Тем не менее, это не так.
На самом деле, то, что мы имеет сегодня – это не возвращение к «доперестроечным» временам; это, скорее, попытка перескочить через них куда-то на далекую историческую периферию через искусственное, вульгарное и спекулятивное противопоставление себя «европейскому» или, говоря сегодняшним языком, западному миру. Это откат по всем направлениям – от современных общественных институтов и модели организации хозяйственной жизни до сферы культуры, образования и идеологии.
Это – не что иное, как попытка уйти от реальной борьбы за место под солнцем для свой страны – уйти через погружение в свои слабости и страхи и несбыточные мечты о строительстве собственной «русской цивилизации». Это – попытка укрыться от действительных проблем, от поиска для них рациональных и устойчивых решений через попытку заморозить все общественные процессы, подменить их бесплодным поиском несуществующих новых и старых смыслов. Это – безответственная попытка замазать реально существующие риски вымышленными «смертельными угрозами» и безответственная готовность поставить под удар судьбу государственности в России в ее нынешнем виде и составе. Это, наконец, прямая попытка превратить территорию огромной и исторически совсем не бесперспективной страны в мировое захолустье без шансов стать одним из реальных мировых лидеров XXI столетия.
Как долго продлится это безумие, эта опасная игра, в которой ставкой является судьба страны и ее народа? История – капризная штука, и дать на это однозначный ответ сегодня невозможно. Многое, конечно, зависит от внешних обстоятельств; от того, как поведут себя другие международные игроки. Но в любом случае долг всех здоровых политических сил в стране – попытаться разработать и предложить реалистичную альтернативу, действительно реальный план выхода из нынешнего кризиса и, если нужно, навязать его напуганной и дезориентированной российской политической элите, заставить эту элиту выполнить свой долг перед страной и народом.
При всех реализованных и нереализованных опасностях, которые несет с собой нынешний российский режим, c точки зрения исторического процесса он представляет собой трагический гротеск.
Вместо заключения
Политическая система современной России является выражением и оформлением такого состояния умов властвующей уже в течение двадцати лет группировки, которое характеризуется практически полным отсутствием серьезных идеологических концептов, тотальным релятивизмом, фетишизацией личного потребления и обогащения. Несмотря на стремление придать своей политике идейную окраску, апеллирующую к самым простым инстинктам родоплеменной общности и неосознанному страху перед окружающим миром, эта группа на самом деле отвергает любые ценности, имеющие общественные масштабы и выходящие за горизонт индивидуального физического существования. Максимизация личного удовлетворения от использования своего ресурса власти и влияния, от возвышения над более слабыми и социально ущербными в сознании этой группы неизменно доминирует над долгосрочными интересами общности граждан, составляющих сегодняшнюю Россию. А это означает, что упрощение не только сознания, но и самой этой общности, структуры и содержания общественной жизни парадоксальным образом воспринимается ею как позитивное и желаемое явление.
Иначе говоря, эта система максимизирует общественную демодернизацию, деструкцию и минимизирует все смыслообразующее, этическое, эстетическое и конструктивное.
По сути она представляет собой разновидность некоего политического постмодернизма, подмену смыслов яркими картинками и символами, действующими на подсознание людей и не предполагающими их осмысления и сопоставления. В этом смысле, в частности, показательно нынешнее эклектическое соединение в государственной символике императорского герба, советского гимна и как бы «демократического» флага, по сути представляющее собой бессмысленное перемешивание исторических кодов. Да и сами эти символы целиком принадлежат прошлому, что лишний раз иллюстрирует органическую неспособность этой системы решать проблемы настоящего и будущего, которые она цинично отодвигает даже не на второй – на двадцатый план.
Нельзя сказать, что этот политический постмодерн представляет собой сугубо российское явление, – его ростки видны сегодня повсюду, не исключая и самые «продвинутые» в политическом отношении государства и общества. Однако здесь в силу особенностей «периферийного» самосознания элиты он приобретает, пожалуй, наиболее гротескные формы.
И в этом, на мой взгляд, состоит одно из его коренных отличий от тоталитарных систем прошлого века. Национал-социалистический режим в Германии и советская система в России не были ни гротескными, ни постмодернистскими – они вполне серьезно пытались навязать всему миру свое собственное, по-своему последовательное видение сущности общественных отношений, сводя их, в первом случае, к этническим и расовым, а во втором – к социально-классовым детерминантам. Каждый из них создавал работоспособную систему институтов, задачей которых было воплощение этого видения в реальность.
Более того, усилия в этом направлении имели масштабный и системный характер. И, в сущности, тот факт, что в прошлом веке весь мир жил и мыслил по канонам реального, а не постмодернистского сознания, и привел эти системы к закономерному концу.
Одна из них была физически разгромлена вследствие предпринятой ею агрессивной попытки выйти за рамки одного государства. Другая, также весьма опасная, по внутренним причинам в 1980-е годы резко изменила траекторию свойственного ей развития.
Ситуация с нынешней российской политической системой иная – она гротескна, потому что паразитирует на прошлом, не создавая ничего нового, – только расхожие клише и лозунги, за которыми нет реального содержания. Источниками нынешнего российского периферийного капитализма стало советское наследие, помноженное на реформы 90-х годов, не создавшие ни одного из необходимых для современной жизни институтов: ни закона как такового, ни правовой системы в целом, ни реального права частной собственности. Все это и многое другое, жизненно необходимое стране, было подменено имитациями – имитацией политической конкуренции, выборов, партий, парламента, правового порядка и т.п.
Но реальная жизнь не терпит вакуума. Появились сильные реальные институты-заместители: коррупция, отношения по «понятиям», вождизм, ручное управление и др. То есть институты в классическом понимании – как элементы системы управления и самоуправления общества – в России, конечно, есть, но по своему содержанию они являются демодернизационными, то есть ведут к необратимому отставанию, архаике, деградации и, в конечном счете, к общественному распаду.
Другими словами, современный российский периферийный авторитаризм носит не переходный, а тупиковый, демодернизационный характер. А главное, в силу своих встроенных черт, прежде всего в силу несменяемости и безальтернативности власти, он лишен внутренних механизмов и движущих сил самоадаптации к реальности и поиска ответов на внешние вызовы.
Поэтому правы те, кто считает, что этот режим исторически обречен; что он не сможет найти правильные формы и пути адаптации к реальным условиям – если, конечно, сами эти условия не изменятся в катастрофическом для мира направлении. Если весь мир не погрузится в пучину экономического хаоса и военных конфликтов, если он сможет нащупать путь к устойчивому росту в условиях мира и безопасности, то новое поколение российского политического класса – те, кому сегодня 20-30 лет, – не смогут долго сохранять и поддерживать политическую систему России в ее нынешнем виде, не поставив при этом страну под угрозу распада и разрушения.
А угроза такого развития событий есть, и она вполне реальна. Нынешняя система уже привела к трагическим последствиям, поставив страну на грань полномасштабной кровопролитной войны. Снова начинает работать порочный круг, когда пропаганда наличия внешней угрозы порождает или усиливает эти угрозы, а сверхусилия в военном строительстве через деградацию экономической базы снижают, а не укрепляют фактическую способность противостоять внешним и внутренним угрозам безопасности. Тем самым трагический фарс постепенно перерастает в реальную трагедию страны и общества.
Таким образом, система периферийного авторитаризма не просто оказывается неспособной решить главную историческую задачу России в XXI веке – преодолеть разрыв между нею и развитыми странами мира. Она начинает угрожать самому существованию страны в ее нынешнем виде, делая ее лакомой добычей для всякого рода экстремистов, политических мародеров и организованного криминала, которые способны превратить государство в пустую оболочку, лишенную способности выполнять даже самые базовые свои функции. О дальнейших перспективах развития событий при таком сценарии можно только догадываться.
Что же касается вопроса о том, есть ли из нынешнего трагического фарса выход в сторону модернизации и развития, то он по-прежнему остается открытым.
Summary for English readers
The key to understanding Russia’s present political system is a simple notion that it is neither a whim of history brought about by an individual will of Russia’s current leader nor an accidental deviation from the presumably natural path of building Western-style political institutions and practices. Indeed, the last two decades in Russian history did contain some important choices, which the country made, either consciously or unconsciously. Essentially, however, it was a prolonged but consistent process of authoritarian bureaucracy consolidating its self-perpetuating grip on political and economic power in the country. That is the gist and the essence of this book.
True enough, the entrenching power of centralized bureaucracy in Russia according to its ages-old tradition is embodied in the Kremlin, and the man who reigns in it at a particular moment, whatever his name may be. That gives Russian autocracy a distinct personal touch, with the man presiding over the state machine defining the style and agenda of bureaucratic rule. Nevertheless, the real power vests with the bureaucracy itself, which may be shaped and used for arbitrary ends though within limits, and able to resist the strongest pressures when its vital power instincts are infringed upon.
That is the reason why this book, which I hope tells a lot about “Putin’s Russia”, may appear too brief on Putin himself. Despite the nearly mystical power that both his loyalists and many of his opponents ascribe to him, he is essentially an integral part of Russia’s present political system, its product and explanation. His mindset is that of a typical member of Russia’s privileged bureaucratic class slightly influenced by peculiar secret-service fancies. A going theory that he by his personal will turned back the tide of 1990s and transmuted a young Russian democracy into a dictatorial state is nothing but a myth. In fact the opposite may be true: his power is a reflection and a direct continuation of the system of government and trends which materialized in 1990s.
It was exactly the time when the Soviet-era administrative elite, which had presided over the collapse of the Soviet Union and had taken control over what remained there after its demise, did not risk letting itself divide and create competing centers of power. Power in Russia remained undivided, the ruling group was subject neither to control from beneath or from competing rivals, nor to the possibility of replacement or rotation through collective decision of the privileged classes. Its power was limited only by the technical feasibility of policies to be implemented, not by binding obligations or external checks. Competition in political life was tolerated as long as rival groups aspired for the opportunity to influence the government, but not for the power it held. The single centre of undivided and unquestionable power (in the 1990s it was then-President Yeltsin) used competing groups below as checks and counterweights against each other, but its own power could not be either checked or counterbalanced.
It is exactly this kind of political system that was inherited and conserved by Putin. Moreover, he has stripped this system of unnecessary disguise and hypocrisy, and consolidated it, as well as its self-evaluation, thus making it more assertive. In fact, his personal contribution to the system could be summed up as two important things.
For one thing, he has determined the direction of its further course. As a possibility he could have opted to try changing the path of the system’s evolution towards laying the foundations for political competition and Western-style democracy, if he chose so. He did not do that for at least two reasons.
First, nobody really pushed him to do that. Neither the Russian political class at large, which had no aspirations for the role of the modernizer of Russian society. Nor the West, which talked to Putin as a man who was presiding over a country that had lost the Cold War and hence the right to participate in deciding the rules of international and even its own domestic political affairs.
Second, he himself being a true son of the old Soviet ruling elite (the siloviki part of it) did not believe in the power of political competition, considering it harmful to the unity of the Russian nation and to the strength of national statehood.
Another thing, which Putin contributed to the Yeltsintime political system, were his efforts to nullify elements that were alien to authoritarian system, that is 1) competitive elections and 2) independent private big business capable of gaining political power (the so-called “oligarchy”). In both cases he made a considerable advance in this direction even before the fresh round of authoritarian restyling of Russian politics in 2013-2014. The latter made the goal of building a near-classical autocracy based on “one nation – one leader” principle not only feasible but rather an inevitable achievement. By the time this book is published elections at almost every level have come to produce results that are 95% predictable, while the remaining 5% could be managed by other means or simply neglected. On the other hand, big private business not linked to big government survives, if it does, as a poor relic of the so-called “oligarchy” of the 1990s, and the last thing it wants to be thought of is its having any political ambitions.
As a result, what we are witnessing now in Russia is a consolidated, fully-fledgedautocracywith an indisputable leader presiding over privileged bureaucracy and a very large strata of public and semi-public workers, as well as straight dependents of the state, who rely on the government for their income and protection against all sorts of menace, both real and imaginary.
The reasons for that are plentiful, but one important factor, which is stressed in this book as being of utmost importance, is that contemporary Russia that emerged on the ruins of a former communist superpower is a peripheral and subordinated part of the global capitalist civilization, of its economy, technologies and politics.
Russia’s role in the global economy is limited to that of a supplier of hydrocarbons (and a small portion of other primary products) to more advanced and wealthy nations, with little chance of breaking the vicious circle oflow position, poor efficiency and low status. The result is an almost complete absence of sovereign business class, self-conscious and independent from government bureaucracy, which would be eager to integrate itself into global business aristocracy. Hence little motivation can be expected in the Russian political class to change domestic political and business rules in order to gain competitive power and international advantages.
The drive towards fully-fledged autocracy has been made easier by the weak political position of the country and its low economic status. Lack of powerful economic and political leverage intensifies Russia’s frictions with global political leaders, who tend to impose their will on the rest of the world. The resulting frustration nourishes authoritarian political trends and the forces promoting them while undermining the position of those advocating an open and free political system.
Moreover, the psychological heritage of a former superpower’s past glory and fancy ideas of a global mission come into unbearable contradiction with Russia’s dependent and subordinate position within the global hierarchy. That makes the Russian elite resent the rules being imposed on it by the established world leaders as well as those who are trying to do it. Putin’s anti-Western mood stems not so much from his personal views and tastes, but rather from the general sense of discomfort of the entire Russian establishment, aspiring to join the upper ranks of the world elite but failing to produce solid good reason to demand that.
The recent crisis in Russia-Ukraine and Russia-West relations should be analyzed with a broader view of the changing situation in Russia. In fact, it is only a piece of a bigger puzzle, an outer extension of deep divisions and frustrations tormenting the collective mind of the Russian political class.
It is true that major decisions in the Russian government system are made at the very top. Nevertheless, the top relies on reports from a broader range of administrators and functionaries who form the mood and presuppose the range of possible decisions. Political class at large is not a passive recipient of decisions made at the top – rather it determines their direction and range.
An acute and menacing crisis in Russia’s relations with the West resulting from Putin’s rejection of rules of behavior which are considered by the West to be universal and obligatory, is to a large degree his personal choice reflecting his personal vision. Nevertheless, the decision was not completely personal and free – it came in the logic of consolidating the autocratic government system which made systemic break with the West inevitable. Moreover, the need for consolidation of the system came out of its obvious inability to solve the problems Russia faces.
The control of the very top over the entire system, its governability and sense of stability have been undermined by a sharp reduction of growth rates and mounting difficulties in extracting dictatorial rent from the economy to be distributed among the privileged bureaucracy and thus uphold the autocratic rule. That produced the need to find new instruments to consolidate the system like more official indoctrination and control over media, accentuating real and imaginary dangers from external and internal “enemies”, fostering the feeling of being victimized by a hostile world.
Hence, the situation could not be reversed easily by a single decision, even if Putin were prepared to make it. To turn the tide back, systemic changes in the mindset and world vision of the Russian political class are a necessary condition. This is a fundamentally difficult task that would take years to solve, but there is no other way to achieve a lasting settlement. Attempts to solve the issue by sanctions and private deals with Putin will be short-lived and ultimately fruitless. The only practical way to prevent Russia from fundamentally isolating itself from the West is to make it choose a difficult and painful road of converging with the mainstream of global capitalism and adapting to its realities and to wage an honest dialogue with the Russian political class at large.
Автор выражает признательность за поддержку при подготовке книги, участие в обсуждении и редактировании рукописи В.В. Когану-Ясному, В.Г. Швыдко, А.В. Космынину, а также редактору Ю.А. Здоровову.