Симфония тьмы Абдуллаев Чингиз
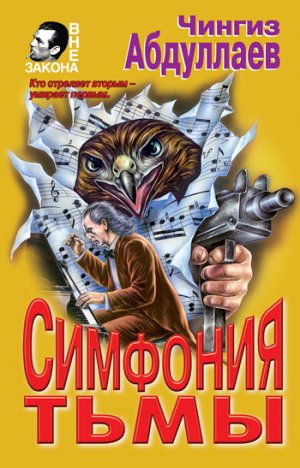
Официант принес сразу несколько блюд. Дронго, заказавший себе мясо с жареным картофелем, с ужасом обнаружил, что выбрал какой-то непонятный сырой фарш, смешанный с луком и специями. Он недоверчиво посмотрел на официанта.
– Я заказывал именно это?
Официант, не знавший английского языка или не желавший на нем говорить, сделал вид, что не понял клиента. Дронго покачал головой:
– Может, вы переведете этому типу, чтобы он принес мне нечто другое. Пусть запишет в счет это блюдо, но я его не смогу съесть при всем желании.
Якобсон улыбнулся и перевел все официанту. Тот, пожав плечами, унес тарелку с едой, не став спорить с таким привередливым клиентом.
– Почему они такие упрямые? – вздохнул Дронго. – По-моему, это у французов просто национальный идиотизм. Многие принципиально не говорят по-английски, а парламент даже принимает законы, запрещающие употреблять английские слова. Мне кажется, в этом есть какая-то фобия. Не знаю даже, как ее назвать. Они хотят таким своеобразным образом защитить свою культуру. Мне тоже не все нравится в нашествии американской культуры на Европу, но пытаться отгородиться вот таким образом – это нечто архаичное.
– Конец двадцатого века – это время бурного роста всякого национализма, – согласился Якобсон. – Многие маленькие нации и народы начинают понимать, что теряют свою самобытность, теряют своеобразие, растворяясь в общем котле человечества. Национализм и есть ответ на этот вызов времени. После создания мировой системы Интернет говорить об обособленном государстве уже невозможно. Вы можете прямо из своей квартиры поговорить с президентом США и получить последнюю информацию из Буэнос-Айреса. Многие еще не могут с этим освоиться. Реакция отторжения – естественная реакция любого народа. А для французов, у которых такая история и литература, опасность стать второсортной нацией с второсортным языком при засилье английского слишком очевидна. Может, потому в этой стране так растет влияние националистов и ультрарадикалов.
– Не люблю националистов, – отмахнулся Дронго, – в них всегда есть нечто ущербное и агрессивное одновременно. Это меньше всего касается французов, которые пытаются отстоять своеобразие своей культуры, не покушаясь на ее интегрированность в мировой процесс.
А вот конфликты в Восточной Европе – это уже нечто другое. Здесь стремительно растет число президентов, премьеров, министров, послов, национальных парламентов, национальных символов, национального идиотизма. По моему глубокому убеждению, национализм начинается там, где национальная интеллигенция начинает свои дешевые популистские игры с народом. Понимая, что обречена на исчезновение, в большинстве своем страдающая импотенцией, национальная интеллигенция любит рассуждать о национальных приоритетах и ценностях. Я просто хорошо знаю, как начинались все конфликты в бывшем Советском Союзе, на Кавказе, в Прибалтике, на Украине. Кто громче всех требовал отделения? Кто говорил о размывании национальных ценностей? Наименее талантливые и наиболее одиозные представители интеллигенции, которые могли сделать себе имя только на таком оголтелом национализме.
Ведь в случае отделения и создания маленького, но своего государства эти непризнанные поэты и писатели, художники и композиторы сразу становятся своеобразными «национальными ценностями», известными в своей маленькой стране. Состояться в империи, суметь чего-то добиться в большом мире они не могут, а вот покрасоваться в своей деревне, стать первыми в своей провинции – это для них. Несчетное количество представителей местной интеллигенции, понимавших, что никогда, ни при каких обстоятельствах они не могут состояться в большом государстве! Почему среди националистов не было людей всемирно известных? Почему не было людей, творчески состоявшихся? Можно ли представить себе националистом Пикассо? Кстати, к какой культуре его отнести – к французской или испанской? Или Хемингуэй, который одинаково любил свою страну, Францию и Кубу. Толстой уверял, что патриотизм – это последнее прибежище негодяев. И очень много лет я считал, что классик ошибается, что невозможно так говорить о любви к своей Родине, о чувствах к своей земле, к своей стране.
И только сейчас я вдруг понимаю, насколько он был прав. Не в смысле того, что патриотизм – плохое чувство. Я вдруг понял, что именно он хотел сказать. Не сам патриотизм как составная часть человеческого космоса, а использование патриотизма в своих целях негодяями. Когда уже не остается никаких аргументов в споре, когда единственной защитной цитаделью остаются национальные приоритеты, словно броня защищающие бездарность и подлость от окружающего мира. Патриотизм – это последнее, к чему прибегают негодяи для своей защиты. Вот именно это и хотел сказать классик. Именно так.
Официант принес другое блюдо. На этот раз он поставил его на стол и быстро удалился. Якобсон усмехнулся:
– Вы философ, Дронго.
– Я становлюсь им со временем. Ваш Фонд ведь учреждение достаточно космополитическое, насколько я понял. И сфера его интересов весьма широка – от Бразилии до Индии.
– По-моему, вас больше интересует наш Фонд, чем Ястреб, – осторожно улыбнулся Якобсон.
– Верно. Я обязан понять, почему он хочет убить именно композитора Осинского. Именно того человека, которого опекает ваш Фонд. Может, дело в вашем Фонде, а не в самом музыканте.
Якобсон, потянувшийся за бокалом вина, замер. Метнул быстрый взгляд на своего собеседника.
– Что вы хотите этим сказать?
– Я должен несколько больше узнать о вашем Фонде. Иначе просто не смогу взять на себя ответственность за должную охрану мистера Осинского.
Якобсон осторожно выпил вина. Совсем немного, чуть-чуть. Медленно поставил бокал на стол.
– Вы действительно считаете, что это необходимо?
– Если вы чуть повернете голову, – тихо произнес Дронго, – вы сумеете заметить за тем столиком двух мужчин. Они пьют пиво. По-моему, мы им явно не нравимся. Они идут за нами от самой гостиницы. Вам нравится такая опека?
Якобсон покачал головой.
– Я думал, вы не заметите. Это сотрудники нашего Фонда, они обеспечивают мою личную безопасность.
– Если так будет продолжаться, – засмеялся Дронго, – я останусь без работы. У вас слишком много телохранителей.
Глава 8
Он помнил этот день все годы, проведенные в тюрьме. По ночам ему снился Дронго, появившийся в окне стоявшего напротив дома, – улыбающийся, уверенный в себе. И все время Дронго смеялся ему в лицо, когда он поднимал свою винтовку. Каждый раз он не успевал сделать выстрел. Каждый раз кто-то мешал, и каждый раз его враг смеялся ему в лицо.
Шварцман помнил это гадкое ощущение бессилия и проигрыша, когда он прицелился в Дронго и почувствовал дуло пистолета между лопатками. Дронго удалось его провести. Обмануть, как щенка, подставить под наблюдение своих сотрудников. Дронго долго изображал из себя приманку, и, пока Ястреб шел по его следу, вокруг него самого уже плелась искусная сеть. Когда же Шварцман хотел нанести удар, его опередили. Они просто арестовали и сдали его бразильским властям. И он получил свой тюремный срок.
Первые месяцы в бразильской тюрьме он приходил в бешенство, вспоминая о своем провале. Потом как-то успокоился, но Дронго стал являться по ночам, в его тяжелых снах, такой уверенный и спокойный. А потом самого Шварцмана перевели в тюрьму в Белу-Оризонти, и начался ад.
Это была особая тюрьма, где сидели убийцы и насильники, знаменитые по всей Бразилии. Даже в этой стране с неустоявшимися нравами, где преступлений совершалось гораздо больше, чем в благополучной Европе, эта тюрьма была особой зоной, где сконцентрировались самые отъявленные подонки. Только здесь Шварцман почувствовал всю прелесть борьбы за выживание.
Тут нельзя было сделать ни одного неверного шага, ошибиться, позволить себе на мгновение расслабиться. Тут был не просто ад. Это было земное изобретение дьявола, место, где покупаются и продаются души людей. Тут убивали и насиловали, не останавливаясь ни перед чем. Здесь были свои особые законы и особые порядки, выработанные годами непрерывного страха, унижений и насилия.
Он и раньше сидел в тюрьмах, но западногерманские тюрьмы по сравнению с этим концлагерем в Белу-Оризонти напоминали скорее молитвенные дома или кирхи. А уж что он должен был вынести! Дважды он оказывался на краю смерти. В первый раз, когда поспорил с Умберто-палачом и вся тюрьма ждала, кто именно победит в этой схватке. Они дрались всю ночь, изрезали друг друга ножами, но никто не смог победить. Утром сам Умберто предложил мир.
Через две ночи предусмотрительный Шварцман, поменявшийся местами со своим соседом по камере, услышал, как к ним ворвались сразу несколько парней и затем сдавленные крики своего соседа. Утром надзиратели насчитали на теле несчастного двадцать два ножевых ранения. Труп увезли, а за Шварцманом закрепилась репутация счастливчика, которому помогают духи.
Излишне говорить, что через два дня Умберто получил нож в спину и мучительно долго умирал в тюремном сортире, куда никто не решался войти, чтобы оказать ему помощь.
Потом было столкновение с Алвесом. Тот был известный гомосексуалист, переведенный сюда из Рио-де-Жанейро. Он сразу начал устанавливать свои порядки. К этому времени Шварцман, уже пользовавшийся уважением других заключенных, негласно покровительствовал двум молодым парням – Антонио и Габриэлю, оказывавшим ему многочисленные услуги и ставшими его своеобразными телохранителями. Оба парня были гомосексуалистами, и Шварцман, за неимением в тюрьме женщин, иногда пользовался их услугами.
Но молодой Габриэль понравился Алвесу. И хотя парень отвергал все домогательства старого убийцы, однажды его поймали в душевой и долго насиловали сразу четверо заключенных, после чего парня нашли там с разорванным горлом. Все ждали, чем ответит Шварцман. А тот молча наблюдал, как уносят тело Габриэля, как ухмыляется Алвес.
Прошло еще несколько дней. Поняв, что Шварцман не решается нанести ответный удар, многие заключенные стали позволять себе оскорбительные выкрики в его адрес. На кухне его вытеснили на худшее место, в душевой стали исчезать его вещи. Он постепенно становился парией, и единственный оставшийся у него друг – Антонио не понимал, что с ним происходит.
А однажды тяжелый пресс случайно придавил первого из убийц Габриэля. Никто не стал связывать это происшествие со случившимся ранее убийством, пока не пострадал и второй насильник. Ночью кто-то облил его лицо кислотой, непонятно каким образом появившейся в тюрьме. У самого Альфреда Шварцмана было абсолютное алиби: он в это время находился в тюремной больнице. Но по тюрьме уже поползли слухи. А пострадавший лишился зрения и был переведен в другую тюрьму.
Третий насильник был найден в своей камере с переломанным позвоночником. Несмотря на все усилия надзирателей, он так и не сумел ничего рассказать, умерев в страшных мучениях. И тогда все поняли, что настала очередь Алвеса. Понял это и сам Алвес, твердо пообещавший убить Шварцмана. В рождественскую ночь они сошлись вдвоем, чтобы решить, кто из них может остаться на этом свете, а кто из земного проклятого ада должен переселиться в гораздо более гуманный – небесный.
Что произошло между ними, не узнал никто. Но Алвес был найден мертвым. И не просто мертвым. Ему отрезали нос, уши, губы, половые органы. Даже повидавшие все в этой жизни обитатели тюрьмы в Белу-Оризонти ужаснулись подобной жестокости. Многие знали, как убивать человека и как он должен умирать. И многие осознали, что все эти увечья Алвесу были причинены не после, а до смерти, которая как спасение пришла наконец к этой заблудшей душе. С тех пор к Шварцману не приставал никто. Его признали раз и навсегда. Жестокость, которую он преднамеренно продемонстрировал, потрясла всех заключенных.
Но во сне ему снился Дронго. Он по-прежнему сжимал в руках винтовку и по-прежнему мечтал найти человека, когда-то сумевшего его превзойти. И хотя в этой тюрьме он был всесилен, бежать отсюда было невозможно. Расположенная на высоком плато, тюрьма была идеальным местом для содержания заключенных. Отсюда никто и никогда не убегал. Отсюда выходили либо мертвые, либо отсидевшие свой срок. Но последних почти не было.
Он помнил день, когда в тюрьме появился Роджер. Гость был уверенный в себе, красивый, пахнущий дорогими французскими духами, запах которых напомнил Шварцману о Европе. О любимых городах, о женщинах, о ресторанах. Казалось, все это осталось в другой жизни. До той жизни было еще много лет. И поэтому, когда Роджер предложил ему побег, он, не раздумывая, согласился.
Роджер потребовал не слишком большую плату. Всего лишь убийство какого-то музыканта. Ястреб вначале даже не поверил: цена не могла быть такой низкой. Это было невероятно, невозможно. Но именно убийством музыканта Роджер просил расплатиться за освобождение. Шварцман сразу дал согласие. Тогда впервые прозвучало имя Осинского.
Побег готовился долго и тщательно. Из самой тюрьмы убежать было невозможно, поэтому за огромную взятку чиновник, курирующий эти заведения, согласился на перевод Шварцмана в другую тюрьму. По дороге его сопровождали шесть охранников. Но на этот раз все было продумано до мелочей.
Начальник тюрьмы, в которую его переводили, был подкуплен. Еще большую взятку он получил за разрешение свидания Шварцмана с его супругой. Роль супруги блестяще исполнил… Антонио. И после свидания из тюрьмы вышел загримированный под женщину Шварцман. Антонио остался вместо него в камере. Охрана к тому времени сменилась, а дежуривший офицер знал, что нужно выпустить жену и оставить самого заключенного в тюрьме. Через день Шварцмана уже не было в Бразилии.
Но самый лучший подарок в своей жизни он получил на Ямайке, где снова встретился с Роджером. Тот подробно рассказал ему о самом композиторе, отправляющемся в Европу, и о его телохранителях. На прощание Роджер, улыбаясь, заметил, что у Осинского должен скоро появиться новый консультант по безопасности, который является одним из лучших аналитиков мира. И как бы невзначай добавил, что они уже встречались.
Шварцман насторожился. Встреча со старыми знакомыми бывает особенно «приятна», когда знаешь, как и против кого нужно действовать. Но когда Роджер произнес имя Дронго, Шварцман не мог сдержать своей радости. Это была его мечта. Это была награда за восемь лет ада. Роджер не мог понять, почему он так обрадовался. А Ястреб уже предвкушал свою новую схватку с Дронго.
На этот раз он будет готов гораздо лучше. Теперь он знает, с кем именно ему придется встретиться. Он не собирается убивать Дронго просто так. Все мучения, коим был подвергнут Алвес в тюрьме, окажутся детской забавой по сравнению с великолепием адского набора, который он готов предложить своему «крестнику», отправившему его в бразильскую тюрьму. Он летел в Париж, счастливый и умиротворенный. Казалось, сам дьявол решил послать ему такую награду за все испытания в земном аду. Теперь его даже не волновал сам Джордж Осинский. Образ Дронго заслонял собой все. Они снова встретятся и сойдутся в последней схватке. И тогда Ястреб наконец получит свою награду – голову Дронго.
Глава 9
Он любил жить в знаменитых отелях мира. В них зримо ощущалась та концентрация истории, географии и культуры, которая делала эти отели не просто местом проживания, а своеобразным символом городов.
Дронго жил в «Сен-Френсисе», расположенном в самом центре самого красивого города Америки – Сан-Франциско. На другом побережье Америки, в Нью-Йорке, он сумел побывать в самых известных отелях: респектабельном «Уолдорф Астория», роскошном «Плазе», суперсовременном «Сен-Редженсе» и, наконец, в отеле, ставшем символом Манхэттена, расположенном на Таймс-сквер, «Мэрриот Маркизе». В Лондоне он останавливался в изысканном «Кларидже», жил в роскошном «Хилтон Парк-лейн».
В Пекине останавливался в причудливом «Паласе», так своеобразно сочетающем национальную символику с роскошью современной архитектуры. На другом конце света – в Буэнос-Айресе жил в изящном «Алвар Паласе», напоминающем космическое зеркало. Он жил в лучших отелях Венеции и Милана, Мадрида и Мюнхена, Сиднея и Рио-де-Жанейро.
Он хорошо знал многие великолепные отели и в самом Париже. Но даже среди них, среди всех гостиниц мира, где он когда-либо жил и останавливался, парижский отель «Ритц» занимал особое место. И даже не тем невероятным, элегантным стилем, которым славился. Это был особый отель, со своими историческими традициями, ставший визитной карточкой великолепного города. Здесь бережно сохраняли традиции Сезара Ритца, основавшего отель.
Здесь останавливались самые известные, самые великие деятели культуры двадцатого века. Навсегда сохранились в отеле личные апартаменты несравненной Коко Шанель. Это был тот самый отель, который так полюбился Хемингуэю, и именно здесь родилась знаменитая фраза о празднике, который всегда с тобой. Когда Хемингуэй одним из первых вошел в освобожденный от нацистов город, он первым делом приехал в этот отель.
И теперь Дронго, переехавший в «Ритц», с восхищением и удивлением осматривал свой номер. Массивный бронзовый ключ вставлялся не в дверь, а в стену, куда был вмонтирован замок, открывающий эту дверь. Небольшой коридор, закрывающийся с обеих сторон, вел в саму комнату.
И хотя он жил в обычном одноместном номере, номер этот, пожалуй, нельзя было отнести к разряду таких же обычных. Войдя, он насчитал восемь светильников, расположенных по периметру большой комнаты. При этом основной светильник – люстра, висевшая в центре, имела характерный выключатель, позволяющий регулировать силу света.
На мраморном камине стояли изящные бронзовые часы, выполненные в стиле ампир. С левой стороны от входа, за большими зеркалами, находились глубокие платяные шкафы с внутренним светом, включавшимся автоматически при открывании дверей. На столике, у окна, лежали рекламные буклеты. По вечерам предупредительные горничные обязательно приносили специальную карточку для гостей с информацией о погоде на завтрашний день. Повсюду висели картины. Над кроватью находился гобелен.
Дронго вошел в ванную комнату. Вместо кранов здесь были серебряные лебеди с распахнутыми крыльями: вода текла прямо из клюва. Глубокая квадратная ванная с расположенной над ней непонятной цепью несколько озадачила его. Что это может быть? Он потянул за цепь. Через минуту в его дверь постучали. Оказалось, что это вызов официанта. Для гостей, находящихся в ванной, ужин либо завтрак можно заказать, очевидно, прямо в ванную.
Из ванной комнаты вела еще одна дверь – в туалет, где находились традиционные весы. Разумеется, везде установлены телефоны, чтобы разговаривать с любого места, даже не меняя своей позы. Рядом с кроватью находился небольшой пульт управления. Можно, лежа в постели, регулировать свет, открывать занавески, включать радио и телевизор, меняя программы.
Осмотрев свой номер, он пошел в расположенный рядом сюит Осинского. Здесь на стенах висели подлинные картины французских художников, уже успевших стать классиками. Кровать была обрамлена мраморными колоннами, а ванная комната напоминала небольшой, но хорошо оборудованный бассейн. Осинский, расстроенный вчерашним взрывом, нетерпеливо ходил по номеру. Напротив него в кресле сидел невозмутимый Якобсон.
– Почему, почему?! – кричал Осинский. – Почему мне должны присылать такие посылки? Кому я помешал? Кто хочет меня убить?
– Мы этого не знаем, – невозмутимо отвечал Якобсон, – мы ничего не знаем. Французская полиция занимается розысками этого непонятного придурка. Но там не было ничего опасного. Обыкновенная хлопушка. Просто кто-то хотел пошутить.
– Пошутить! – взвизгнул композитор. Он был в одном халате, и, когда делал слишком резкие движения, обнажались его светлые ноги, которые по полноте как-то не соответствовали его располневшему лицу и уже появившемуся небольшому животу. Словно их приделали после того, как Осинский начал полнеть.
– Пошутить! – кричал композитор, размахивая руками. – Поэтому там вылетели все стекла?
– Это была случайность, – успокаивал его Якобсон. – Вот мистер Саундерс может все подтвердить, – показал он на Дронго.
– Правда? – спросил, останавливаясь, Осинский. Как и все люди с неустоявшейся психикой, он больше доверял новым людям, чем своим старым знакомым.
– Да, – подтвердил Дронго, усаживаясь в кресле рядом с Якобсоном, – я думаю, не было никакой опасности.
В этот момент дверь открылась, и в комнату вошла неизвестная Дронго женщина. Он встал, чтобы поздороваться с ней. Якобсон не шевельнулся, а Осинский даже не стал затягивать пояса своего халата.
– Миссис Уэлш, – показал на нее своей короткой рукой Якобсон, – миссис Барбара Уэлш, личный секретарь господина Осинского.
Женщина повернулась к Дронго. Она была явно азиатского происхождения, несмотря на свою английскую фамилию. Раскосые, чуть удлиненные глаза, чувственный нос с четко очерченными крыльями ноздрей, твердая линия скул. Небольшой рот с тонкими губами. И холодный взгляд карих глаз. Волосы были красиво уложены. Одета она была в строгий серый костюм. «Кажется, „Келвин Кляйн“, – подумал Дронго, оценивая линии ее одежды.
– Мистер Саундерс, – показал на Дронго Якобсон, – наш новый консультант по безопасности.
Женщина холодно кивнула. Не обращая внимания на рассерженного Осинского, она прошла к другому креслу и села в него. Дронго обратил внимание на безупречные линии ее ног.
– Вы слышали, что случилось вчера? – закричал Осинский. Он, очевидно, не умел разговаривать спокойно.
– Да, – ответила Барбара. Голос у нее был низкий, глухой. – Мне рассказали Мартин и Брет.
Дронго сделал движение рукой. Якобсон, заметив это, ободряюще кивнул.
– Вы хотите что-то спросить?
– Да, – ответил Дронго. – Где вы вчера были, миссис Уэлш? Я не видел вас в опере.
Она чуть повернула голову. В глазах мелькнуло удивление.
– Вы меня подозреваете? – спросила она, не меняя позы. – Может, я уже должна отчитываться и перед вами?
– Миссис Уэлш, – чуть повысил голос Якобсон, – вы, очевидно, не поняли. Это новый консультант по безопасности. Вы должны отвечать на его вопросы.
– Я была вчера у сына, – пояснила миссис Уэлш. – Мистер Осинский разрешил мне отлучиться на вечер.
– Да, – подтвердил Осинский, – я разрешил.
«Кажется, она обиделась», – понял Дронго.
– Сколько лет вашему сыну? – спросил он.
– Двадцать четыре. – Она смотрела на него не мигая.
– В таком случае позвольте вас поздравить, – улыбнулся Дронго, – я никогда бы не мог подумать, что у вас такой взрослый сын.
Женщина не захотела принимать комплимента. Она просто отвернулась, поняв, что своеобразный допрос окончен.
– Сегодня у вас встреча с журналистами, – напомнила она Осинскому, – вы назначили им на четыре.
– Да, – подтвердил композитор, – я помню. Они дали примерный список вопросов.
– Мы уже подготовили ответы. Они у вас на столике в спальне, – ответила Барбара.
– Да-да, конечно, – вспомнил Осинский, – я совсем забыл. Сейчас я переоденусь, и мы пойдем завтракать. Хотя уже, кажется, время ленча.
Он вышел из комнаты.
– Он очень нервничает, – вздохнул Якобсон, – надеюсь, вы понимаете, как нам важно его не нервировать. Его европейское турне не может быть сорвано.
– В каких городах он будет выступать? – спросил Дронго.
– Брюссель, Амстердам, Франкфурт. Почему вы спрашиваете?
– Он должен быть на сцене? Играть или дирижировать? Будет исполняться его гениальная опера? – не удержался от сарказма Дронго.
Барбара чуть улыбнулась. Она оценила шутку нового консультанта. Якобсон шутки не принял. Не захотел ее понимать.
– Ни то ни другое, – сухо ответил он, – просто в этих городах должны состояться концерты из его произведений. После премьеры его оперы в Париже это нужно для закрепления успеха в Европе, где еще Осинского знают недостаточно. Он обязан присутствовать на этих презентациях. Это своеобразная рекламная поездка.
В дверь осторожно постучали.
– Войдите, – разрешил Якобсон на правах хозяина.
В комнату вошел Мартин с конвертом в руках.
– Для мистера Саундерса, – сказал он, – передали снизу от портье.
– Мне? – удивился Дронго. – Я поселился час назад. Никто не знает, что я здесь. И тем более под фамилией Саундерса. Какое письмо?
Мартин передал ему письмо. Дронго взял конверт, раскрыл его, достал бумагу.
«С приездом. Я рад, что мы оба снова вместе», – прочитал он и, подняв глаза, посмотрел на Якобсона и Барбару. Аккуратно сложил бумагу и положил ее в конверт. Мартин вышел из номера.
– Что случилось? – спросил Якобсон.
– Это Ястреб, – поднял письмо Дронго, – он уже знает, что я здесь. Значит, он где-то рядом, очень близко. Боюсь, что европейское турне Джорджа Осинского нам все-таки придется отменить. А мне, кажется, понадобится оружие.
Глава 10
Вечером Осинский должен был ехать на прием, устроенный в его честь одним из самых известных людей Европы, представителем династии европейских миллиардеров, потомком семьи Ротшильдов. Для Дронго был заказан смокинг. Все остальные, в том числе и телохранители Осинского, уже имели подобную одежду, предназначенную для таких приемов. По настоянию самого Дронго для Осинского в последний момент поменяли автомобиль.
У «Ритца» на Вандомской площади традиционно стояли роскошные «Мерседесы», прикрепленные к лучшим номерам отеля. Они терпеливо ожидали выходящих из отеля гостей. А такси стояли в конце площади и подъезжали к отелю только по свистку многочисленных швейцаров, дежуривших у подъезда. В случае ненастной погоды швейцары провожали гостей с зонтиками до машины.






