Семейное дело Панов Вадим
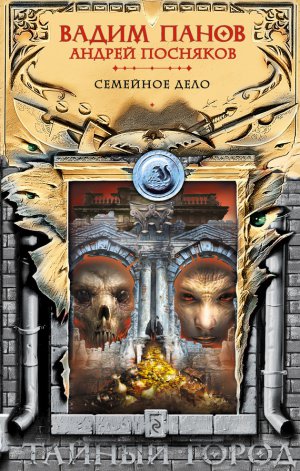
– Я сразу узнала вас, Александр Борисович, вы были на поминках. Вы меня, позвольте считать, спасли, когда Илья и Роланд затеяли скандал… Нет-нет, не отпирайтесь, так и было! Спасибо! Какая любезность со стороны работника прокуратуры. Коля был бы польщен… То есть что я несу, если бы Коля был жив, в вашем визите отпала бы надобность… Но жаль, что вы не познакомились. Мне кажется, вы понравились бы друг другу. Вы чем-то похожи: мужественные и деловые.
Александру Борисовичу Турецкому давненько не доводилось встречать таких полных… нет, таких элегантных… нет, таких полных и элегантных одновременно женщин, как вдова художника Скворцова. Нинель Петровна как-то сразу освоилась в его кабинете: немедленно разместив пышные бедра на стуле, почти вызывающе задрапировалась в складки своего зелено-фиолетового просторного одеяния и попросила разрешения курить. В ответ на удивленный взгляд старшего помощника генпрокурора мать четверых детей с ослепительной улыбкой призналась, что дома ей, среди всей этой ребятни, редко выдается возможность покурить, но сейчас, когда ее начнут расспрашивать о подробностях преступления, не обойтись без сигареты. Александр Борисович имеет право спрашивать о чем угодно, но лично она попросила бы оказать ей любезность и не расспрашивать, какое впечатление на нее произвело тело мужа, когда она забирала его из морга…
Турецкий не перебивал ее, просто смотрел, отмечая и отсутствие нескольких зубов, которое выдала улыбка, и нервозное подрагивание сжимающих сигарету пальцев с квадратными ногтями.
– Нинель Петровна, а те двое друзей вашего покойного мужа, которые затеяли скандал на похоронах, – они часто ссорятся? – задал он совершенно не тот вопрос, который она имела основание ожидать.
– Н-ну, как вам сказать… да, часто. В последнее время – всегда, при каждой встрече. Я думала, хотя бы смерть Коли их образумит.
– Насколько я понимаю, они дружили с вашим мужем по отдельности и не ладили между собой?
– А вот здесь вы ошиблись, Александр Борисович. Я понимаю, ошибиться легко – тому, кто не знал нас раньше. В 1985 году, когда мы познакомились…
Социологи в недоумении разводят руками, сталкиваясь с необъяснимым феноменом: во времена перестройки кривая смертности граждан СССР резко пошла вниз! Некоторые заядлые трезвенники приписывают это достижение горбачевской антиалкогольной кампании; однако, если учесть, сколько людей умерло от употребления антифриза и некачественного спирта, общее увеличение популяции не находит даже такого примитивного объяснения.
Что касается Нинель Петровны, она убеждена: в это замечательное время – самое замечательное в ее жизни – наполненный надеждами воздух был настолько пьянящим, что не давал умереть. Он рождал жажду необыкновенного, он приносил чудесные ароматы экзотических цветов, он внушал уверенность, что стоит прожить еще чуть-чуть. Вот-вот на земле должно было появиться нечто светлое и хорошее, поэтому никак нельзя было ложиться в могилу, не посмотрев на это хотя бы одним глазком… Идеальное мировосприятие носилось в воздухе эпохи.
Или так представляются Неле те годы из-за того, что это было время ее молодости?
Нинель – имя вполне идеологически выдержанное: «Ленин», прочитанное наоборот. Но родители, когда награждали им новорожденную девочку, о Ленине не думали: просто дали дочери красивое, с намеком на заграничность, имя. Нинелью ее, если разобраться, никто и не звал. Не звали даже Ниной: все только Нелей, Нелечкой. Из трех сестер родители ее больше всех любили и баловали. Потом, правда, отец сокрушался о том, что «избаловали, ох, Нельку!», а мать запоздало грозила надрать уши за то, что любимое дитя школьной программе предпочитает самостоятельное чтение, а учителей и родителей авторитетами не признает. Надирание ушей не состоялось, а рано созревшая семнадцатилетняя красотка сбежала из Москвы вслед за людьми, которые были для нее по-настоящему авторитетны, на фестиваль брейк-данса в Калининграде.
В те годы фестивали – и не только брейк-данса – вспыхивали и перемещались по всей стране, и стоило лишь подождать, когда очередное мероприятие развернется в Москве. Но, во-первых, молодость не умеет ждать, а во-вторых, молодость жаждет приключений. А невиданный доселе Калининград, бывший Кенигсберг, был настоящим приключением. Готические шпили. Средневековые мостовые. Зеленые лужайки и живые изгороди. Кафе, где к кофе подают марципаны. А главное – безбрежная молодежная свобода, о которой приходилось только мечтать в чопорной, азиатской, связанной по рукам и ногам Москве. Неля днем бродила без устали по городу в компании таких же приезжих, как она, завязывала ни к чему не обязывающие, но радующие душу знакомства, а по вечерам отправлялась на фестиваль.
Фестиваль даже на фоне свободного и свободолюбивого Кенигсберга виделся государством в государстве – отдельной страной, хрупкой, яркой и недолговечной, как бродячий цирк. Ломаные, насекомьи, искусственные движения танцоров казались Неле любопытными, но не привлекали всерьез, хотя она отдавала себе отчет, что за каждым из этих изощренных движений стоят многочасовые тренировки. Она не бредила танцорами, как другие девушки из групп поддержки, приехавшие, как и она, из других городов – вслед за кумирами. Нелю привлекали декорации. Они-то и придавали фестивалю брейкеров вид обособленного неземного зрелища, обиталища избранных. Эти необычно яркие краски… эти буквы, которые нарисованы такими выпуклыми, что едва не падали с холста… Неля немного рисовала, так что могла оценить то, как это было сделано. Если большинство ее ровесниц преклонялись перед теми, кто выступал на сцене, она, не по годам проницательная, отдала сердце тем, кто эту сцену создал.
Первым, кто с ней познакомился, был Роланд Белоусов: из этой неразлучной троицы («тройни» – шутили на их счет) он всегда был и остался самым контактным, легко сходящимся с людьми – правда, легко и рвущим связи… Все участники фестиваля (позднее – все райтеры Москвы и Питера) знали его как Колобка: дело было не в телесной полноте – самым полненьким из них был скорее Илья, – а в той гладкости и округлости, которая предполагается у сказочного персонажа, который и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и в дальнейшем с фольклорной простотой завязывал отношения с разнообразнейшими животными, хищными и прекрасными, катясь сквозь дебри житейского леса. Красавец Коля Скворцов – можете не верить, Александр Борисович, но в молодости покойный муж был по-настоящему красив – носил прозвище Птах, в котором объединились птичья фамилия Николая и имя древнеегипетского бога – создателя миров. Илья, коренастый, застенчивый и угрюмый, с упрямой круглой головой, был известен под именем Фантомас; почему – она не знает: раньше принимала это как само собой разумеющееся, а теперь уже как-то неловко спросить о причине давнего прозвища седого, строгого Илью Михайловича…
Все они были старше Нели: Коле, самому старшему, исполнилось двадцать пять. И путь к граффити у них был разный. Николай был профессиональным художником, искателем новых форм, Илья и Роланд, которого ей до сих пор привычней звать Ролкой, начали познавать мир искусства непосредственно с райтерского мастерства. Они, собственно, и были зачинателями граффити в России – не они одни, но и они тоже. Как и другие, жадно рассматривали фотографии поездов нью-йоркской подземки, преображенных райтерами, договаривались с матросами дальнего плавания, с уезжающими за границу знакомыми, чтобы получить клочки информации о своем увлечении. Худо ли, бедно, но вопреки всем препятствиям дело набирало обороты, и первые граффити разукрасили стены Калининграда, Риги, Ленинграда – смел ли тогда кто-нибудь подумать, что его вновь назовут Санкт-Петербургом? Эти культурные столицы, отдаленные от политизированной Москвы, были восприимчивы ко всему новому. Первым райтерам помогал Латвбытхим, первым в СССР освоивший выпуск краски в аэрозоли. Илья вспоминает, что когда он приехал в Ригу и увидел первый пис, то немедленно побежал в ближайший магазин, накупил баллончиков с аэрозольной эмалью и накинулся на взывающую к пересотворению стену, одержимый одним желанием: рисовать, рисовать, рисовать!
Все они были хороши. Всех их признавали, по молодости лет, одинаково талантливыми (правда, Птах все же шел впереди). Но не только в таланте было дело, когда Неля из всех троих выбрала и полюбила именно Колю…
Он был одинок. Звучит смешно, прямо как основная черта романтического героя, неуместная в наше время, но одиночество было ему свойственно, как хромому – костыль, как беременной – огромный живот, как любителю шахмат – портативная шестидесятичетырехклеточная доска, на которой он, улучив свободную минуту, разыгрывает сложные, умозрительные, непонятные для других комбинации. Эта сложность внутреннего мира являлась всем остальным только в те мгновения, когда она прорывалась на холст или чистую стену в виде умопомрачительных гигантских букв в технике «3D», анилиновых джунглей, сотканных из красок персонажей, полных красоты и ужаса.
То были действительно шедевры, сейчас Нинель Петровна не стыдится этого затертого слова, взамен которого, однако, ничего лучшего не придумали. Но и тогда семнадцатилетняя Неля взирала и на них, и на их создателя снизу вверх – преимущественно издалека. Птах был недоступен; с Белоусовым-Колобком она чувствовала себя проще. Он и рассказал ей, якобы по секрету (на самом деле этот секрет рано или поздно узнавали все), что Птах давно уже один – совершенно один. Обитает в большой трехкомнатной, правда запущенной, квартире в центре Ленинграда. Сам себе готовит, сам себе стирает, даже научился, в условиях дефицита, перешивать себе предлагаемые убогой послебрежневской легкой промышленностью вещи во что-то пристойное. Эта наука была свойственна ему с детства: мать, красивая и легкомысленная, сыном интересовалась мало и кочевала от мужика к мужику, надолго бросая мальчика, которому приходилось оставаться на хозяйстве. Если классифицировать женщин по системе «мать – любовница», то Клавдия – стопроцентная любовница, в ней не было ни грамма от матери! Привыкла жить на чужой счет, привыкла клянчить деньги… Колин отец, надломленный моральным обликом этой особы, к сыну привязанности не испытывал, тем более что у него появилась другая, благополучная семья. Женщины в трехкомнатной квартире не задерживались: Птах питал пристрастие к богемному образу существования, чего ни одна из них долго вытерпеть не могла.
«Я вытерплю!» – поставила себе программу-максимум Неля и принялась воплощать ее в жизнь с решимостью и упорством своих семнадцати лет. Разумеется, пространственно-временных рамок фестиваля в Калининграде для достижения поставленной цели оказалось маловато. Предстояли ей еще и поездки в Ленинград (который, впрочем, коренные жители так и не прекращали называть Питером), и как бы случайные появления то в одной знакомой Птаху компании, то в другой, и негодование родителей по поводу того, что дочка последний стыд потеряла, и тихое примирение с родителями…
А главное, предстояло научиться граффити! Пусть не в таком объеме, как Птах, ну да ведь она и не стремилась стать самым выдающимся райтером всех времен и народов. Илья-Фантомас по фамилии Вайнштейн, который, как обнаружилось, проживал в маленьком подмосковном городке, в отдельном доме, с больной матерью после смерти крепко пившего отца, охотно согласился давать ей уроки. Илья всегда был талантлив, но совершенно лишен честолюбия, а потому ни с кем не конкурировал и ни перед кем не заносился. Сколько Нинель Петровна его помнит, его волновали исключительно мировые проблемы, заковыристые вопросы наподобие «Ради чего стоит жить?». В религию он тогда еще не ударился: это случилось позже, причем до православия Илья увлекался иудаизмом и пытался штудировать каббалу… Но их совместные уроки – это было еще даже до иудаизма. В подмосковных, пахнущих прелой осенью окрестностях железнодорожных путей, избрав в качестве холста километры бетонных заборов, они тренировались в искусстве настенной росписи и смывались от агрессивно настроенных личностей, которые не считали их настенные росписи искусством. Илья учил ее самому простому: как создавать эскиз, на который потом лягут краски, как держать баллончик, чтобы не испачкаться, как выйти из положения, если стена мокрая… Неля внимала всему, что бы ни говорил Илья, лелея мечту, что совсем скоро благодаря этим урокам она сможет быть ближе к Николаю.
А оказалось, Николаю это все было совершенно не нужно. Нелю приблизили к нему не райтерские навыки, а ее наивные круглые глаза на круглой мордашке в сочетании с типично Нелиными острыми локотками и тончайшей талией – ох, самой трудно в это поверить! Оказалось, что Николай считает достоинством не ее райтерские поползновения – таких мастериц вокруг него было пруд пруди, – а ее тягу к созданию прочной семьи. Для Коли семья – это святое; возможно, потому, что он-то, бедняга, нормальной семьи не знал… Как дети, играющие в «дочки-матери», они планировали семейный бюджет – было бы из чего планировать! – обсуждали количество детей, придумывали им самые замечательные имена. И когда Неля, навестив хмурую врачиху в районной женской консультации, получила подтверждение, что она действительно беременна, ее чувства были далеки от стандартных эмоций залетевшей без мужа соплюшки. Неля испытывала острый прилив счастья. Потому что Коля Скворцов был одним из немногих мужчин – может быть, единственным, но тем ценнее, – которых можно удержать с помощью ребенка. Неля щедро подарила ему то, о чем он всегда мечтал: у них действительно получилась идеальная семья!
Близнецы оказались зачаты в конце восемьдесят пятого…
– Нинель Петровна… – Голос старшего помощника генпрокурора вывел ее из прошлого, в которое она погрузилась, точно в теплую ванну, вообразив на секунду, что все молоды и жизнь по-прежнему впереди; она вздрогнула, словно проснувшись. – Нинель Петровна, кто из этих двоих – Белоусов или Вайнштейн – в последнее время теснее общался с вашим мужем?
– Так сразу и не ответишь… С Ильей Коля чаще соприкасался по работе: они вдвоем занимались дизайном. А Ролка главным образом забегал к нам домой, иногда случалось ему попадать в то время, когда Коля еще не вернулся из дизайнерского агентства. Тогда он сидел у нас, болтал с детьми, я угощала его чаем… В общем, Коля общался и с тем, и с другим.
– А из-за чего эти двое все-таки невзлюбили друг друга?
– Если бы они были мужем и женой, можно было бы сказать: «Не сошлись характерами». Но поскольку они друзья, то вернее будет: «Разошлись характерами». Знаете, как если люди идут вначале по одной дороге, а потом она разделяется надвое, и так же расходятся их пути… Видите ли, Александр Борисович, они и в молодости были совершенно разными, но тогда их объединяло общее увлечение, общая бедность, общая идеология, которая заключалась в том, что все старье надо оттащить на помойку. Сейчас все по-другому, да, все по-другому…
– У Белоусова и Вайнштейна были конфликты с Николаем Викторовичем?
– Конфликты? Так сразу в голову не приходит… – Кажется, Нинель Петровна сегодня разыгрывала нарочитую медлительность, но отвечала по существу. – Ролка вечно подтрунивал над тем, что Коля забросил граффити ради дизайна, гребет деньжищи лопатой, совсем обуржуазился. Ролка ведь по-прежнему верен увлечению молодости: постоянно ездит на фестивали граффити. Намекал на то, что Колю все уже забыли, что в международном движении граффити он, Ролка, занял его место… Ну Николай к этому относился спокойно: он считал, что честолюбие хорошо в молодости, а в зрелые годы надо задаваться более серьезными вопросами, чем популярность. А вот шуточки о деньгах его смущали: когда Ролка их заводил, все старался перевести разговор на другую тему.
– С Белоусовым понятно… А Вайнштейн?
– Илья? Ну Коля над ним подсмеивался за то, что он примкнул к какой-то вроде бы секте, которая считает святыми Ивана Грозного и Распутина. Над Илюшкой все подсмеиваются, в глаза и за глаза, но он на это не обижается. В крайнем случае, отвечает чем-то наподобие «Блаженны, егда поносят вас…». Ну так ведь это пустяки.
– А кроме этого? У людей, которые вместе трудятся над одним, скажем, дизайнерским проектом, неизбежны трения…
– Нет. Это – нет. Никаких трений у моего мужа с Ильей Вайнштейном не возникало и быть не могло. Они идеально сработались.
– Идеально, – задумчиво повторил Турецкий. – Нинель Петровна, сегодня вы часто повторяете слово «идеал», «идеальный» применительно к событиям прошлого. Вас можно понять: когда человека настигает горе, прошлое рисуется ему в радужном свете. Но чтобы помочь нам найти убийц мужа, вы не должны умалчивать о темных пятнах… о том, что кажется вам подозрительным…
– Подозрительным? – Квадратный ноготь Нинель Петровны придавил окурок в пепельнице, точно фашистскую гидру. – Ничего подозрительного! Вам в это трудно поверить, потому что вы постоянно общаетесь с преступниками, но у нас с Колей на самом деле была замечательная семья. И замечательные друзья, и замечательный круг знакомых… Если вы собрались подозревать кого-нибудь из них, вы на неправильном пути. Я вам ответственно заявляю: здесь искать нечего!
Глава 8
Галя Романова наводит чистоту
Отжимая тряпку, Галя низко наклонилась над ведром, отдувая волосы, которые лезли в рот и падали на глаза. Ведро было пластмассовое, голубое, зарубежной хитрой формы, а тряпка – клетчатая, гигроскопическая, прямиком из целлофановой упаковки. Ведро служило напоминанием о соседке Ире, которая купила его незадолго до того, как уехала в свой провинциальный городок, не выдержав столичной борьбы за жизнь. «Всего тебе наилучшего, подруга! – попрощалась Ира. – Спасибо за борщ и пирожки. Желаю тебе тоже поскорее свалить из этих тухлых апартаментов, только не в свой Ростов-на-Дону, а в новую шикарную московскую квартиру». Саму Ирку трудновато было назвать везучей, но пожелание ее сбылось: Галя – спасибо Вячеславу Ивановичу! – после общежитийской маеты наконец-то обзавелась столичными квадратными метрами. Голубое ведро переехало с Галей в новую однокомнатную квартиру, а что касается тряпки, пришлось разориться на двести семьдесят рублей. Конечно, человек со стороны изрек бы с умным видом, что на тряпку можно было пустить какую-нибудь ненужную ветошь, вроде рваного халата или старой ночной рубашки, но, как выражался дядя Федор в любимом Галином мультфильме: «Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет».
С деньгами у Галочки было негусто, поэтому она следила за одеждой и не допускала ее превращения в ветошь. Каждый халат (2 штуки) и каждая ночная рубашка (1 штука) были у нее на счету…
Разогнувшись в пояснице («Ой, мамочка моя родная!»), Галя отерла мокрые руки о бедра, чтобы наконец собрать непослушные волосы под заколку. Расставив полные ноги, она стояла, размыто отражаясь в луже на мокром линолеуме, выстилавшем коридор. Только теперь она сообразила, что сначала надо было вымыть кухню, грязь из которой неизбежно перенесется в коридор. Но в коридоре, по весеннему времени, было так натоптано, что она решила начать с него… Ой, мамочка родная!
Первое время Галя пребывала на седьмом небе оттого, что у нее есть отдельная квартира, куда никого не могут подселить, вся в Галином распоряжении – поди плохо! Пусть на окраине Москвы, далеко от Петровки, а все-таки отдельная, своя, не общежитие: живи – не хочу! Первые дни после новоселья Галя праздновала. То и дело бегала на кухню, а приходя вечером с работы, по часу сидела в ванне. Но прошло некоторое время, и Галя встретилась лицом к лицу с реальностью: квартира, если смотреть на нее трезвым взглядом, выглядела не слишком хорошо. То есть чтобы жить в одиночестве, она достаточно хороша, а вот гостей позвать уже стыдно. Черный вспученный паркет и пузыристый линолеум, перекореженный протечкой сверху потолок, лишенные обоев стены, ворчащая и плюющаяся сантехника… Безусловно, с этим надо было что-то делать. Старший лейтенант Романова приглашала не одну бригаду мастеров-ремонтников, но все они, составив предварительную смету, приходили к выводу, что меньше, чем тремя тысячами долларов, здесь не обойтись. При зарплате в сто долларов необходимость затрат на одежду и еду отодвигала ремонт в неоглядные дали. Значительно выручала Галю мама, из Ростова-на-Дону привозящая любимой доченьке сумищи с консервированными овощами и фруктами, чтоб дитя не голодало, но, к сожалению, среди продуктов повседневного спроса есть множество таких, что не законсервируешь. Лично ей, Гале, консервы без хлеба есть противно… Мама смотрела на быт любимой доченьки скорбными глазами и постепенно начинала всхлипывать и уговаривать Галю вернуться домой, где нет таких страшенных морозов, где у нее будет все, что пожелает, где мама ее как следует откормит, а то она уж стала такая худющая, что жуть взглянуть. Доводы, что доченька любит свою работу и хотя бы поэтому счастлива, что в ее годы быть старшим лейтенантом и иметь квартиру в Москве – крупное достижение, на маму не действовали. От этих причитаний Галино хорошее настроение сразу становилось плохим, а если настроение и до этого было плохим, то становилось просто омерзительным. Поэтому, несмотря на консервы, Галя не слишком любила, когда к ней приезжала мама.
Вот и вчера, когда мама позвонила, чтобы предупредить о своем очередном визите недельки через две, дело кончилось рыданиями и настроение Гали упало до отрицательных величин. «А может, и вправду? – пришла тогда невеселая мысль. – Может, мое настоящее место в Ростове-на-Дону, а то, что меня так ценит милицейское начальство в Москве, ничего не значит? Где родился, гласит пословица, там и сгодился. Ира, соседка, вот тоже какая амбициозная была: хотела покорить столицу, выскочить замуж за сына богатеньких родителей, но и она сдалась. Может, и мне предстоит то же самое? Тогда уж лучше не тратить силы и возвращаться поскорей. По крайней мере, мама успокоится. Ей нельзя волноваться: в последние годы она все жалуется на сердце…»
Галя знала, что несправедлива, что в Москве ее любят, ценят и продвигают по служебной линии, что Вячеслав Иванович Грязнов – чуткий человек, не раз помогавший старшему лейтенанту Романовой, но после разговора с мамой не в состоянии была сладить со своими горькими мыслями. Разум подсказывал, что незачем горевать и злиться. Это бесперспективно. У нее просто весенняя депрессия. Авитаминоз и все такое. Настанет, в конце концов, лето, и все пройдет. А пока не мешало бы отвлечься, подумать о чем-нибудь хорошем… Но каким образом она может отвлечься, Галя представления не имела. Уже два месяца, как она купила цветной телевизор, расположив его в точности напротив дивана, но смотреть телик после работы не было сил. Особенно раздражали боевики и фильмы про бандитов, расплодившиеся по всем каналам в запредельных количествах. Так, разве если изредка старый хороший фильм покажут по «Культуре», без рекламы… В кино, в театр сходить? Билеты дорогие, да и одной идти не хочется, а друзьями, кроме сослуживцев, Галя в Москве не обзавелась. Ирка вот вечно болтала по телефону… У Гали телефон всегда был свободен, потому что болтать ей не с кем. И ей никто не звонил.
После маминого звонка пропитанная книжными ассоциациями Галя отметила, что в своем нынешнем состоянии больше всего напоминает себе д’Артаньяна. Не того, каким он был в «Трех мушкетерах» – юного, оптимистичного, счастливого тем, что у него есть друзья, есть дело, позволяющее найти для себя уйму приключений, – а того, каким он предстает в романе «Двадцать лет спустя»: разочарованного и усталого. То, что недавно казалось приключениями, превратилось в рутину, работа плохо оплачивается, с личной жизнью полный швах, да тут и не до личной жизни, когда все время отнимает служба. Галя и д’Артаньян даже состоят в одном звании… Правда, звание старшего лейтенанта в войсках королевских мушкетеров, кажется, отсутствовало, но должность оперуполномоченного 1-го отдела Департамента уголовного розыска, который занимается раскрытием особо опасных и тяжких, так называемых громких, убийств тоже кое-что значит. Может, она в свои двадцать пять забралась все-таки повыше, чем д’Артаньян в свои сорок? Слабенькое утешение: он первого повышения по службе тоже быстро достиг, а потом на долгие годы в лейтенантах застрял…
Да, совершенно точно: у нее депрессия. Но что, если люди неправильно судят о депрессии? Почему-то считается, что депрессия – это когда все вещи видятся в черном свете. А вдруг депрессия – это когда все вещи видятся в истинном свете? Вот в чем ужас-то!
При воспоминании о том, какие глупые мысли терзали ее вчера, Галя улыбнулась. Сейчас жизненные силы в ней так и бурлили. Чтобы дать им выход, она подхватила ведро, широким шагом пошла в санузел и там яростно завозила тряпкой по кафельному полу, навевавшему мысли об общественных туалетах. Вчера она была полна тоски, сегодня – полна энергии. А что тому причиной? Один-единственный разговор!
Сегодня утром старшего лейтенанта Романову вызвал к себе Вячеслав Иванович и кратко ввел ее в курс дела о двойном убийстве. При этом он поглядывал на нее как-то так лукаво. Галя догадалась: ее ждет необычное задание. Однако такого не предвидела даже она…
– В общем, дивчина Галина, – Вячеслав Иванович взял быка за рога, – как ты посмотришь на то, что мы тебя внедрим?
– Куда? – еле слышно пискнула Галя.
Вячеслав Иванович продолжил гнуть свою линию:
– В молодежную субкультуру. По возрасту ты подходишь, вызывать людей на откровенность умеешь. Переоденем тебя соответствующим образом, если понадобится, снабдим баллончиками с краской – на служебные деньги, само собой, – и вперед!
– Баллончиками? С краской? – на сей раз внятно переспросила Галя, не веря своим ушам.
– Ну да. Речь идет об этих, как их, райтерах. Или графферах – одним словом, тех, кто рисует граффити. Ну на стенах рисует, на заборах… Детали мы вместе обмозгуем, сейчас важно твое принципиальное согласие. Ну как, решаешься?
– Решаюсь, Вячеслав Иванович! – отрапортовала Галя. Собственно, деваться ей было все равно некуда: генерал Грязнов имеет полное право приказывать. Но то, что он спрашивает ее согласия, – большая честь!
– Прямо так, с ходу? Вот молодец!
– А зачем долго думать, когда и так все ясно?
– Ну неясностей, Галочка, в деле хватает, но, надеюсь, с твоей помощью мы сумеем их ликвидировать. Спасибо за согласие. Честно говоря, другого я от такой ценной сотрудницы и не ожидал. Кстати, следственную группу возглавляет знакомый тебе сто лет Сан Борисыч Турецкий.
Вот почему Галя домой летела как на крыльях и наконец-то у нее дошли руки вымыть полы в ее неотремонтированной квартире. Впрочем, сейчас Галя была слишком счастлива, чтобы обращать внимание на запущенность жилья. Все расследования, в которых она действовала совместно с Александром Борисовичем и Вячеславом Ивановичем, протекали очень удачно, предоставляя возможность продемонстрировать сообразительность и повысить профессиональное мастерство. А рисовать граффити… Это предложение всколыхнуло в ней забытые, но отрадные чувства. В детстве, класса примерно до четвертого, она очень любила рисовать разноцветными мелками на асфальте. Едва сходил снег, вместе с друзьями они покрывали примитивной, но искренней ребячьей мазней целые километры асфальта. Старухи гоняли их, ворча, что мел добрым людям пачкает обувь, что от их горе-художества никому никакого проку, что дети совсем распустились, вот заставить бы их все это убирать, и Галя смущалась, потому что привыкла верить старшим, их доводы казались ей весомыми, и постепенно увлечение перестало доставлять удовольствие и сошло на нет. С десяти до двенадцати лет она чертила мелом на асфальте только сетку для игры в классики. А потом, уже будучи взрослой, увидела как-то в выпуске телевизионных новостей итальянского художника, который мелками на асфальте рисует целую картину, и стало вдруг досадно и жаль чего-то упущенного. Может, если бы старухи были снисходительнее или она сама – понастойчивее, ее картины тоже сегодня находились бы под прицелами телевизионных камер?
Но о том, что не состоялось, поздно мечтать. Если Галя Романова когда-нибудь и попадет в выпуск новостей, то исключительно как выдающийся сотрудник уголовного розыска. А ради такой славы стоит потрудиться.
Ну и не только ради одной славы. Выливая грязную воду из голубого пластмассового ведра в унитаз и сохраняя неподобающую для такого занятия улыбку до ушей, Галя поняла, что, вопреки всем депрессиям настоящим и вымышленным, она любит свою работу. Любит – и все.
Глава 9
Близнецы Скворцовы принимают соболезнования
Наступило первое после похорон Николая Скворцова утро, когда его дети вернулись к повседневным занятиям. Таня и Родик пошли в школу, Кирилл и Ростислав – в институт. Утро стояло ненастное, неуютное, и солнечный свет (рассветает сейчас рано) скрывался за тучами, из которых – снова-здорово! – полетел мелкий колкий снег. Весна, называется! Хмурым и ненастным был также устремленный на младших Скворцовых материнский взгляд. «Надень шарфик», – требовала Нинель Петровна от Тани, и кончилось тем, что мать собственноручно обмотала вокруг шеи дочери этот самый шарф, огромный, плотный и ворсистый, как половина пледа. Против обыкновения, Таня стерпела шарф, не стала, как бывало раньше, капризничать: «Отстань, мам, не хочу, такого сейчас не носят, он кусучий!» Дети были сегодня необычно молчаливыми. Все отдавали себе отчет в том, что мама страдает из-за смерти отца, а если заботится о них так настойчиво, то лишь потому, что теперь боится потерять кого-то из них. И они боятся потерять маму. Все вокруг напоминало о смерти, все стало так зыбко и непрочно в эти дни…
До станции «Юго-Западная» от их благоустроенной, почти в центре Москвы, квартиры ехать было далековато, зато без пересадок, по прямой. Близнецы одолевали этот накатанный путь без особых эмоций. Разговаривать их как-то не тянуло: обо всем, что было действительно важно, они уже поговорили при подготовке к похоронам. Без взрослых, без лишних свидетелей – но где же найдутся свидетели, способные разобрать их близнецовский код? Со стороны посмотреть, они дремали на одном боковом сиденье, бок о бок – два совершенно одинаковых парня. Одинаково вздернутые носы, одинаковые темные длинные ресницы, одинаково выбиваются из-под модных вязаных шапочек темно-русые кудри, какими мог похвастаться в молодости их покойный отец. Шапочки, кстати, тоже были одинаковыми. Как и обувь, и брюки, и куртки. Доверяя психологам, уверяющим, что близнецам лучше поскорее дать понять, что они – самостоятельные личности, отдельные друг от друга, супруги Скворцовы назвали своих старших сыновей именами с разным звучанием и на протяжении детских лет одевали их по-разному, стараясь не подчеркивать схожесть. К счастью для Скворцовых, близнецы пошли в школу, когда обязательная форма была отменена: вот потрудилась бы мать, перешивая ее так, чтобы форменные синие брючки и пиджачок Кирюши отличались от точно таких же у Ростика! Родительские усилия пропали даром: как только у близнецов завелись свои деньги, они тотчас осуществили давнюю мечту и стали одеваться одинаково – словом, как близнецы. Конечно, на такую одежду родители никогда бы денег не дали: принципы есть принципы! А в последнее время отец строго лимитировал расходы старших сыновей… Но Кирилл и Ростислав у него разрешения не спрашивали. У них есть свои деньги, ими заработанные, которые они вправе тратить, как хотят. А своего сходства они не стыдились. Скорее, гордились им. Да, они всегда чувствовали себя одной личностью, разделенной надвое, двумя полушариями одного мозга, двумя половинками одного ореха. И плевать на психологов.
Несмотря на то что утренний вагон метро был, как всегда, набит под завязку, а степень нервности народа, едущего на работу, превышала сто процентов, близнецам спокойно позволяли дремать. Их даже не особенно теснили, старались не наступать им на длинные ноги. Двое одинаковых парней будили в зачерствевших душой, ко всему привычных людях удивление, смешанное с нежностью. Изредка – не чаще раза в месяц – какой-нибудь ветеран или какая-нибудь пенсионерка прерывали их безмятежную дрему.
– Молодые, здоровые, а прикинулись, будто спят! А ну уступите место сейчас же!
Однако ветераны и пенсионеры, как правило, не ездят в метро по утрам.
По выходе из метро было ветрено, но снег прекратился. По серому обледенелому пространству среди ноздреватых почернелых сугробов метались люди, подкарауливая маршрутки и автобусы. Братья Скворцовы без особых усилий вскочили в маршрутное такси, идущее до улицы Миклухо-Маклая, опередив возмущенно завопивших конкурентов. Час пик – не место для вежливости.
– People jam, – шепнул Кирилл брату, и Ростик понимающе кивнул. Если «traffik jam» – «варенье из транспорта» – по-английски означает пробку на дороге, то наблюдаемую ситуацию можно было, по аналогии, характеризовать как «варенье из людей». Близнецы лишних слов не тратили. Зачем разглагольствовать, когда и так понятно?
Ростиславу пришла в голову другая мысль: почему бы не купить машину? Еще полгода работы, так, чтоб особенно не напрягаться, и они смогут себе это позволить. Приятель, который летом побывал во Владивостоке, рассказывал, что там существует огромный рынок дешевых иномарок. Не сгонять ли во Владик? Туда – самолетом, обратно – на новеньком, скажем, «ниссане». Ради впечатлений останавливаться в каждом населенном пункте, рисовать на подвернувшихся кстати заборах свой тэг… Эта мысль так понравилась Ростику, что он решил поделиться ею с братом. Попозже. Не в маршрутке же! В утренней маршрутке за осуществимую мечту о персональном транспорте могут и морду набить. Даже две морды. Не посмотрят, что близнецы.
А все-таки отрадно ехать в маршрутном такси, чувствуя со всех сторон напор тел, облаченных в потертые пальто и вылинявшие куртки, и сознавая, что в любой момент можешь сменить образ жизни, предполагающий ежедневные поездки в переполненных маршрутках, на другой, бесконечно более привлекательный! Ради одного этого маршрутку можно потерпеть. Еще потерпеть…
Учебные корпуса на улице Миклухо-Маклая в Москве называют по-разному: «лумумбарий», «обезьянник»… Есть и такие, с позволения сказать, имена, которые напечатать уж никак не получится. Братья Кирилл и Ростислав Скворцовы не признавали этих плоских шуточек и звали место, где они получали высшее образование, попросту «университет». А когда закончат, будут называть «альма матер» или как-нибудь еще – тоже без плоских шуточек и подначек, а с полным уважением. Университет имени Патриса Лумумбы близнецам нравился, и учились они на «отлично» и «хорошо», чему не мешало даже увлечение граффити и подвернувшаяся в последнее время работа. И студенты, и преподаватели относились к ним неплохо.
Сегодня они приехали рано – аудитория была еще пуста. Только староста группы, как всегда, пришла еще раньше их и зубрила учебник в свете одинокой люминесцентной лампы. Обычно те, кто сидит над учебниками с утра до ночи, не пользуются всеобщей любовью, но Сания Алиева была такой миловидной и компанейской девчонкой, что ей охотно прощали и рвение в должности старосты, и вечно раскрытый учебник у нее на коленях. Ростик первым заметил, что Сания похожа на принцессу Юки из старого, черно-белого японского фильма. Ее густые, до пояса, волосы, скромно стянутые резинкой в «конский хвост», приметно выступающая под свитером аккуратная грудь и темно-алые, с коричневым оттенком, губы вызывали горячечное томление и внушали беспокойство: как же с этим быть? Близнецы до сих пор оставались девственниками: не из-за строгого воспитания в семье (в вопросах пола родители Скворцовы как раз были весьма либеральны), а потому, что мешала их одинаковость. Так выходило, что если они влюблялись, то – одновременно и в одну и ту же девушку. Дальше вставала дилемма: либо вдвоем обладать одной и той же подругой (на что она вряд ли согласилась бы), либо один из них выходит победителем, в то время как другой остается не у дел (а это грозило разрывом братских уз). Оставалось ждать и терзаться. Кирилл уже пришел к выводу, что им, чтобы не засидеться в девственниках до старости, начало мужскому опыту следует положить с какой-нибудь совершенно индифферентной особой, но все не решался поделиться своим выводом с Ростиславом. Были и у близнецов кое-какие крохотные секреты друг от друга.
При виде вошедших в аудиторию Скворцовых Сания подскочила, как перед строгим преподавателем. Новенький учебник, прошелестев страницами, туго закрылся с легким стуком.
– Ой, Кирюша… Ростик… – певуче запричитала Сания. – Мы все знаем, мы так сочувствуем вам и вашей маме! Это такое горе, такое горе!
Принцесса Юки в фильме часто гневалась, но при этом обладала добрым, чувствительным сердцем. Как и подобает истинной принцессе.
Кирилл и Ростислав приняли соболезнования, принесенные старостой от лица всей группы (у нее вошло в привычку делать все, что угодно, от лица группы), и одновременно, на уровне телепатии, подумали, что за все время от выхода из дома до вот этих самых соболезнований даже не вспомнили об отце. Несмотря на то что отношения между отцом и старшими сыновьями в последнее время натянулись как струна, осиротевшие братья испытали угрызения совести. Сейчас, когда папы не стало, все прежние ссоры и раздоры смотрелись досадными мелочами. Вопреки этим шероховатостям Кирилл и Ростислав сознавали, что у них был замечательный отец. Они должны по нему горевать…
Но им отчего-то не горевалось. Область души, ведающая скорбью, находилась точно в глубоком сне. Что же это – неужели они такие бесчувственные? Или горе настолько велико, что для его осознания должно пройти время? Так огромное темное здание не позволяет обозреть себя изблизи: чтобы оценить его размеры и архитектуру, следует отступить на несколько шагов…
В аудиторию шумно ввалились одногруппники, все разом – должно быть, вместе вышли из общежития. С близнецами здоровались каждый по-своему: кто, по привычке, бодро, кто – приглушенно, пытаясь соответствовать тяготеющему сегодня над группой траурному флеру. Скворцовым уже стало не по себе: что же это, с ними и дальше будут обращаться, точно с больными? Чтобы избежать неприятных расспросов и новых порций соболезнований, они заняли привычные места во втором ряду и открыли учебник – один на двоих, разумеется, – пытаясь заслониться этим ненадежным предметом.
– Добрый день, братья.
Не требовалось отрывать глаза от страницы, чтобы определить, что с ними говорит Абу Салех. Мягкий глубокий баритон и полное отсутствие акцента – если не видеть, то и не догадаешься, что обладатель этого правильного выговора кофейно-смугл и с миндалевидными черными глазами. При первом знакомстве Ростислав спросил: «По-арабски ведь „Абу Салех“ значит „отец Салеха“? А разве ты уже стал кому-то отцом?» – «У меня в Палестине шестеро детей», – наклонил странную и красивую, как у древнего египтянина, голову Абу Салех. Близнецы поразились: когда успел? Оказалось, ему двадцать семь лет… А на вид больше двадцати не дашь.
Внешность бывает обманчива. С первого взгляда Абу Салех производил впечатление обитателя пустыни, которого только что сняли с верблюда и каким-то чудом затащили в высшее учебное заведение чужой холодной страны. Только потом, разговорившись поближе, братья Скворцовы обнаружили, что он свободно владеет четырьмя европейскими языками. Эрудиция его простиралась от современных достижений искусства до новейших открытий в физике. Но и это, собственно говоря, не было главным. Любого человека, которого почтил дружбой Абу Салех, сильнее всего поражала независимость его мышления, необычность трактовки событий, которые кажутся всем самоочевидными… Однако, чтобы насладиться независимостью его мышления, требовалось стать его другом. А в дружбе Абу Салех был разборчив.
Чтобы потолковать с Абу Салехом, братья вместе с ним вышли в коридор и остановились возле доски с расписанием пересдач экзаменов зимней сессии. Мимо них проносились, не задерживаясь, студенты из других групп: спешили разбрестись по своим аудиториям. Им было глубоко наплевать и на пересдачу зимней сессии, и на иногруппников, которые тихо беседуют, уставясь на доску, – должно быть, об этой самой пересдаче.
– Придете на ближайший экшен?
– Трудно сказать… Ты знаешь, у нас умер папа.
– Да, я слышал. Мир его праху. – Романтическое изъявление чувств со стороны Абу Салеха лишалось намека на театральность. – От чего – от сердца?
– Нет. Его застрелили.
– Неужели? А кто?
– Неизвестно пока. Милиция ищет.
– Странно. Кому понадобилось убивать художника? Ну, желаю, чтобы милиция нашла убийцу… А вы все-таки приходите. Не нужно давать трауру слишком большую власть над собой. Мужчины должны скорбеть по отцу ровно столько, сколько положено.
Мимо них по коридору легкой походкой проскользила преподавательница Кира Владимировна, направляясь в свой кабинет за журналом группы, и близнецы уж было собрались в аудиторию, чтобы к ее приходу быть на месте, но Абу Салех придержал Кирилла за локоть. Ростиславу тоже ничего не оставалось, кроме как задержаться.
– Постойте! Похороны – крупные расходы, я понимаю. Кроме того, в семье двое школьников, которые не зарабатывают… Если вам потребуются деньги, я готов дать, сколько нужно.
– Спасибо, Абу Салех, – ответил Кирилл. – Деньги пока есть. В этом году папа хорошо зарабатывал.
– Не в долг! Я не такая собака, чтобы пользоваться человеческим горем. Насовсем даю.
– Правда? Спасибо. Но все равно пока не надо…
– Ну как знаете. Если понадобится, обращайтесь в любое время.
«Все-таки здорово, что есть такие друзья, как Абу Салех», – подумали одновременно близнецы Скворцовы. Они успели занять свои места во втором ряду, откуда так хорошо был виден вороненый «конский хвост» и узкая изящная спина принцессы Сании, ровно за две секунды до того, как Кира Владимировна вошла, поддерживая важную осанку, положила на стол журнал, и группа взметнулась со стульев, приветствуя ее…
А далее прилежные студенты не позволяли отвлекать себя посторонним мыслям.
Глава 10
Илья Михайлович разоблачает исламских террористов
В кабинет Турецкого вызванный им Илья Михайлович Вайнштейн вошел с поклоном – это у него, очевидно, была такая форма приветствия. Вместе с ним в комнату проник смешанный запах краски, древесины, свежей земли и еще чего-то весеннего и, пожалуй, строительного. Выглядел он своеобразно, чем-то напоминал современного мастерового: резиновые сапоги до колен, сплошь в разводах подсыхающей грязцы, серые потертые вельветовые штаны, черная теплая рубаха и черная стеганая куртка, неуловимо смахивающая на телогрейку. Самым примечательным во внешнем образе Ильи Михайловича были его длинные, до плеч, черно-седые волосы, перетянутые на лбу шнурком (то ли на хипповский, то ли на старорусский манер), и широкая, распадающаяся на множество направленных в разные стороны прядей борода. Турецкий не знал, как выглядел Илья Вайнштейн в пору оформления декораций для знаменитого фестиваля, но сейчас телогрейка и борода очень слабо соотносились с репутацией одного из основателей российского движения граффити.
– А я к вам, Александр Борисович, – не дожидаясь вопросов, густо заговорил Илья, – сей минут из лесу. Домик разукрашивал для одного хозяина. Благодать там сейчас, кругом подснежнички цветут. Я ведь лес ох до чего уважаю! Проживаю я на самой окраине, из окна у меня свой лесок виден. Я туда по грибы все лето хожу. Бывало, приглашу Николку покойного, вот мы вместе тихо-мирно по грибы-то и сходим. Николка тоже грибник знатный был. Любил он это занятие.
Илья внезапно улыбнулся – неожиданно располагающей улыбкой, просиявшей среди бороды, и Турецкого, который пытался представить основания дружбы между столь непохожими людьми, как Скворцов и Вайнштейн, осенило. Да, и в самом деле, хорошо ведь погулять по летнему лесу, залезающему в черту города, а потом принять водочки под соленые рыжики в компании такого гостеприимного хозяина, как Илья! Такой все, что есть в холодильнике, на стол поставит, не пожмотничает, и выслушает за выпивкой все, что на душе накипело. А то, что сам в это время будет бред нести, как тогда, на поминках, – так ведь нет достоинств без недостатков.
– Илья Михайлович, – максимально тактично, с попыткой избежать словесной шелухи, начал допрос Турецкий, – чем вы сейчас зарабатываете себе на жизнь?
– А вот этим и зарабатываю. – Илья повернул кверху ладони с полусмытыми следами масляной краски и россыпью мелких, чернеющих сквозь задубелую кожу заноз. – Кому домик, кому квартирку до ума доведу… Красоту несу людям. Раньше люди думали, если в дому все, как у других, стало быть, порядок. А сейчас понимают, что дом – это когда не как у других, а как хозяину по нраву. Хозяину по нраву – и дом улыбается…
– Вы дизайнер?
– Не люблю я этих нерусских слов, – посуровел Илья. – Ну назовите хоть горшком, только в печь не сажайте.
– Вы работали с Николаем Скворцовым?
– Работал, а как же. Когда Николка звал, то и работал… Только вы, Александр Борисович, больно долго чего-то подбираетесь. Не о том ведь спросить хотите, а? А о том вы спросить хотите, кто Николку убил. Я сказать могу, только никто мне не верит. Беспечны русские люди, не хотят верить, что кругом – безжалостный враг…
Предчувствуя, что бред надвигается, Турецкий попытался перебить его новым вопросом – самым безобидным:
– Со Скворцовым и Белоусовым вы познакомились в юности?
– Да, втроем мы были тогда. Я, Николка и Ролка Белоусов… Вот он-то, если хотите знать, Николку и убил.
– Убил? У вас есть доказательства?
– Какие еще нужны доказательства, если он Николку ко всякой бесовщине склонял? – Слово «бесовщина» Илья Михайлович произнес смачно, маслено, упирая на «о». – Он его уговорил детей отправить с иностранцами учиться, туда, где одни антиглобалисты и наркота голимая. Ну и чего хорошего они там наберутся? В русском человеке с младых ногтей надо развивать русское национальное самосознание. Вы, Александр Борисович, и сами должны понимать.
«Очаровательная картинка, – скептически подумал Александр Борисович. – Человек по фамилии Турецкий и человек по фамилии Вайнштейн беседуют о русском национальном самосознании».
– Понимаю, Илья Михайлович. И все же уточните, к какой бесовщине склонял Белоусов убитого, – Турецкий подчеркнул слово «убитого», – Николая Скворцова.
Вместо ответа Илья Михайлович засунул руку в карман штанов, пошуровал там и вытащил изрядно помятый, жалостно шуршащий, точно при последнем издыхании, лист газеты. Не требовалось быть экспертом-цензором, чтобы определить: газета очень малотиражная и очень радикальная. Об этом говорил и ярко-красный цвет линючих заголовков, и слепой шрифт смещенных то вверх, то вниз строк, и непрофессионально нарисованные карикатуры, которые в сочетании с убогой версткой создавали впечатление полной самодеятельности.
– Вот, полюбуйтесь, – Вайнштейн ткнул пальцем с обломанным грязным ногтем в середину страницы, – что пишут в ногу…
Турецкий подумал, что ослышался. «Сон в руку» – вроде есть такой устойчивый оборот; но «письмо в ногу» – это, воля ваша, что-то свеженькое.
– В какую еще ногу? И кто пишет? Белоусов?
– Газета так называется – «В ногу!» – снизошел к следовательской непонятливости Илья. – Орган молодежного рабочего движения России. Вот, смотрите лучше: «Победоносная Россия: полумесяц вместо креста». Пишут, как плохо, что наши предки пошли на поводу у Византии, заместо того, значит, чтобы ислам принять. Их не спросили, когда принимали! Да если б Россия-матушка не была православной, никакой России бы и не было. И их бы тоже не было, засранцев…
– Погодите, Илья Михайлович! Я что-то не успеваю следовать за вашими рассуждениями. Вы считаете, что эту статью написал Белоусов? Почему? И в чем здесь связь с убийством?
– Написал или нет, откуда мне знать? Я только видел, что после Ролкиного ухода у Николки в квартире эта газета появилась. Он ее скомкал: вроде чтобы показать, что это дрянь. Я развернул, почитал: точно, дрянь голимая. Мы же с Николкой не какие-нибудь нехристи, нас на магометанские понты не возьмешь! Сунул я эту газетенку в рабочую торбу, где я краски ношу, и забыл о ней. А она, видишь, сгодилась.
– А почему вы думаете, Илья Михайлович, – терпеливо вздохнул Турецкий, – что газету принес Белоусов? И даже если принес, что он согласен с ее содержанием? Может, ему ее просто на улице дали в качестве агитации. Лично мне постоянно суют всякую печатную ерунду: чаще листовки, но попадаются и газеты…
Илья Михайлович скроил удивленную физиономию. От попытки изобразить загадочность нос его разбух и свесился до губы. Сейчас он казался похожим на еврея. Со своей черной пушистой бородищей – не меньше, чем на хасида.
– Да уж я-то Ролку знаю! Такому не подсунешь!
– Даже если так, – Турецкий продолжал быть терпелив, – в чем, по-вашему, состояла цель, которую преследовал Белоусов, давая Скворцову газету «В ногу!»?
– Агитация, – твердо ответил Илья. – Хотели большого русского художника втянуть в исламский заговор против России. Не получилось, потому и убили. Больно много Николка про них, стало быть, прознал.
– Зачем же он им понадобился?
Но Вайнштейн уже не слушал вопросов: его несло по волнам политического вдохновения. Мысль Ильи Михайловича, окрепшая в лесной тиши на окраине столицы, успела обрисовать в главных чертах и заговор, и роль художника-райтера в нем. По его версии (которая, по мере развития, превращалась из гипотезы в непререкаемую истину), исламские террористы непременно попытаются устроить в Москве то же самое, что устроили в Нью-Йорке 11 сентября. Правда, за неимением башен-близнецов мишенью должна была стать высотка МГУ. Этот единственный пункт в слаженной, хотя и безумной, системе провисал: по крайней мере, Вайнштейн никак не обосновывал, почему именно цитадель знаний вселяла такую ненависть в горячие сердца исламских террористов. Зато участие Николая Скворцова в заговоре он обосновал, и с лихвой. Матерому райтеру было предназначено изобразить на башне высотки бомбу – в качестве мишени для атакующего самолета. Так как теракт был намечен на ночное время (в подтверждение этой догадки Илья принялся царапать карандашом на бумаге, бесцеремонно заимствованной из свежей стопки на столе Турецкого, какие-то хитроумные выкладки), краски должны быть фосфорическими, так что изображение будет видно только ночью, а днем не будет – чтобы мирные граждане ничего не заподозрили…
На долгом пути от оперативника до старшего помощника генпрокурора Александру Борисовичу Турецкому приходилось соприкасаться с разным человеческим материалом. Частенько приходилось решать вопрос: действительно ли вот этот, перед тобой стоящий, человек – тронутый или только прикидывается? И частенько решить его не получалось. Даже специалисты института Сербского иногда ошибаются, где уж ему справиться в одиночку! Что-то подсказывало Турецкому, что Илья Михайлович рассказывает об этих заговорах с предельной искренностью. Ну невозможно так вдохновенно играть, если ты не профессиональный артист!
Но если человек искренен в одном, это еще не значит, что ему надо доверять и во всем остальном.
Глава 11
Виталий Ильич задерживается на работе
Никто из коллег Виталия Ильича Сумарокова и не подозревал, что самый тяжелый час в сутках для него – тот, что для других представляется самым радостным: когда можно, с легким сердцем послав работу к чертям до следующего утра (или до следующего понедельника), ехать домой. Дома всех ждут запланированные радости: жена, пиво, собака или кошка, тапки, возможность рухнуть на диван и закрыться газетой от всех мировых забот… Все вышеперечисленное превосходно укладывается в рубрику под названием «покой». Но Сумароков находился в совершенно иной ситуации. Покой ему только снился. А если все, что уже образовалось и сгустилось, будет нарастать и дальше, покой будет сниться ему уже на работе, куда он, кажется, окончательно переселится.
Вот и сейчас он корпел над бумагами, исписанными его каллиграфическим почерком. Какие-то данные переносил в компьютер, другие, тщательно рассмотрев, перекладывал в отдельную папочку, где они хранились до лучших времен, точно у писателя – черновики, не вошедшие в основной текст романа. Тот, кто увидел бы его за этим занятием, не заподозрил бы, что этот немолодой человек с бесстрастным, ничего не выражающим лицом занимается такой страшной, ранящей душу темой, как террористические акты в Московском метрополитене. Тот, кто увидел Виталия Ильича, также не заподозрил бы, что внутри этого человека бушует вызванная личными причинами буря…
В последнюю неделю, после скандала, случившегося из-за болезни внучки Леночки, он неотступно думал: когда все это началось? Неужели со дня рождения Леночки, которой они все радовались, как не радовались ни одному ребенку в мире? Или со дня свадьбы его сына? Или и того раньше? Сколь многие проблемы возникают задолго до своего очевидного проявления! В этой фразе, пожалуй, чувствовался отголосок стиля знаменитого предка Виталия Ильича, но он не придавал этому значения. Он хотел разобраться с загадкой… Даже с двумя – включая терроризм в метро.
Что касается терроризма в метро – Виталий Ильич уперто, неизобретательно продолжал верить, что убийца ставил своей целью убрать с дороги не какого-то там художника, а Бирюкова, павшего жертвой террористов, с которыми он вел упорную борьбу. Теракт, прогремевший в час пик на одной из многолюдных центральных станций, родил волну негодования, направленного в том числе и против работников метрополитена, не сумевших предотвратить трагедию. Борис Валентинович организовал строгий контроль, отслеживающий подозрительных лиц. Но пример двух взрывов, которые прогремели вопреки этим мерам, доказал, что террористов не так-то просто одолеть… Уж не наткнулся ли Бирюков на секрет заказчиков и исполнителей? Если их вычислил Бирюков, эту задачу решит и Сумароков, имея в распоряжении те же данные. Прежде всех умственных построений следовало уяснить два простых пункта: место и время. И, как всегда, помогая себе пером, он застрочил…
Первым в хронологическом порядке – и в порядке значимости – должен был стоять теракт 18 июня прошлого года. Красивейшая станция, жаль! Радовавшая глаз мозаика, изображающая пляски девушек в костюмах братских республик, ныне прикрыта снизу серыми щитами: идут реставрационные работы. К этим щитам кладут гвоздички родственники погибших – как будто там, за серой фанерой, до сих пор скрыты трупы… Трупы вывезли – вывезли сразу же. Состав взлетел на воздух (если так можно выразиться, когда речь идет о метро), когда поезд уже подполз к платформе и целиком расположился вдоль нее. Был самый разгар часа пик – пятнадцать минут седьмого. Взрывной волной повредило мозаики, смело ожидавших прибытия поезда пассажиров. Им, впрочем, повезло немного больше, чем находившимся внутри… Четвертый и шестой вагоны, куда, как выяснили эксперты, и была подложена взрывчатка, превратились в смесь металла с органическими остатками, которых трудно было представить в облике людей. В остальных вагонах – множество раненых. Крики, стоны, скопление врачей «скорой помощи» и милиционеров. Во внешней стороне происшествия, пусть даже и потрясающей чувства, больше нет ничего ценного. А горе страшное. Невыносимо представить, что должны чувствовать люди, лишившиеся близких. С утра родной человек ушел, как обычно, на работу, и ничто не предвещало расставания, и вот вам, пожалуйста…
«А мои молодые, наверное, втихомолку порадовались бы, если бы я вот так погиб», – явилась несправедливая мысль. Виталий Ильич знал, что это далеко от истины, что даже чужая по крови невестка Вера лила бы по нему слезы на похоронах, но растравлял эту мысль с мрачным сочувствием к покойному себе – да так, что самому возрыдать впору.
Сумароков приподнял голову от бумаг. Чувства снова утащили его далеко-далеко…
Может быть, причина семейных трений в сумароковской семье скрывалась в первых годах жизни его единственного сына, Анатолия Витальевича, которого до сих пор, точно ребенка, они с матерью называют Толик? Толик рос таким слабеньким, таким болезненным! Молодая мама, Рая тогда отдавала сыну дни и ночи, постоянно брала отгулы, до хрипоты ссорилась с начальством из-за больничных. Все деньги уходили на лекарства, Рая работала очень мало, поэтому основная ноша семейного бюджета ложилась на плечи Виталия. Приходил усталый, как лошадь, на которой пахали с утра до вечера, и дома не мог расслабиться, потому что его встречали разговорами о детских кашках, о лекарствах, об анализах, о каждом Толиковом чихе… Злясь и не смея перебивать излияния святых материнских чувств, молодой Сумароков начинал уж задумываться: а чем таким уж серьезным болен его сын? И если даже он постоянно то кашляет, то чихает, если он малоподвижен и страдает то поносами, то запорами – какова в этом роль его сверхзаботливой мамочки, которая кутает и перекармливает свое чадо? Он неоднократно пытался серьезно поговорить на эту тему с Раисой, но получал в ответ лишь обвинения в том, что он ничего не понимает в медицине (жена, между прочим, по образованию экономист, хоть и мнит себя выше любого медика), что он не желает понимать ее материнское беспокойство о жизни и здоровье Толика, что он – самое худшее – ненавидит своего ребенка… Ну насчет ненависти – это, допустим, ерунда, но какая-то неприязнь к этому малолетнему объекту нежных забот, от которого его, отца, усиленно устраняли, у Сумарокова тогда брезжила. Правда, он надеялся, что она полностью рассосалась, когда Толик подрос, и отец и сын вместе собирали модельки машин, ходили на лыжах, ездили на выставки и даже – был грех – на ипподром… А теперь вот откуда-то вынырнула неприязнь – подавленная, старая. Неприязнь старости – к юности?
Тьфу на нее! Сумароков погрузился в документы.
Следующая станция – тоже одна из старейших, хотя и не такая красивая, выполненная в конструктивистском стиле. Дата – 14 сентября. Количество жертв не так велико, как в предыдущем случае… хотя, конечно, смотря с чем сравнивать. Поди объясни голому человеку с ободранной кожей, который кричит от боли и страха, потому что взрывной волной с него сорвало одежду, что ему повезло! Взрывная волна докатилась до платформы из тоннеля, где, не дотянув пары метров до станции, полыхнул поезд. По крайней мере, кое-кто из переминавшихся в ожидании на платформе остался жив. Время – четыре часа дня, начало пятого. Не так уж многолюдно, но… жертвы есть жертвы. Разве поддается количественному измерению человеческая жизнь? Шума было много – особенно в средствах массовой информации. Сумароков помнит, Раиса тогда причитала: «Ой, как в метро теперь ездить, как ездить? Страх один!» А Толик с Верой еще ее успокаивали, но своеобразно: «В метро опасно, а в других местах безопасно, что ли? Между прочим, дома тоже взрывают! Засыпаешь в своей постели, а проснешься под руинами… если проснешься». Ну и что их высказывания означают: здравомыслие или современный прагматический цинизм?
В последних классах школы и особенно в студенческие годы Толик наконец вырвался из-под материнского диктата, что положительно сказалось на его здоровье, внешнем облике и отношениях с людьми. В особенности – противоположного пола… Сумароков, вопреки старинной фамилии, не был настолько привержен фамильным устоям, чтобы не понимать: когда молодые люди начала XXI века произносят слово «подруга» или «друг» – это значит не совсем то же, что во времена его молодости. То, что сын начнет свой мужской путь в более раннем возрасте, чем он сам, не шокировало Сумарокова. Скорее, его шокировало, когда Толик отрекомендовал Веру «своей невестой». Не потому, что ему не понравилась худенькая девушка с темно-русыми волосами до плеч и скромной улыбкой, обнажавшей два криво выросших верхних зубика (надо было приглядеться, чтобы распознать ее красоту, но таких-то скромниц и любят всю жизнь). Совсем нет! Вера ему понравилась, но как они будут вить семейное гнездо? Где? На какие шиши? Оба студенты, оба привыкли обитать под теплыми крылышками папеньки и маменьки. А семья – это прежде всего ответственность: ответственность за самих себя, за будущих детей… К сумароковским речам, выражавшим справедливое негодование, примешивался и неприятный личностный оттенок вследствие шкурной тоски: ну вот, растили его с Раей, растили, во всем себе отказывали, ночей недосыпали, а теперь, когда самое время пожить для себя, изволь еще взваливать на плечи эту студенческую семью! Но если рассудить как следует, разве не прав он был? Прав на все сто!
Но в итоге-то получилось, что прав оказался не он, а его глуповатая, вечно по разным поводам причитающая, хлопотливая Раиса, которая завопила: «Ой, как хорошо-то! Свадьбу устроим в ресторане „Кабачок“, у меня там подруга бухгалтером работает. А жить будете у нас, не пропадать же зря такой большой квартире…» Неизвестно, что вышло бы из их Толика, если бы вместо надежной, верной и разумной Верочки, которой он отдался полностью, сын размотал бы себя по бесчисленным подружкам, как это делают некоторые мужчины. Сумароков таких знал – обычно так и не женятся, дети растут на стороне… А у них – счастье-Леночка. Живи да радуйся!
В сущности, он и должен радоваться! Ну и что, что в доме тесно и шумно, на кухню не пройдешь без того, чтобы не наступить на Леночкину игрушку, по лицу хлещут развешанные на веревке, протянутой через весь коридор, Верины колготки и лифчики, ужина не дождешься, потому что на плите попыхивает детская каша без соли и сахара… Много ли им с Раисой надо? Главное, что внучка растет замечательная! Не надо быть угрюмым монстром, надо смириться с вечным Раисиным тезисом: «Здоровье ребенка – самое главное». И все вокруг расцветет сплошной радостью…
Успокоенный сделанным выводом, Сумароков веселее взялся за третье дело. Взрывчатка, найденная в одном из вагонов поезда на станции, где сходятся три линии метро, 12 декабря… Не сработала. Возможно, не успела? Нет, похоже, у террориста в последний момент сыграло очко. В первых двух случаях терактов осколки бомбы обнаруживали признаки часового механизма. В третьем случае был найден «пояс шахида», который рвет в клочья живого человека, исполненного фанатической решимости умереть, пожертвовав собой. Следствие уверено, что шахидский пояс должно было привести в действие некое лицо, но оно отказалось исполнить возложенную на него миссию. Взрывчатку обнаружили пассажиры под скамейкой, завернутую в целлофановый пакет из магазина «ГУМ».
Постойте! В изнуренных семейной драмой сумароковских мозгах мелькнули первые проблески, объединяющие разрозненные случаи терроризма в систему. Все перечисленные станции – старые… построенные, дай бог памяти, в тридцатые еще годы… Играет ли это какую-нибудь роль? Или, возможно, играет роль многолюдность, возможность колоссальных человеческих жертв, на что указывает и время – час пик? Но вот, скажем, станция, где был совершен теракт номер два, – не самая многолюдная: пересадки здесь нет. Почему не выбрали вместо нее «Комсомольскую», «Савеловскую», «Белорусскую», какую-нибудь другую из крупных пересадочных станций? Оформление не понравилось?
Крайне интересным представлялся вопрос: откуда попадает взрывчатка в вагоны? Возможно, – конечно, это всего лишь предположение – перечисленные станции объединены одним и тем же депо? Не так глупо, стоит проверить…
Особая песня – вопрос о датах террористических актов, как состоявшихся, так и неудачных. С датами Сумароков разобраться не успел, потому что взглянул на часы и оторопел: без десяти восемь! Раиса, наверное, волнуется… Отчего-то ему вспомнилось, как переживала в молодости Рая, если ее возлюбленный (у него же такая опасная профессия!) опаздывал на свидание, как при виде него у нее на ресницы ослепительно черных глаз наворачивались слезинки, одновременно и жалобные, и счастливые. Она легко впадала в панику и столь же легко – в бурный восторг; ее проще простого было осчастливить поцелуем, комплиментом, незначительным подарком… Имя «Раиса» означает «легкая», не правда ли? Умиленный воспоминаниями, Сумароков встал, потер поясницу и без дальнейших сожалений по поводу беспорядка, который ему придется застать дома, начал укладывать бумаги в свой необъятный портфель.
Глава 12
Иван Козлов опускается на дно общества
Они многолики. Они повсюду. Взгляд обычного, довольно благополучного налогоплательщика особенно часто натыкается на них в публичных местах, где они стоят, воплощая своим неприглядным костюмом и скорбными глазами немой упрек. Кепка, жестяная мисочка, пластмассовый стакан, а то и просто мешок – основная принадлежность этой нелегкой профессии, не внесенной ни в один перечень трудовых специальностей. Потому что, несмотря на профессиональные увертки и приемы, используемые напропалую, язык не поворачивается назвать профессией то, что является, скорее, состоянием… По-русски невозможно произнести корявое словосочетание «работать нищим»; «быть нищим» – вот это верней.
Благополучный налогоплательщик, рассеянно бросающий монетку женщине с завернутым в кулек младенцем или калеке на костылях, ничего не знает об этих людях. Его представления о нищенстве колеблются между старой байкой о побирушке, в загаженном матрасе которой после ее смерти нашли бриллианты и золото, и смутном соображении, что все под Богом ходим, и, даже если история очередного нищего неправдоподобна, все же несчастье его неподдельно. А в остальном у заурядного налогоплательщика нет времени на знакомство с состоянием дел нищих людей.
Иван Козлов платил налоги как положено. А вот с нищими ему предстояло познакомиться поближе, чем обычному гражданину. Он должен был окунуться в мир персонажей пьесы Горького «На дне» – с той разницей, что ему предстояло участие не в трагедии и не в мелодраме, а в детективе.
– Борис Валентинович считал, что нищенство – язва метрополитена, – охотно вводили Ивана в курс офицеры УВД. – Все эти якобы молодые мамаши с младенцами, которые у них почему-то никогда не плачут, все эти инвалиды чеченской, афганской и тэдэ войны, которые неизвестно откуда берутся и ни в каких списках не значатся… Самое простое было бы их арестовывать, но Борис Валентинович считал, что это ни к чему не приведет. Как тараканы: прихлопнешь тапкой одного, ну в крайнем случае двух, тогда как за это время матка наплодит десяток. Тем более, познакомясь с нищими поближе, он изменил свое мнение…
– В какую сторону?
– В лучшую. Как ни странно. Сначала злился: как не стыдно здоровому мужику копейки на протез выклянчивать! Допустим, ног нет, ну так руки-то целы и голова на плечах есть – взял бы и заработал… Ну это он так думал, пока не узнал, что эти инвалиды, которые в нищенском бизнесе задействованы, – люди все подневольные. И зарабатывают они не себе на протезы, а в первую очередь своим хозяевам. А во вторую очередь – себе на жратву.
– Ну и что же Бирюков?
– Матку искал. Тараканью матку.
– Нашел?
– Вроде нашел. Вычислил. Ты его папочку заветную полистай, так и называется – «Нищие». А после того как вычислил, завел информатора. Мужик один, молодой, безногий…
– Что, полностью безногий?
– Нет, одна нога у него как будто бы есть, но вечно он сидит в инвалидной коляске, так что вроде совсем без ног. А может, единственная нога у него не действует… Ну да не в этом счастье. Главное для тебя то, что фамилия этого одноногого Сильвера – Дубинин, что история жизни у него какая-то особенно душераздирающая и что он Бирюкову сознательно согласился помогать. Зуб у него на нищенское начальство, понял? Бирюков благодаря его информации имел досье на всех важных действующих лиц. Собирался уже захватить всех скопом, но тут-то они его…
– Они?
– Беру свои слова обратно.
И верно: ведь никому пока не известно, кто отправил Бирюкова на бессрочный отдых.
Станцию «Новослободская» многие москвичи и, как принято выражаться, гости столицы (армия которых возросла до такой степени, что уже вытесняет хозяев) считают красивейшей в московском метро. Давно забытые, детские или, может быть, дикарские чувства пробуждают в глубине души разноцветные витражные стеклышки, складывающиеся в изображения ярких застывших цветов. Точно их вырыли из почвы какой-нибудь сказки – «Аленький цветочек», например, «Цветик-семицветик» или «Хозяйка медной горы» – и пересадили сюда для того, чтобы хоть на минуту вызвать в затравленном сутолокой и теснотой пассажире прилив положительных эмоций.
Однако эти эмоции грозили сейчас же исчезнуть от вида человека, который нес вахту под сенью одного из стеклянных развесистых цветов. Человек этот, одетый в спортивный костюм цвета хаки и с бритой головой, на которой пробивался уже небольшой ежик с треугольным полем седины, сидел в инвалидной коляске, выставив вперед левую ногу. Правая штанина, пустая от самого паха, была сложена и подколота английской булавкой. Несмотря на эти печальные детали, от облика человека исходило чувство силы. Лицо было молодым и энергичным. Кисти рук, переразвитые от необходимости возмещать их усилиями опору на недостающую ногу, – большими и крепкими.
Тем более неуместно смотрелся в этих по-рабочему точных, предназначенных к тяжелой и изощренной работе руках мятый потрескавшийся стаканчик из белой пластмассы, куда бросали деньги сердобольные пассажиры. Человек в коляске не просил, не призывал к состраданию – настолько велик был контраст между его силой и жалким положением, что ему подавали безо всяких просьб. Он кивал, отработанно произносил: «Спасибо» – но что-то непохоже, чтобы сыпавшиеся в его стаканчик железные рубли и пятирублевки, изредка бумажные десятки, делали его счастливее…
Иван Козлов, одетый ради конспирации в кожаную куртку и джинсы, сразу сообразил, что это тот самый «одноногий Сильвер», имеющий зуб на нищенское начальство, о котором толковали работавшие с Бирюковым офицеры УВД. Иван наклонился к инвалиду и достал кошелек, но, вместо того чтобы бросить монету, тихо спросил:
– Дубинин – это вы?
– Отвали, – таким же тоном, как стандартное «Спасибо», вымолвил человек в коляске.
– Нет, я хочу знать: это вы помогали Борису Валентиновичу Бирюкову?
– Бирюкову? – Колясочный сиделец ожил: спина выпрямилась, грудь расправилась. – Не думал, что он меня еще помнит. Забыл, думаю, ветошь человеческую… Так чего ж это я его не вижу?
– Бирюкова убили, – торопливо прошептал Иван, наклоняясь еще ниже. При его росте общаться в такой позе – удовольствие ниже среднего. – Я тоже из милиции. Мы знаем о деле нищих и хотим довести его до конца.
Великан в коляске (Козлов невольно подумал о том, что если он встанет, то они с Иваном окажутся одинакового роста, только Дубинин – шире в плечах) испытующе поглядел на представителя органов власти, затем бросил быстрый взгляд на электронное табло, где высвечивалось время. Тогда Козлов не понял зачем…
– Корочки покажи, – потребовал Дубинин.
– Что? А, это… – Из внутреннего кармана кожаной куртки появилось удостоверение, и Козлов раскрыл его перед Дубининым так, чтобы посторонние ничего не видели, а он мог как следует все прочесть и сверить фотографию с лицом Козлова. Иван не казался себе слишком похожим на эту служебную фотографию (он был лучшего мнения о себе), но для Дубинина этого оказалось достаточно. Глаза его посветлели.
– Алексей, – представился Дубинин, сунув Козлову большую ладонь, и он чуть не поморщился от крепости рукопожатия. – А тебя Иваном зовут? Жаль, хороший был мужик Бирюков. Кто ж это его? Хотя ясно, работа такая… Сейчас, Иван, не до этого. Я главное выяснил, понял? Бусуйок скрывается на Кастанаевской улице, дом семь, квартира одиннадцать. Запомнил? Повтори!
– Кастанаевская, семь, одиннадцать, – повторил Иван.
– У Анжелины адрес все тот же: улица генерала Карбышева, дом двадцать восемь, квартира шестнадцать. Там и я обретаюсь. К нам недавно прибыло пополнение, все краденые. Понял? Мы, я и еще двое из наших, напишем заявление, дадим все показания, какие потребуются. Но это ерунда, главное, чтобы всю сеть раскрыли. Чтоб верхушку взяли, понял? Если нужно, я на этой точке каждый день торчу с утра до ночи. Спасибо тебе, добрый человек, спасибо, помолюсь за тебя! – громко и без перерыва завел Дубинин так, что Козлов отпрянул. Было что-то неприглядное в этом мгновенном превращении: только что Иван слышал голос человека, полного собственного достоинства, сообщающего важные сведения, – и вдруг его сменил голос профессионального нищего с затверженными интонациями. Обернувшись, Иван Козлов обнаружил, что сзади на него напирает могучей грудью, похожей на подушку, затянутую в бесформенный мешок кожаной куртки, женщина лет тридцати, с крупным овальным лицом и ярко-красными губами, с распущенными по широченным плечам волнами черных, с медным отливом, волос.
– Посторонись, красавчик, – обратилась она к Ивану тоненьким голоском, приводящим в смущение: судя по внешности, такая дамочка должна была басить, как Шаляпин. – Солдату-инвалиду в туалет надо.
Уходя, слившись с толпой пассажиров станции «Новослободская», Иван Козлов напоследок еще раз поймал глазом Алексея Дубинина. Женщина в кожаной куртке помогала ему выбраться из коляски и ухватиться за костыль… Откуда взялся костыль, неужели был приторочен сзади к коляске? Или его принесла с собой женщина? Иван не заметил… Костыль имел зеленый цвет, в тон костюму хаки, и издали было похоже, что у Дубинина выросла вторая нога, заимствованная от гигантского кузнечика. Что-то насекомье просвечивало и в движениях. Иван поскорее отвернулся – то ли от сочувствия, то ли от неловкости, которой раньше за собой не подозревал.
Иван не успел спросить Дубинина о девушке, которая приходила к Бирюкову, предупреждая о его возможной смерти – или угрожая? Но решил, что сделает это в следующий раз.
Глава 13
Старший лейтенант Романова рисует зайца
– Ну что, бравый солдат Швейк, скетч нарисовала?
Человек, который только что назвал старшего лейтенанта Галину Романову персонажем романа Гашека, о ее звании не подозревал. И вообще не догадывался, что имеет дело с сотрудницей правоохранительных органов. Человеку, носившему распространенное имя «Саша» и известному в среде столичных райтеров как Апрель, дальние знакомые его знакомых рекомендовали родственницу-студентку, которая хочет обучиться модному молодежному увлечению и готова даже заплатить тому, кто ознакомит ее с основами граффити. Строжайшая конспирация на всех этапах, как и отсутствие в этой среде личных имен, объяснялась тем, что, когда ты разрисуешь, или, по-райтерски, «убьешь» немалое количество стен, на перекраску которых выделяются деньги из бюджета, милиция проявит горячее желание познакомиться с тобой… От платы за обучение Апрель отказался, заявив, что для него главное – способности студентки. Есть способности – он будет рад помочь новому таланту; нет – так прямо и скажет, чтобы девушка не тратила зря свое и чужое время.






