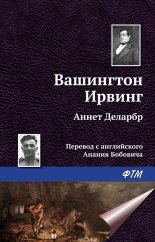Литературоведческий журнал № 28: Материалы III Международного симпозиума «Русская словесность в мировом культурном контексте» Николюкин Александр
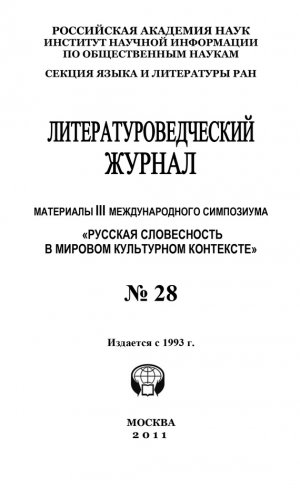
МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА «РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ»
РОДНОЕ КАК ВСЕЛЕНСКОЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ ОБРАЗЕ МИРА: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СЛОВЕСНОСТЬ И «РУССКАЯ ИДЕЯ»
И.А. Есаулов
С методологической отчетливостью проблема, вынесенная в название моей работы, была впервые поставлена Вяч. Ивановым в его работе 1909 г. «О русской идее», где русский поэт прямо назвал всенародную веру в Воскресение Христа, а также «категорический постулат воскресения» русской национальной идеей1. В 1918 г. в статье «Наш язык» тот же автор утверждал: «Духовно существует Россия. Она задумана в мысли Божией. Разрушить замысел Божий не в силах злой человеческий произвол»2. Свидетельством этого особого статуса существования России являлся для Иванова само русское Слово, наш язык.
Язык, по Иванову, это особый дар, «уготованный Провидением народу нашему». Будучи благодатным уже при рождении он был вторично облагодетельствован, как выражается Иванов, «таинственным крещением в животворных струях языка церковно-славянского». Эта церковно-славянская речь стала живым слепком «божественной эллинской речи». Ясно, что Иванов говорит не о великорусском, а о русском языке.
Русский язык двуипостасный. Родное в нем срослось, по Иванову, с глаголами церкви. И именно эта вторая ипостась русского языка позволяет говорить о преемстве православного предания, преемстве эллинства. Именно церковно-славянская ипостась придает русскому языку его вселенское, всечеловеческое значение. Подобно митрополиту Илариону, который в первом же оригинальном произведении русской словесности властно заявляет о единстве с христианским миром, Иванов замечает: «…уже не варвары мы». Мы не варвары, потому что мы – христиане.
Эллинское предание, звучащее в церковно-славянской ипостаси русского языка, позволило этому языку преодолеть свой племенной характер, как выражается Иванов, «выступить из своих широких, но все же исторически замкнутых берегов» и обрести «сверхнациональный статус». Весьма существенно, что речь идет не просто о каком-то сверхнациональном проекте, но именно о «религиозном вселенском деле». Ясно, что это православное дело, но не дело узконациональное.
Именно по этой причине Иванов резко отрицательно отзывается о насильственном обмирщении языка в революционное время. Он возмущен попытками сузить вселенский характер русского языка до какой-то утилитарной коммуникативной функции. Я бы хотел обратить внимание, что это обрезание православного компонента, иными словами, насильственная русификация русского же языка для Иванова находится в одном ряду с насильственной украинизацией. По словам выдающегося филолога, «кустари украинской словесности хватают пригоршнями польские слова, лишь бы вытеснить и искоренить речения церковно-славянские». Это вытеснение трактуется Ивановым как «преобразование в самостийную молвь наречия»: конечно, для него, безусловно, наречия русского языка. Эта украинская кустарщина и русский провинциализм подобны друг другу в качестве оскопления и затем разделения единого великого языка.
Отделение «русскости» от «православности» неизбежно ведет к отказу от вселенскости в пользу провинциализма, кустарности – это варваризация русского языка, переход к дохристианскому, т.е. дикому состоянию. Оскопление русского языка путем обрезания церковно-славянского элемента в нем означает отказ от почти тысячелетней православной культуры, означает возвращение к чисто племенной специфике, это даже не отказ от вселенского в пользу родного, но деформация родного.
Не будем забывать, что сам Вяч. Иванов, рассуждая о родном и вселенском, был вдохновлен творчеством Ф.М. Достоевского, которое глубинно укоренено в тысячелетии существования русской христианской культуры. Рассмотрим с этой точки зрения лишь один эпизод романного мира Достоевского, который хотя и не затрагивался самим Вяч. Ивановым, но представляется весьма характерным.
В романе «Идиот» Мышкин рассказывает Лизавете Прокофьевне и ее дочерям о своем отъезде из России. «Когда меня везли из России… Больше двух или трех идей последовательно я не мог связать сряду <…> Помню: грусть во сне была нестерпимая, мне даже хотелось плакать; я всё удивлялся и беспокоился: ужасно на меня подействовало, что всё это чужое (курсив Достоевского. – И.Е.), это я понял. Чужое меня убивало. Совершенно пробудился я от этого мрака, помню я, вечером, в Базеле, при въезде в Швейцарию, и меня разбудил крик осла на городском рынке. Осёл ужасно поразил меня и необыкновенно почему-то мне понравился, а с тем вместе вдруг в моей голове как бы всё прояснело»3. Исследователи уже обращали внимание на звенья въезд в город / осёл, отсылающие читателя к евангельскому эпизоду въезда Христа на осле в Иерусалим. Хотелось бы добавить к этому тот чрезвычайно значимый факт, что посредством неявной евангельской реминисценции происходит и преодоление того «чужого», которое – до этого – «убивало» князя Мышкина.
«Чужое» перестает быть «чужим», так как в нем прозревается, или, лучше сказать, мерцает вселенский евангельский образ – в равной степени родной и для России, и для христианского мира в целом: «…и чрез этого осла мне вдруг вся Швейцария стала нравиться, так что совершенно прошла прежняя грусть». Однако это преодоление не изнутри единичного сознания героя, а как результирующее различных сознаний, в итоге чего в горизонт читательских ожиданий и входит евангельская ингредиента. По отдельности же «голоса» героев как бы не могут вместить это вселенское измерение. Хотя герои очень долго рассуждают и высказываются именно об этом осле. Так, для Лизаветы Прокофьевны осел связывается с дохристианскими культурными пластами: «Это ещё в мифологии было», – говорит она; для князя Мышкина осел это «преполезнейшее животное, рабочее, сильное, терпеливое, дешевое, переносливое»; хотя, вместе с тем, «осел добрый и полезный человек». Не будем приводить всех романных контекстов со словом «осел», поскольку уже очевидно главное: положительная евангельская коннотация, связанная с образом осла, рождается не как прямая экспликация, но погружена в христианский подтекст романа.
Князь Мышкин утверждает, что «ничего-то» в России «прежде не понимал»; но понимание России и приятие России всецело связано с христианской верой, с Христом, – точно так же, как изменение отношения к «чужому» связано с Христом имплицитно.
Четыре встречи, о которых князь Мышкин рассказывает Рогожину, подобны евангельским притчам, лишенным прямой назидательности; это не система богословия, но те духовные столпы, без которых Россия перестает быть Россией, перестает быть христианской страной.
Как известно, князь Мышкин, подобно другим любимым героям Достоевского, отказывается быть Судьей своего ближнего: «Вот иду я да и думаю: нет, этого христопродавца подожду еще осуждать. Бог ведь знает, что в этих пьяных и слабых сердцах заключается». Зададимся вопросом: когда молодая баба сравнивает материнскую радость от улыбки младенца с радостью Бога от молитвы грешника, почему князь Мышкин называет это сравнение «тонкой и истинно религиозной мыслью», в которой «сущность христианства разом выразилась»; «главнейшей мыслью Христовой»? Представляется, именно потому, что через родное (русская баба) для него открывается вселенское (сущность христианства). Таким образом, действительная ценность «своего» не в том, что оно собственно «свое», национально «свое», а в том, что в нем мерцает эта возможность сопряжения родного и вселенского.
«Русский Бог и Христос» является, с точки зрения автора, не узконациональным племенным божеством, ограниченным земными пределами собственно России, а этот идеальный ориентир связывается с «будущим обновлением всего человечества и воскресением его» – в отличие от русского «меча», «насилия» и «варварства».
Родное и вселенское, таким образом, понимаются не как члены бинарной оппозиции, но как дополняющие друг друга параметры, раздельное существование которых, строго говоря, невозможно: в родном уже мерцает вселенский смысл, а осмысление вселенского немыслимо без углубленного понимания родного; их взаимодействие порождает особый художественный и философский эффект и резко расширяет горизонт читателя – вплоть до выхода из собственного художественного мира автора в принципиально незавершимые вселенские просторы христианской традиции.
Развитие гуманитарной мысли в нашей стране, как известно, было насильственно прервано вследствие организационного подавления «идеалистического» инакомыслия. Восторжествовавший марксизм, одним из вариантов применения которого к литературе стала советская ее интерпретация, является лишь частной разновидностью материалистического подхода и материалистического объяснения духовной сферы человеческой деятельности.
С этой точки зрения и «формальный метод» в литературоведении – при всех его несомненных научных достижениях – являлся лишь наиболее радикальным, крайне левым крылом того же марксистского материалистического подхода. Далеко не случайно его определяющее влияние именно в первое – столь же радикальное – десятилетие советской власти, как и последующее постепенное «затухание» этого радикализма в недрах откристаллизовавшейся к тому времени советской гуманитарной науки.
«Борьба» социологического и формалистического крыла в советском литературоведении – это «спор между своими». Не случайно работы «чужих» М.М. Бахтина и А.Ф. Лосева, в различной степени, но наследовавших христианские религиозные традиции в гуманитарной сфере, не имели практически никакого значительного резонанса – помимо карательных оргвыводов.
Таким образом, религиозно-философское направление, чрезвычайно ярко себя проявившее в конце ХIX – начале XX в., оказалось практически невостребованным в отечественной гуманитарной мысли – вплоть до конца 80-х годов. В результате некоторые важнейшие проблемы, поставленные русскими писателями, либо сознательно затушевывались, либо сознательно же мистифицировались. В том числе проблема, вынесенная в заглавие предлагаемой работы.
Разграничение вселенского, т.е. церковнославянского, восходящего к эллинскому, и родного, т.е. собственно русского, возможно только теоретически, в абстракции, только в кабинетах. В жизни это непременно ведет к выпадению из истории. Надо заметить, провинциализм русского языка культивировался в советское время достаточно недолго. Проекты с латинизацией также были отброшены. Очень скоро русский язык вновь обрел универсальность, не вселенскость, а универсальность, став средством межнационального общения (но именно – средством). Как писал наш советский «земшаровец» Михаил Кульчицкий в 40-х годах: «Только советская нация / будет / и только советской расы люди». Советской расы люди разговаривают на особом языке – советском: «Кто понять не может, / будь глухой – / на советскомязыке / команду – в бой!». В итоге этой новой универсализации церковнославянская ипостась русского языка не просто истончилась, она зачастую обретала чисто негативные коннотации. Например, слово преподобный в русской языковой картине мира находится в ореоле святости; в переводе же на советский язык это же слово означает глупого, недалекого, странного человека – достаточно хотя бы вспомнить рассказы Шукшина. И именно этот советский жаргон русского языка внедрялся в качестве литературной универсальной нормы.
В итоге этой жаргонизации нашего языка постепенно ослабевала, так сказать, сама его иммунная система и нынешнее его состояние, от невероятного засорения интернациональной лексикой до «языка падонкофф» – является лишь следствием того повреждения двуипостасности, той утраты внутренней формы, о которой предупреждал Вяч. Иванов. Таким образом, жаргонизация русского языка – это вовсе не результат его «естественного» развития, как это пытались представить в нашей филологии, это порча самой его глубинной природы. Стоит только вслушаться в глаголы, которым Иванов передает этот процесс порчи: «Язык наш… кощунственно оскверняют богомерзким бесивом, неимоверными, бессмысленными, безликими словообразованиями… хотят его обеднить… его забывают и растеривают… оскопляют и укрощают… ломают… уродуют поступь… подстригают ему крылья».
Не случайно молодой Дмитрий Лихачёв, когда он еще не был кумиром советской образованщины, а был оскорбленным в своих чувствах русским патриотом, в докладе 1928 г. «О старой орфографии», за который и получил тюремное заключение, сделал вывод о ярко выраженном антиправославном подтексте реформы. Новая орфография, как старался показать Лихачёв, «посягнула на самое православное в алфавите…». При этом устроители ломки русского языка, «они (имя которым – легион) хотят предать забвению ту ненавистную связь, которая существовала когда-то между Византией и Русью, Россией… они пытались… отторгнуть Россию от небесной благодати»4.
Однако русская культура может себе в заслугу поставить и сопротивление насилию. Одним из ярких свидетельств борьбы является случай Мандельштама.
В статье «О природе слова» в период послереволюционного декларирования разрыва с христианским прошлым России (когда какой-нибудь Осип Бескин мог не без оснований поучать Сергея Есенина и других «русофильствующих», что «Октябрьская революция – не русская революция»5) Мандельштам поставил вопрос ни больше ни меньше о единстве русской литературы, а также о самом принципе ее непрерывности. Именно эллинизм, по Мандельштаму, и является этим принципом.
Как известно, эта статья, помимо харьковского издания 1922 г., вышла также на следующий год в Берлине (в Литературном приложении к «Накануне»), где имела уже иное название, которое вполне передает ее концептуальное содержание: «О внутреннем эллинизме в русской литературе».
Нелишне напомнить, что для Мандельштама русский язык – «язык эллинистический». «Живые силы эллинской культуры, согласно этой логике, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью»6.
В отличие от построений Вяч. Иванова, нигде, ни в одном предложении этой статьи, речь не идет о религиозной составляющей этой «самобытной тайны» русского языка. Может даже показаться, что в известных строчках о «домашнем эллинизме» русского языка (где речь идет о печном горшке, ухвате, крынке с молоком, посуде, тепле очага автор сознательно уклоняется от всякой сублимации, от любой символизации – в пользу вещности вещей). Тем более что с неприязнью говорится о «профессиональном символизме» и «лжесимволизме». Однако же обратим внимание на то, что предметы, окружающие человека, втянуты в его, человека, – «священный круг». Ссылаясь на Бергсона, Мандельштам говорит о «веере явлений, освобожденных от временной зависимости». Он настаивает не на «эллинизации» русского языка, а на его «внутреннем эллинизме, адекватном духу русского языка». Но что тогда понимается под духом языка? И почему этот «дух» языка эллинистичен по своей природе?
Что означают, далее, суждения Мандельштама о бытийственности русского языка, которую «можно отождествлять» с его «эллинистической природой»? Что означает предложение: «Слово в эллинистическом понимании есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие»?
По-видимому, это слово, которое «есть плоть» и в то же время «событие», не что иное, как Бог, в котором «слово стало плотью». Речь идет о Христе. Именно этот вектор истолкования достаточно темных слов Мандельштама и задан эпиграфом к этой статье из стихотворения Гумилёва «Слово», в котором противопоставлены мертвые «слова» (во множественном числе) и «Слово»:
- Но забыли мы, что осиянно
- Только слово средь земных хлопот
- И в Евангельи от Иоанна
- Сказано, что Слово – это Бог.
Именно Бог, Христос, – и есть то самое Слово, которое стало «плотью». В черновом варианте стихотворения Гумилёва, который вполне мог быть известен Мандельштаму (1919), «плоть» этого Слова особенно ясно выражена:
- Но живем под голубым окном
- Оттого-то и хотим мы Бога
- Сделать нашим хлебом и вином.
Однако и те строки окончательного варианта стихотворения Гумилёва, которые звучат в эпиграфе к статье Мандельштама, сами по себе знаменательны. Слово как греческий Логос, конечно же, вполне «освобождено от временной зависимости» и образует вокруг себя тот самый, говоря словами Мандельштама, «священный круг», который можно опознать как христоцентризм.
Логос-слово в его новозаветном греческом (т.е. эллинском) смысле, разумеется, не может не нести в себе как раз ту самую «бытийственность», о которой и пишет Мандельштам. «Русский номинализм», о котором говорится в статье, как «представление о реальности слова», зиждется именно на Воплощении в Слове Бога, то есть Христа.
Но из этого вытекает и другое. По-видимому, «слово», о котором говорят и Гумилёв, и Мандельштам, и которое может быть в данном случае передано – согласно «обратному переводу» – именно и только как логос – и составляет основу той самой филологии, о которой с такой настойчивостью говорится у Мандельштама.
В таком случае, скажем, «филологическая природа души» Розанова, с любовью отмечаемая Мандельштамом, и в целом «филологическая культура», недаром противопоставляются им «литературе». Здесь еще нет позднейшего – из «Четвертой прозы» – выпада против «литературы», фраз о «литературном обрезании» и инвектив, направленных на современное ему «писательство», как особой «расы», «везде и всюду близкой власти, которая отводит ей место в желтых кварталах, как проституткам». Эта самая «литература», по известным словам Мандельштама, «везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными»7. Почти исчерпывающая характеристика «литературы» наших «совписов», не постеснявшихся затем, когда это стало выгодно, создать миф о своей мнимой «оппозиционности» советской власти.
Хотя этих обвинений еще нет в статье «О природе слова», но все-таки уже имеется ценностная оппозиция «филологии» и «литературы». В аспекте нашей темы эта оппозиция может быть истолкована как противопоставление не только «дома» и «улицы», «семинария» и «лекции», но и «духа» и «буквы». Я бы настаивал на том, что за этой непримиримой коллизией «филологии» и «литературы» мерцает как раз различие их «внутренних форм», или эйдосов, т.е. «логоса» как слова и «литеры» как «буквы». Это различие так же фундаментально, как и новозаветный вопрос: что для чего существует – суббота для человека или человек для субботы. В одном случае мы имеем дело с отчужденными, т.е. внешними человеку «правилами», в другом случае – с его «внутренней» свободой. Потому так и акцентируется именно «внутренний эллинизм» русского языка, что в нем проявляет себя «свободное подражание Христу», которое, по Мандельштаму, и является «краеугольным камнем христианской эстетики». Отсюда и убеждение, высказанное в «Слове и культуре», что «теперь всякий культурный человек – христианин»8.
Еще один момент, как будто лежащий на поверхности, но по каким-то причинам не часто проговариваемый, хотелось бы подчеркнуть. Я имею в виду особого рода надрывный протест против утилитарного подхода к языку. Обращает на себя внимание не абстрактное теоретизирование на тему вредности утилитаризма по отношению к любому языку, вообще языку, языку как таковому. Нет, Мандельштам настаивает на том, что именно русский язык противится сведению его к чисто функциональному, как бы мы сказали сегодня, предназначению. «Ни один язык не противится сильнее русского языка… прикладному назначению»; «Всяческий утилитаризм есть смертельный грех против эллинистической природы русского языка»9. Конечно, с позиции столь ясно выраженной установки, говорить, например, о коммуникативной сущности языка как его якобы основной функции было бы почти непристойным…
Эти утверждения – равно как и представления о бытийственной природе русского языка – созвучны представлениям Вяч. Иванова о том же предмете. Как подчеркивалось выше, сущность русской идеи, согласно Иванову, есть религиозная христианская идея Воскресения, а «уподобление Христу» – «энергия… энергий, живая душа… жизни»10 народа. Этот христоцентризм русской идеи решительно не допускает позднейшие попытки редукции русской соборности до коллективизма, а то и тоталитаризма, предпринимаемые недобросовестными интерпретаторами нашего образа мира. Как раз Иванов совершенно определенно разграничил два противоположных типа человеческой общности, художественно раскрытыми в свое время Достоевским: легион и соборность. Если нехристианский, а затем и открыто антихристианский «легион» предполагает «скопление людей в единство посредством их обезличивания», то «соборность» есть «такое соединение, где соединяющиеся личности достигают совершенного раскрытия и определения своей единственной, неповторимой и самобытной сущности, своей целокупной творческой свободы, которая делает каждую изглаголанным, новым и для всех нужным словом. В каждой Слово (о котором мы рассуждали выше. – И.Е.) приняло плоть и обитает со всеми, и во всех звучит разно, но слово каждой находит отзвук во всех и все – одно свободное согласие, ибо все – одно Слово»11. Искажение русской картины мира как в изучении нашего языка, так и в изучении нашей словесности проистекало во многом оттого, что «легионеры» получили монопольное право на толкование отечественной филологии.
По мысли Вяч. Иванова, находящегося в то время всецело в русле православной традиции, «признание святости за высшую ценность – основа народного миросозерцания и знамя тоски народной по Руси святой. Православие и есть соборование со святынею и соборность вокруг святых»12. Беда советской филологии состояла в том, что именно эту «высшую ценность» десятилетиями при рассмотрении русской словесности выносили «за скобки» исследовательского внимания, подменяя ее произвольными и внешними по отношению к русскому национальному образу мира категориями и понятиями.
Именно в русском языке, еще раз вспоминая ивановскую статью «Наш язык», можно усмотреть слепок «божественной эллинской речи»; именно через язык, согласно его убеждению, русским «внутренне соприродна… мысль и красота эллинские»; «в нем (владеем мы) преемством православного предания, оно же для нас – предание эллинства». Переклички с приводимыми выше мандельштамовскими формулировками здесь слишком заметны, чтобы о них подробно рассуждать.
Конечно, вспоминая статью «Заметки о поэзии», слишком легко отвести это внутреннее родство двух русских поэтов суровыми и несправедливыми суждениями Мандельштама о реакционной Византии, о желательности «обмирщения» поэтической речи и т.п. Однако никто и не утверждает, что позиции Вяч. Иванова и Мандельштама совершенно совпадают. Мне представляется, что с позиций «большого времени» эти расхождения и несогласия следует понимать как продуктивный для русской культуры диалог двух различных «голосов». В этом контексте понимания, по слишком очевидным причинам, не вполне доступном самим свидетелям культурного слома ХХ в., суждения Мандельштама о «внутреннем эллинизме» русского языка и литературы отнюдь не оппонируют христианскому пониманию русской идеи, а напротив, являются дополнительным аргументом в утверждении этой идеи. Или же, как это выразил С.С. Аверинцев, «греческий язык для нас, русских, все-таки прежде всего не рыдание Аонид… но церковный распев, бережно сохраненный дивящий разброс слов в виноградной кисти Икоса или кондака»13. Тот же Аверинцев при этом мимоходом заметил, что сам Мандельштам «в изучении древнегреческого языка сам-то дальше воспетого им «пепайдевкос» не пошел, путал античную просодию… с тонической, вычитывал про сапожок Сапфо и все прочие эолийские чудеса из переводов Вяч. Иванова»14. Отнюдь не пытаясь оспорить знаменитого филолога, я бы хотел лишь заметить, что задачей данной работы было показать, что в самых неожиданных случаях мы все-таки можем порою угадать глубинное культурное родство того или иного автора с христианским искусством, частью которого и является русская литература, а через нее – и с русской идеей, как ее понимал Вяч. Иванов.
«ЗАПАДНИКИ», ГРЕКОФИЛЫ И ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ КАК ЧИТАТЕЛИ «МЕЧА ДУХОВНОГО» ЛАЗАРЯ БАРАНОВИЧА
Е.Ю. Матушек
Александр Белецкий называл главным направлением историко-литературной науки исследование, с одной стороны, восприятия произведения его современниками и ближайшими потомками, а с другой – влияния текстов на дальнейший ход литературного развития1. Автор отмечал, что нужна классификация литературы каждой эпохи по читательским группам, в которых она востребована2. Ученый акцентировал на необходимости изучения взаимоотношений этих групп и писателя. Кто и какие книги читал в XVII в. можно воссоздать по каталогам монастырских, церковных, школьных и частных библиотек, а также по переписке, пометкам на маргинесе, посвящениям книг. Мы постараемся реконструировать круг российских читателей сборника «Меч духовный» украинского проповедника второй половины XVII в. Лазаря Барановича, а также исследовать восприятие этой книги на материале суждений первых читателей.
60-е годы XVII в. отмечены активной европеизацией российского общества. В этот процесс были включены и выпускники Киево-Могилянской коллегии – Симеон Полоцкий, Епифаний Славинецкий, Дамаскин Птицкий, Арсений Сатановский. Лазарь Баранович как реальный представитель западного образования и модернизированной к тому времени украинской церкви также принимал в этом участие. Осенью 1666 г. он прибывает в Москву для участия в церковном соборе. Владыка привозит с собой несколько экземпляров только что изданного сборника проповедей «Меч духовный», который дарит царю и некоторым из его окружения.
Конфликт между светской и духовной властью за главенствующую позицию в обществе еще в латинском средневековье оформился в теорию «двух мечей». В России он обостряется во второй половине XVII в. между царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном. Посвятив свою книгу «Меч духовный» царю, Лазарь символически отдает ему всю полноту власти.
Печатные издания посвящались известным людям, с одной стороны, и читателям – с другой. Но обращение к одному, по Ю. Лотману, опубликованное в книге или журнале, меняет аудиторию, адресуясь уже любому читателю3.
Лазарь Баранович выстроил и концепцию власти, и художественный мир своей книги с помощью западных текстопорождающих моделей. Первое предисловие последовательно моделирует образ идеального царя, имея в виду Алексея Михайловича. Он – эксплицированный адресат. В предисловии нет прямого противопоставления царя и патриарха. Но если посмотреть на основные аргументы текста, то станет понятно, что это «перевернутые доводы» царского оппонента. Патриарх Никон посвятил проблеме двух властей книгу под названием «Возражения или разорения смиренного Никона»4. Основными тезисами автора были: священство выше царства, священство – от самого Бога, царь ограбил церковь.
Как раз патриарх Никон и стал одним из первых читателей «Меча духовного», экземпляр которого он получил сразу после приезда Барановича в Москву. Патриархом был написан критический ответ – «Свиток». В нем Никон обвинил автора в латинской ереси, перечислил мелкие недочеты в книге, дал замечания по поводу ее внешнего вида, выразил недовольство за частое цитирование католических писателей.
У опального патриарха было много симпатизирующих. А. Карташев утверждает, что иерархия русской церкви разделяла позицию Никона, хотя в открытую ее и не отстаивала5.
В связи с этим совсем не случайно «Меч духовный» был одобрен московским собором и за счет правительства разослан в монастыри и епархии в качестве средства переубеждения монахов и священников. Из книг киевской печати он был самым распространенным изданием в России второй половины XVII в., перегнав даже Киево-Печерский патерик. С. Луппов нашел экземпляр «Меча» в приходской библиотеке города Устюга6. В. Перетц обнаружил этот сборник проповедей в описях книг северных монастырей России (Успенско-Андреевская и Корнилова пустыни (2 экз.), Николо-Коряжемский и Глуницкий монастыри, а также Вологодский архиерейский дом7). Ученый утверждает, что книги из монастырских библиотек использовались для духовного чтения как в самих обителях, так и в миру (за определенную плату)8. В конце XVII в. в состав патриаршей библиотеки входило 38 экземпляров «Меча». Эти факты свидетельствуют о том, что в то время сеть духовных библиотек России была пресыщена сборниками проповедей Лазаря Барановича.
Симеон Полоцкий (духовник царя, учитель царских детей, профессиональный писатель) написал четыре эпиграммы, посвященные «Мечу». Автор дал им описательное обобщающее название «На книгу, именуемую “Меч духовный”, епиграмма». Симеон сгруппировал их и позже ввел в рукописное собрание «Рифмологион». Эти стихи можно считать читательской интерпретацией книги черниговского епископа.
Еще Цицерон утверждал, что «между поэтом и оратором много общего; правда, поэт несколько ограничен в ритме и свободнее в использовании слов, однако много других способов украшения речи у них подобны…»9.
Из трактатов по риторике и поэтике можно определить, что эпиграмму и ораторскую прозу объединяют:
1) способ изобретения и разработки темы. Например, по Митрофану Довгалевскому, распространение темы чаще всего происходит в соответствии с такими пунктами: кто, где, с помощью чего, почему, каким способом, когда. А также текст строится на материалах, взятых из родословной, истории, сказки, присказки, обычая, происхождения имени или аллегории, из причины, следствия, на основе сентенций и подобия и др.10;
2) acumen или теория остроумия11;
3) введение в текст похвалы или порицания. Эпиграмма может содержать в себе оправдание или осуждение как образцы судебного красноречия;
4) мораль, дидактический вывод12.
В соответствии с набором формальных признаков и функций, которые она выполняет, эпиграмма была близка к барочной проповеди, соответственно, язык эпиграммы был идеальным для описания проповеди. Этим и воспользовался Симеон Полоцкий.
Как правило, эпиграмма короткая. Митрофан Довгалевский допускает, что она не должна превышать 10 стихов13. Эпиграммы Симеона Полоцкого состоят из 52, 10, 8 и 8 строк, т.е. 26, 5, 4 и 4 двустиший соответственно.
Эти четыре эпиграммы усиленно эмблематичны и литературны. По Митрофану Довгалевскому, эпиграмма – это inscriptio или superscripcio, т.е. надпись, которая ставилась на разных культурных сооружениях. Текст Симеона Полоцкого – это надпись на книгу. Автор использует в качестве источника стихов «Предословіє ко читателю», которое в свою очередь служит в качестве прозаической подписи к форте «Меча духовного». Лазарь Баранович в предисловии объясняет гравюру, раскрывает смысл названия книги и функции составляющих ее частей.
Главным средством связности текста предисловия выступает образ меча, который раскрывается барочным способом – цитатами из разных библейских книг, содержащими ключевой образ, т.е. сильными аргументами из наиболее авторитетного христианского источника. Но если у Барановича это цитаты с атрибуцией (на маргинесе), то у Симеона Полоцкого – это реминисценции библейских текстов. Таким образом, Симеон Полоцкий изобретает материал не самостоятельно. Референция для него, с одной стороны, – сборник Барановича, а с другой – его автор. Соответственно, у него два предмета изображения – вещь и особа, которые условно делят эпиграмму на две части (1–24 и 21–52 строки). Прежде всего, эпиграмма [1] акцентирует на духовной функции меча:
- Нуждно есть небо хотяй восхитити
- имат мечем сим рать в мире творити
- духовным, дуси будут посечени,
- а благим злии будут поражени 14.
Кроме того, автор стихов (не без помощи евангельских цитат из предисловия Барановича) описывает ключевой образ:
- Остр обоюду и есть действен зело
- Души и плоти враги сечет смело 15.
Симеон Полоцкий называет источники книги Барановича и происхождения проповеди вообще:
- Драг злата паче от Божия слова
- Нова Завета бысть его основа.
- Не из земна кружца он сооружися,
- Оубо тли празден, ратуй, не сумнися,
- Вещество его с небес принесенно
- Устнами Христа: тем же есть спасенно 16.
Перефразировав слова Иисуса из Евангелия от Луки [Лк. 22], Симеон Полоцкий содействует распространению книги, акцентируя на ее роли в духовном усовершенствовании человека:
- И небо может оным ся набыти,
- оубо продавши ризу, меч купити
- сей подобает, им же и одежду
- стяжает небесну имяяй надежду 17.
Вторая часть эпиграммы – панегирик Лазарю Барановичу. Симеон Полоцкий амплифицирует остроумные фразы относительно автора сборника, использовав имя и материал из евангельского сюжета о Лазаре четырехдневном, а также из дополнительных средств, а именно – должности (за функцией) и этимологии фамилии:
- Пастырю с овцы зело есть прилично –
- Барановичю с агньцом есть обычно 18.
Заканчивается эпиграмма пожеланиями проповеднику:
- Ты – живот, Христе, и здравия датель,
- Жив, здрав да будет наш мечекователь 19.
Вторая эпиграмма построена на основе образного топоса «жизнь-борьба», взятого из первой строки предисловия Барановича: «Сих брани полных времен, ничтоже тако полезно, яко же меч»20. Текст сформирован на основе семантико-когнитивной структуры. Его связующим компонентом является принадлежность образов эпиграммы к одному тематическому кругу. Микросценарий «духовной брани» состоит из таких частей: «брань – борец – меч – помощь – враги – победа – подвиг».
Общеизвестно, что интерпретация должна быть основана на структуре текста21. Исследователи рассматривают ее как схему связности его ключевых знаков. Исследователь В. Лукин отмечает, что ее-то и можно использовать как «грамматику интерпретации»22. Примечательно, что в эпиграммах ключевое слово, взятое из заглавия (меч), повторяется в четырех стихах 16 раз (включая и неологизмы «мечекователь» и «мечатворец»). Наиболее выразительно оно выглядит в контексте других повторов, например (схема: 1/ 1, 2, 1/ 1, 2/ 3, 3):
- Житие наше брань ся именует –
- всяк борец меча на брань потребует:
- На брань духовну се есть меч духовный
- словесной твари, не железный, словный 23.
В третьей эпиграмме автор, использовав евангельское уподобление «Христос-камень» и усилив его глагольными противопоставлениями, выстроил свой текст:
- Коса о камень может ся тупити,
- но меч каменем может ся острити.
- Камень есть Христос, им же изострися
- сей меч духовный, а не притупися 24.
Четвертая эпиграмма – реализация определенной герменевтической программы, заложенной в тексте-доноре. Она функционально тождественна предисловию и состоит из пожеланий читателю:
- С духами злобы хотяй ратовати
- меча духовна должен есть искати:
- Не ищи, борче, се ищет он тебе,
- готов он к действу, ты готови себе.
- Чти, ач ти токмо победа готова,
- венец ти будет от божия слова.
- Его же моли, да и мечатворцу
- венец зготовит яко тебе, борцу 25.
За источником, образными составляющими, двумя основными предметами изображения эти четыре эпиграммы – фактически один текст. Сравнив их с претекстом, можно сказать, что это стихотворный перифраз прозаического предисловия Черниговского епископа. Но если у Барановича – это текст о тексте, то эпиграммы – текст о предисловии, текст, который описывает литературный факт и дает ему оценку, прославляет его автора, ориентирует читателя. При этом он построен на типологически подобных основах по сравнению с претекстом, прежде всего принципе изотопии, что проявляется в использовании повторов, парафраза, синонимов, антонимов. Но эти средства, в соответствии с лаконичными законами другого жанра, имеют особую остроту и выразительность. Можно сказать, что интерпретация Симеона Полоцкого была идеальной с точки зрения понимания и воспроизведения претекста. Лазарь Баранович сам дал ей оценку в письме к Симеону Полоцкому в мае 1669 г.: «…сколь благосклонно принял ты «Меч», столь снисходительно да преклонится ухо к «Трубам»26.
Оригинальную интерпретацию получил текст Барановича у авторов из старообрядческой среды. Их герменевтическая рефлексия была направлена на образ царя из предисловия. Уже после смерти Алексея Михайловича анонимный автор «Возвещения от сына духовного к отцу духовному» понимает тезис о бессмертии царя из предисловия в прямом смысле. В старообрядческом тексте «Меч духовный» Барановича получает новое неожиданное название – «Сабля никонианская»27. Для старообрядцев и царь, и патриарх были грекофилами и реформаторами. И совсем не важным, с их точки зрения, было противостояние между ними, а тем более симпатии Барановича.
Таким образом, книга Лазаря Барановича моментально была вовлечена в политическую, духовную и художественную жизнь российского общества. Она нашла читателей в разных духовных сферах и даже вызвала определенные полемические вспышки. Показательно, что художественное восприятие, объективированное в читательских высказываниях, было шире авторской программы воздействия. Реакция читателей показала разные мнения из духовной среды относительно открытости к изменениям русского общества второй половины XVII в.
ПРИНЦИП IMITATIO CHRISTI В «РЕЧИ О ЧИСТОТЕ РОССИЙСКОГО ЯЗЫКА» В.К. ТРЕДИАКОВСКОГО
Ю.В. Сложеникина
Социальным принято считать творчество, затрагивающее проблему взаимоотношения власти, общества и писателя. Тредиаковский стал первым поэтом, попытавшимся утвердить социальный статус писателя Нового времени. Грандиозность целеполагания заставила Тредиаковского в течение жизни три раза менять свою социальную роль и тип писательского поведения. Начальный период его творческой деятельности прошел под знаком французской модели, рассчитанной на эпатаж, авантюру, отрицание сковывающих рамок условности, ориентацию на живые природные чувства. Художественным артефактом, вписанным во французскую модель писательского поведения, стала «Езда в остров любви» (1730). В «Езде…» Тредиаковский впервые заявил о себе как о стороннике «новых» в споре с «древними». С юношеским задором двадцатисемилетний переводчик «Езды…» примерил на себя роль реформатора – борца с патриархальными устоями традиционалистов. Однако, несмотря на успех у читающей молодежи, верхушка светского общества и церковнослужители были удивлены столь «новаторским» произведением молодого автора и не приняли его.
В 1732 г. Тредиаковский примерил на себя роль придворного поэта. Основной формой прославления государя и новой Империи в это время были оды. Одическую моду при дворе в это время задавали немецкие поэты. Поиск иной социальной роли приводит Тредиаковского к созданию по немецкой модели «Панегирика, или Слова похвального всемилостивейшей государыне императрице самодержице всероссийской Анне Иоанновне» (1732).
В 1733 г., после утверждения в должности секретаря Академии, Тредиаковский выдвинул идею организации Российского собрания по образцу Французской Академии. Целью этого собрания должно было бы стать поощрение и усовершенствование русского языка. 14 марта 1735 г. ученый выступает с программной «Речью о чистоте Российскаго Языка». Спустя 17 лет торжественное слово было включено Тредиаковским в двухтомное «Собрание сочинений» 1752 г. под названием «Речь, которую в Санкт-Петербургской Императорской Академии Наук к членам бывшаго Российскаго собрания во время перваго их заседания Марта 14 дня, 1735 года о чистоте Российскаго Языка говорил В. Т.» (Далее «Речь…»). Очевидно, что Тредиаковский в зрелом возрасте не отказался от своих ранних посылов, а авторская установка, проблемы и задачи, обозначенные в работе, не потеряли актуальности и в 50-е годы XVIII в.
1745 г. – новый период социального и литературного творчества Тредиаковского. Поэт избирает путь наставника, просветителя народа. Теперь, по Тредиаковскому, поэт – это не кто иной, как помощник монарха в деле возвращения государства к золотому веку человеческой истории.
Петровские преобразования поставили перед интеллигенцией середины XVIII в. задачу языкового строительства в новой культурной ситуации секуляризованного государства. И Тредиаковский уже в 1735 г. остро ощущал несоответствие языковой теории и практики состоянию общественной жизни: «Великая потребность в сем деле!.. коль ни полезно есть Российскому народу возможное дополнение Языка, чистота, красота, и желаемое, потом, его совершенство…»1 По Тредиаковскому, усовершенствованный, благодаря радению Петра I, язык по прошествии лет, ко времени правления императрицы Анны, нуждается в новом «попечении»: «Посмотрите, от ПЕТРА ВЕЛИКАГО лет, обратившись на многии прошедши годы; то размысливши увидите ясно, что совершеннейший стал в ПЕТРОВЫ лета язык, нежели в бывшия прежде… нимало не сомневаюсь, чтоб, достославныя АННЫ в лета, к совершенной не пришел своей высоте и красоте»2.
В «Речи…» Тредиаковский определил три наиглавнейшие задачи в деле языкового строительства: 1. Написание Грамматики, доброй и исправной, основанной на употреблении мудрых; 2. Создание Лексикона, полного и довольного; 3. Сочинение Риторики и Стихотворной науки3.
Тредиаковский сетует, что начинателей сего славного дела в России очень мало, и твердо надеется, «когда малый, уский, и мелкий наш поток, наполнився посторонними струями, возрастет в превеликую, пространную, и глубокую реку, то есть когда число наше искусными людьми умножится, и прибавится…»4.
Исследователи однозначно утверждают, что в 30–40 годы XVIII в. Тредиаковский ориентировался только на западноевропейскую традицию. Крайняя точка зрения обозначена Л.Е. Татариновой5. Действительно, оказавшись во Франции, он был буквально очарован культурой светского салона. Ю.М. Лотман предполагал, что идея перенести в Россию академическую и салонную французскую культуру захватила мысли молодого новатора. Во французской прециозной среде первой четверти XVIII в. выработался свой язык общения. Создателями этого языка стали избранные персоны: поэты, писатели, обладающие ученостью и стремлением к образованию. Салонная культура была тесно связана с гуманистической традицией Ренессанса. Противопоставляя себя царствующему двору, она утверждала в абсолютистском государстве идею внесословного равенства6. Для Тредиаковского проблема сословного неравенства всю жизнь оставалась источником страданий и унижений. Известно, что сам он происходил из семьи поповичей. Не имея ни материального достатка, ни знатных покровителей, он мог надеяться только на себя и попытаться воспользоваться открывшимися возможностями реформы Петра I в построении внесословного государства. Тредиаковский не мог принадлежать к высшему свету по праву рода, но, может быть, европейское образование, ученость и писательство могли бы уравнять его со знатью?! В «Речи…» 1735 г., осчастливленный должностью в Академии, он обращается к членам Российского собрания с риторическим вопросом: «…не знаю, что должен я о себе помышлять. Возможноль сему статься, и правдаль то, что и я удостоен действительно вашего содружества, котораго токмо такой быть достоин может, кто многаго есть разума, довольныя науки, твердаго и зрелаго рассуждения, словом, подобный вам»7.
В программной «Речи…» Тредиаковский подчеркивает особое значение западноевропейского опыта для становления отечественной риторики: «Помогут нам в ней премногии творцы Греческии и Римскии; а наипаче хитрый и слаткий в слове Марк-Туллий-Цицерон. Помогут Францусскии Балзаки, Костарды, Питрю, и прочии бесчисленныи. Помогут многии преславныи писатели Немецкии…»8. Неумолимо, с точки зрения Тредиаковского, значение переводов.
Европейский опыт служит для теоретика языка примером для подражания: «…первыиль мы в Европе, которым сие не токмо трудно, но почитай и весьма неприступно быть кажется?.. Например: не нетрудно было, в самом начале, Флорентийской Академии старание приложить к чистоте своего языка; приложила. Не нестрашно было, мню, предприять также и Францусской Академии, чтоб совершеннейшим учинить свойство там употребляемаго диалекта; предприяла. Невозможно, чаю, сперва казалось Лейпцигскому содружеству подражать толь благоуспешно вышереченным оным Академиям, коль те начавши окончали щасливо; подражает, и подражало благополучно»9.
Эксплицитно в «Речи…» 1735 г. о предшествующем отечественном книжном опыте не упоминается. Точкой отсчета русского языка Тредиаковский называет Петровскую эпоху. Более того, всячески подчеркивается первенство членов Российского собрания и самого автора в деле создания русского языка. Обратим внимание на разнообразие форм от глагола «начинать»: «Знаю, что трудно будет начало; но своя есть честь и начатию… На что нам завидовать щастию и славе других в окончании, когда довольно всего того с нас будет в начатии, и в продолжении. Но хотя нас и устрашают трудности; однако начнем, а по начатии нечто из того произойдет, по крайней мере, побуждение других к подобному делу: не начинаяж ничего, ничего и не будет»10.
Однако имплицитно влияние церковно-славянской книжной традиции заметно в композиции и языковых особенностях «Речи…». Выше приведенная фраза отсылает нас к Прологу Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без Него ничто не начало быть» [Ин. 1. 1–3].
Начало «Речи…» вполне соответствует житийной топике, когда древнерусский автор, приступая к богоугодному делу написания жития святого, начинал с прославления Бога и самоуничижения. Топосы прославления в «Речи…» Тредиаковского представлены в трансформированном виде. Они обращены к иному адресату, тогдашнему Президенту Императорской Академии господину Иоанну Албрехту барону фон-Корфу. Тредиаковский называет его главным Командиром, остроумным и мудрым Мужем, особой «в мудрых мудрой, в ученых ученой, в достойных достойной…»11. Выстраивая антитезу, собственную персону автор характеризует как имеющую многие недостатки и неспособности, собственное риторическое слово как неискусное, должность в Академии как непосильную, не соответствующую тупости его ума.
Тредиаковский указывает на цель своих филологических практик: «…ради сего станем трудиться, чтобы и по смерти не умереть»12. Он совершенно определенно выстраивает схему иерархии авторитета и авторства: Бог – императрица Анна – поэт: «…возблагодарим токмо всеблагому БОГУ, что милостиво свое подобие, ИМПЕРАТРИЦУ АННУ, даровал нам здесь, да здраво, благополучно, и долговременно та царствует над нами»13. Новый язык нужен писателю, чтобы прославлять правление императрицы: «Сего точно ради ныне должность сия вам поручается, дабы, по скольку возможно, в совершенство приводить Язык наш, и чрез тоб иметь хотя малое средствие к прославлению дел и добродетелей Государыни нашея»14. В лице императрицы для Тредиаковского совместились добродетели мудрого, храброго, щедрого, правосудного, любезного, рассудительного, великодушного монарха и божественная милость: «Глух есть, кто не слышит громогласных проповедей по всей России, от всех чинов, на всяком месте, о крайней Самодержицы нашея милости; слеп есть, кто не видит повсюду текущаго, неудопонятнаго потомкам, щедрот ея источника; окаменен есть, кто не чувствует сердцем матерняго ея ко всем милосердия…»15. Текст аллюзивно отсылает нас к библейскому первоисточнику: «…потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смотреть будете – и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем…» [Матф. 13. 13–15]. Какова же, по Тредиаковскому, роль поэта? Поэт сохраняет истину для будущих родов: «…достовернейшая сия истинна такова вменится, каковы преукрашенные слогом басни древних и новых Пиитов нам быть кажутся»16.
Когда Тредиаковский 14 марта 1735 г. выступал с речью перед членами Академии, ему шел тридцать третий год (поэт родился 22 февраля по старому стилю 1703 г.). Возложив на себя многотрудные обязанности на поприще совершенствования российского языка, поэт встал на путь imitatio Christi. Тредиаковский дает публичный обет смирения и послушания: «…но послушанием, но почтением к Его Превосходительству, с вами сравниться всячески постараюсь. Не будет во мне, да и не надлежит, никакова велениям его сопротивления, не будет отнюд отречения, не будет и нималаго преслушания: ко всему, чего моя должность взыскивать с меня ни будет, увидит он меня готова; ко всему, да и всегда, прилежна; ко всему радетельна, и толь, коль самая возможность до того меня допустит…»17. Он не уверен, примет его академическая общественность или закидает камнями: «…Его Превосходительство несколько меня достойным изобрящет вашего собщества, и вы не будете сожалеть, что искусныя ваши наставления, в рассуждении чистоты нашего Языка, в прибыток мой, к пользе общей, купно с вами трудясь, употреблю: что и дабудет благоуспешно, желаю»18.
Тредиаковский избирает путь апостольского служения: не для себя, но для потомков. Он неоднократно подчеркивает, что не достоин нести «толь тяжкое бремя», акцентирует внимание на низости своего положения. Топика поведения задана словами апостола Павла: «Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как Аарон» [Евр. 5. 1–4].
Тредиаковский обращается к библейским образам пчелы и цветка; как риторическая фигура наращения в этом же контексте появляется образ соболя: «…для себяль единыя Пчела слаткий мед собирает, а и не для нас? Для себяль единаго Соболь драгоценную носит одежду, а и не для нас? Не для себя и прекрасныи Цветы благовонны, но для нас»19. Мотив пчелы и цветка имеет ветхозаветное происхождение: «Мала пчела между летающими, но плод ее – лучший из сластей» [Сир. 11. 3; см. также Притчи Соломона. 6. 6–11]. 24 глава «Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова» прославляет Премудрость через семантику растительных образов: «Я [премудрость] возвысилась, как кедр на Ливане и как кипарис на горах Ермонских; я возвысилась, как пальма в Енгадди и как розовые кусты в Иерихоне; я, как красивая маслина в долине и как платан, возвысилась. Как корица и аспалаф, я издала ароматный запах и, как отличная смирна, распространила благоухание, как халвани, оникс и стакти и как благоухание ладана в скинии. Я распростерла свои ветви, как теревинф, и ветви мои – ветви славы и благодати. Я – как виноградная лоза, произращающая благодать, и цветы мои – плод славы и богатства. Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими; ибо воспоминание обо мне слаще меда, и обладание мною приятнее медового сота» [Сир. 24. 14–22]. Образ соболя, символизирующий пышность одежд, отсылает к богоизбранному Аарону-толмачу – посреднику между пророком Моисеем и людьми, первому получившему сан священника и право совершать культовые действия: «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия» [Исх. 28.2]. Особое благолепие одежд первосвященника становится метафорой красоты его речи.
Конец речи совмещает imitatio apostoli и imitatio angeli Тредиаковский снова показывает смирение и непротивление: «…сию Речь, на сих листках написанную, в ваше отдаю рассмотрение, прося, да соблаговолите в ней неправильное исправить, недостаточное наполнить, непринадлежащее надлежащим украсить, лишнее вон вынять; и сим образом из неслаткия, зделать ея хотя несколько пошлою, и приятною»20.
Тредиаковский не боялся трудностей, занимая должность в Академии с обязанностями вычищать русский язык: «…и трудность в нашей должности не толь есть трудна, чтоб побеждена быть не возмогла. Одно тщание, одна ревность, одна неусыпность от нас требуется. Можнож дать и способ, чрез который тщание, ревность, и неусыпность непреминуемо иметь мы будем. Верьте мне, когда о труде памятовать не станем; когда хвалы, славы, и общия пользы желать станем; когда не для того будем жить, чтоб не трудиться, но ради сего станем трудиться, дабы и по смерти не умереть: тогда нечувствительно привыкнем и пристрастимся к тщанию, ревности, и неусыпности»21. По сути дела, Тредиаковский в данном отрывке обращается к жанру светской проповеди, тематическим ключом для реконструкции которой являются библейские аллюзии. Так, призыв к ревностному служению отсылает нас к «Посланиям апостола Павла»: «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дела ваши и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования» [Евр. 6. 10–12]. Призыв к тщанию может быть интерпретирован через «Первую книгу Ездры»: «Все, что повелено Богом небесным, должно делаться со тщанием для дома Бога небесного» [1 Езд. 7. 23]. Возлагая на себя обязанности ревнителя русского языка, Тредиаковский приравнивает свою деятельность к апостольской. Избрав путь ученого и писателя – просветителя народов – Тредиаковский заручается авторитетом Священного Писания и Предания, исторического прошлого России, ее культуры, искусства, в том числе и языка, конечно, церковно-славянского.
К.М. ВИЛАНД В РЕЦЕПЦИИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
С.А. Салова
История восприятия Виланда в России является малоизученной областью как в отечественной компаративистике, так и в истории художественного перевода. Благодаря капитальной статье Р.Ю. Данилевского, опубликованной еще в 1970 г. в сборнике «От классицизма к романтизму», значение «непререкаемого» получил тот факт, что «первые упоминания о Виланде в русской печати и первые переводы его произведений относятся к концу 1770-х годов»1. Впрочем, исследователь вполне допускал, что Виланд «был известен в России тем читателям, которые владели немецким языком, задолго до появления переводов»2. Данилевский специально указал также на ту особую роль, которую сыграли русские масоны в популяризации нравоучительных и чувствительных сочинений Виланда. Творчество же Державина, никогда не поддававшегося на приглашения вступить в масонские ложи, вплоть до настоящего времени остается фактически вне поля зрения исследователей проблемы «Виланд в России».
Между тем есть основания полагать, что Державин был в числе тех первых заинтересованных читателей и поклонников Виланда в России, которые предвосхитили восторженное отношение к сочинениям этого немецкого автора со стороны многих отечественных представителей сентиментализма и предромантизма. Означенное обстоятельство заостряет необходимость научной постановки вопроса об особенностях творческого освоения Державиным поэтико-философского наследия Виланда. Оговорим особо, что речь пойдет о художественном преломлении «виландовского» компонента в образной системе, тематике и содержательном наполнении нескольких конкретных стихотворений Державина, созданных им в разное время и впоследствии включенных в сборник «Анакреонтических песен» 1804 г.
Следы знакомства с сочинениями Виланда, как нам представляется, обнаруживает уже ранняя любовная лирика Державина, точнее – те четыре стихотворения на любовную тему («Объявление любви», «Пламиде», «Всемила», «Нине»), создание которых обычно относят к 1770 г. Первое из них утверждает идеал одухотворенной любви, понятой как взаимное движение навстречу друг другу, как глубокая внутренняя связь вплоть до полного слияния душ: «Что с тем сравнится восхищеньем, / Как две сольются в нас души?»3 Только такая любовь осмысляется как причастная к божественному, как единственно способная возвысить человека и уравнять его с богами: «Любовь лишь с божеством равенство / Нам может в жизни сей дарить»4.
Неоплатонический пафос подобных лирических излияний вполне очевиден. Поэтическая мысль Державина подпитывалась из источника платоновской мудрости и при создании следующих трех лирических миниатюр, каждая из героинь которых оказалась в центре конкретной любовной коллизии, персонифицируя при этом соответствующий тип любви земной, плотской. Воссозданные здесь модели интимного поведения женщины категорично отвергались условным автором как противоречащие прокламированному ранее этическому идеалу взаимоотношения полов в сфере чувства.
Пламида представлена как жрица продажной любви, чей прагматизм и жажда денег расценивается как фактор, вульгаризирующий и в конечном счете истребляющий любовное чувство, что и произошло с условным автором стихотворения: «Но слышу, просишь ты, Пламида, / В задаток несколько рублей: / Гнушаюсь я торговли вида, / Погас огонь в душе моей»5. Пунктирно намеченная в следующем микросюжете любовная драма прекрасной Всемилы, покинутой соблазнившим ее мужчиной, осмыслена сквозь призму четких и жестких этических критериев: «Так! Добродетелью бывает / Сильна лишь женщин красота»6