Система РФ. Источники российского стратегического поведения: метод George F. Kennan Павловский Глеб
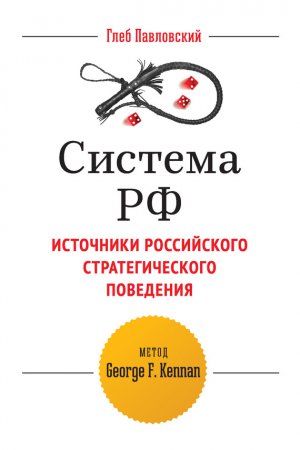
Тонко замечание авторов доклада об экспансии с Запада на Евровосток институтов, созданных для обслуживания биполярного мира. Это хорошая иллюстрация к тезису Михаила Гефтера о главной угрозе конца холодной войны: экстраполяции исторических инструментов к решению постисторических задач. Экспансия европейских институтов – попытка обойтись техникой прогресса в ситуации упадка универсалистских институтов мировой истории. И тут универсальное неизбежно становится исключающим.
Вряд ли можно объяснить отношение новой Европы к новой России только невротическим переносом «России-Другой Европы». Здесь проявляется новая энергетика – универсализма как исключительности. Универсальные принципы превращаются в нормы фильтрации, а европейские стандарты – в невидимый, но ощутимый в Москве произвол.
Сегодня объединенная Европа, Россия и Украина живут в отравленных клубах измененного сознания, ставшего последней реальностью. Каждый стал шансом, потерянным для другого. Россия не симметрична Евросоюзу, хоть возникла с разрывом в несколько недель (декабрь 1991-го – РФ, январь 1992-го – Маастрихт). Зато симметричны упущенные шансы. Россия пропустила свой шанс стать европейским государством-нацией в момент, когда ЕС упустил возможность дать России стать Европой. РФ как шанс объединенной Европы, потерянный в 90-е годы, породил кошмар для постмодернистов Европы 2014 года.
Россия не встретила серьезного европейского вызова, который заставил бы ее серьезно отнестись к внутренним реформам. Два десятилетия в Москве довольствуются пустым, даже наглым по звонкой пустоте термином процесс реформ. Бездумно доверили реформы случайной «команде Гайдара». Та немедленно породила «команду Кремля», а к 1999–2000 году как ее дериватив – путинскую команду, правящую по сей день. Великолепный пример непрерывности «процесса реформ»!
Европа не стала вызовом для России в 1992 году, и оттого Россия стала вызовом Европе в 2014 году. Сегодня, когда Европа решилась бросить вызов России из-за Путина и Украины, запоздалый вызов грозит перейти в глобальный.
Вызов, для которого у мира, кажется, больше нет лидеров соответственного масштаба.
Крастев и Леонард говорят, что Европа ошибочно приняла слабость России и ее неспособность помешать за согласие. Дело, однако, еще хуже. Население государства-остатка СССР, именуемого РФ, сначала и не думало противиться новому порядку, не зная, чего хотеть.
Часть советского общества еще в 70-е годы разочаровалась в ценностных и просвещенческих аспектах коммунизма. Конец истории здесь поняли как долгие каникулы. Заодно с марксистским универсализмом, идеологией равенства и братства Россия отреклась от всякого универсализма вообще – как опасного лжеучения. Место понятий о всеобщем гуманном порядке исчезло в принципе. С этого момента и далее запрос на порядок в мире провоцировал в Москве ложный выбор между чужим(западным, понятым полицейски) – и биполярным«ялтинским» порядком времен холодной войны.
Не имея более единого адреса для жалоб, население погружалось в рессентимент, копило черную злобу. Реванш толпы переживался правящими кругами как вечная угроза себе. «Они нас растерзают, как только смогут!» – слышал я много раз, – но кто эти «они»? Страх сфокусировался в образ населения РФ как источника бедствий. Система РФ выстроилась как суррогат государственности и эшелонированная линия безопасности для элит.
Но даже и тогда новая Россия хотела не победить Запад, а к нему присоединиться. В фантазиях мы «уже» присоединились – долларизацией быта, политики и хозяйства, турпоездками, вещами и потребительскими привычками. Длинным рядом осязательных «аргументов», делающих отказ в равенстве со стороны Запада чем-то непонятным и злонамеренным.
Стресс 2004–2006 годов стал переучредительным моментом для Системы. Фокусирующим термином снова, как в 1990-м, стал суверенитет. Крастев и Леонард тонко замечают новизну понятия суверенитета в России, в отличие от европейского и коммунистического: этот суверенитет энергичен, это импульс активизма. В русской классике суверенитет производен от суверенности – личной независимости, реализуемой в поступке: старинный, XIX века, моральный дериватив здесь переходит в неограниченное право на любое действие, даже имморальное.
Далее пролегает маршрут властной воли к неограниченному расхищению глобализации как возобновляемого природного блага.
Путинизм утверждался, в том числе мной, под стягом борьбы с сепаратизмом и во имя «территориальной целостности России». Тема еще тогда навязла в зубах, ее жуют по сей день. Не только в телепропаганде – ее обожает новый Уголовный кодекс РФ. В реальности же риск давно снят и угрозы территориального распада для России нет. Борьба идет за иную неделимость – единый и неделимый авторитет.
«Монолитная нация», о которой говорит Путин, это пароль борьбы за признание диктата надгосударственным правом. Команда Кремля давно превратила себя в институт, но теперь ей важно стать еще и чем-то традиционным, уходящим в глубь веков. Тут из корсуньской ночи выходит князь Владимир – якобы предок по прямой всех правителей Руси, вплоть до президента РФ.
Зато толпа теперь должна растерзать кого-нибудь другого.
Стало догмой, будто Путин и Кремль «боятся киевского Евромайдана и европейской ориентации Украины». Объяснение действий Путина страхом тривиально – всякий политик чего-то боится, и каждое второе действие легко объяснить страхом. Но как универсальная отмычка страх политика бесполезен.
В происходившем прошлой зимой в Киеве и вправду было чего испугаться. Конфликт Евромайдана с властями Украины к началу 2014 года перерастал в городскую революцию. Всякая революция в ее развитии имеет вдохновляющий для участника и устрашающий неучастников характер. Устрашаются даже те, кто поначалу сочувствовал.
Начатый в стиле Вудсток и окруженный «титушками» и отрядами «Беркут», Евромайдан преобразился в Вестерплатте. Пули, огонь и лица, озаренные ненавистью. За радикализацию Майдана ответственность несла власть Януковича, что еще недавно признавал даже Путин. Радикализуясь, революция ищет себе язык, стиль и мотив. В 2004 году аппаратной интриге Ющенко хватило модного «помаранчавого» апельсинового обрамления. Но в 2014 году революция, выживая под пулями, вобрала в себя мифологию УПА и националромантику, взятую со склада украинского исторического реквизита.
Театральные декорации вышли на площадь, став хорошо различимым пугалом. Соотношение тех, кто боялся и кто не боялся революции, менялось в пользу напуганных в меру того, как революция шла к триумфу. После бегства Януковича в боящихся оказалось чуть не пол-Украины. Включая лидеров старой оппозиции, потерянных перед стихией Евромайдана. Зато на самом Крещатике боящихся не стало – все здесь прошли пытку страхом и, пройдя, переменились.
Теперь перемены ждали остальную Украину. Когда в Киеве бояться почти закончили, на востоке и юге Украины лишь начинали. В Москве спешили сделать новую ставку, проклиная, что дали играть за себя бездарному игроку – Януковичу.
Чего боялся Кремль? НАТО в Севастополе, Майдана в Москве? Или своей обнаруженной вдруг неспособности оценить факты вовремя? в истоке революций всегда есть видимая на расстоянии цепочка ложных оценок положения. Кремль уже не верил оценкам и решил довериться стихии, став на революционную волну. Кремлевский серфинг успешно открылся в Крыму; и далее самообман Москвы явно был связан с крымским успехом.
То был не страх, а азартный самообман. Катастрофа российской политики лета-осени 2014 года на Украине – хрестоматийный пример hubris’а, а не мнимый «страх перед НАТО».
Русские действия на Украине породили нечто новое, неизвестное и саму Россию опять сделали неизвестной для всех. Парадокс постмодернистской Европы: после «конца истории» сталкиваясь с неизвестным, она всякий раз вынуждена применять архаичные инструменты. Другой модели действия никто не знал. Говорят о «недостаточной решимости» европейцев. Но чем вообще является решительное действие – в мире, табуирующем инструменты модерна? Не действия ли это в стиле Путина? Должна родиться новая политика действия, где само решение включало бы участников конфликта ради его исчерпания. Такой политики нет, хотя она нужна всем, даже воюющим в Донбассе. Тем временем новая Европа разыграла старую американскую защиту: идею санкций.
С помощью санкций Европа изображает войну – так же символично, как осенью 2013 года символически изображала европеизацию Украины Януковича. Евростандарты, так и не воспринятые Россией, конвертировались в санкции за их нарушение. Далее уже инструмент диктовал концепцию – как винтовка Мао рождала власть. Санкции начаты были в отчаянии, как попытка символически изобразить что-то решительное. Их начала объединенная Европа, недавно проклявшая политику «окончательных решений», и вот уже санкции индуцировали проект опрокидывания «путинского режима». Так не говорилось, но так делалось и делается. Не имея опоры в «постмодернистской» Европе, санкции зато черпают смысл из риторики московских телеведущих – ах, вы хотите лишить нас Путина? Это III мировая война!
В Европе и Евразии исподволь укореняется дисперсный мировой режим санкций. Началась, естественно, и гонка средств сопротивления этому режиму. Ибо внутри глобального режима санкций Россия выступает как идеальный глобальный партизан Карла Шмитта.
Режим санкций стал парадоксальным режимом экстремального благоприятствования кремлю. США и Европа помогли переориентации его международной и торговой политики на Восток, политики лояльности элит – с Запада на родину и, наконец, конверсии экономики мирного времени – в военную экономику.
Авторы заканчивают доклад не вполне ясным перечнем вероятных угроз. Главная та, что Запад «ускоряет крах международной системы, которую пытается защитить». Разумеется, всплывает тема Китая, становящегося хозяином евразийской политики Москвы.
Крастев с Леонардом предлагают Евросоюзу двойное решение. С одной стороны – радикализовать политику ценностей, не отступая перед изгнанием России из Совета Европы, с другой – энергично вести Realpolitik в делах с Москвой и на Украине. Пока Европа сосредоточивается – Украина, Россия и остальные могут подождать.
Москва и Киев за дверью, где идет ревизия всей политики восточных партнерств Евросоюза. Предложено развивать отношения с Евразийским экономическим союзом и, признав его легитимность, не пытаться навязывать европейские критерии.
Принципы Европы не были и не станут универсальны, это утопия. Европейская Россия погребена в Крыму (неведомо чьем), сражаясь в Донбассе в виде призраков армий за призраки несуществующих государств. Европе до этого дела нет. Мир Европы, как во времена Габсбургов, вновь обрывается за восточным выездом из Вены. Там дальше – земли экстремального мира. Иная Европа, которую Евросоюзу теперь предстоит с осторожностью открывать заново и учиться с ней заново сосуществовать.
Опубликовано в «Русском журнале», http://russ.ru/Mirovaya-povestka/Razdvoenie-Evropy
Власти, эмоции и протесты в России
Тему лучше всего начинать с текущей ситуации, когда поддержка президента Путина держится в районе 80–85 %. Причем в первую очередь в крупных городах – в Москве, в Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске – базах массового недовольства еще недавно, год-два назад. Среди поддерживающих власть очень заметно преобладание людей с хорошим доходом, образованных. Итак, средний класс, который два года назад был раздражен и с симпатией следил за московскими протестами, сегодня с восторгом присоединяется к власти. Слова, которые при этом произносят, – «Наконец-то у нас власть, которая нас представляет!», «Наконец-то мы солидарны с властью!»
Эти люди два года тому назад поддерживали массовые протесты с либеральной повесткой, а сегодня называют угрозой себе и стране либералов, западников, демократов, какую-то «пятую колонну». Собственно говоря, рост поддержки Путина на 25–30 % за два месяца – это «дельта» за счет прежней недовольной трети населения, которую показывали опросы 2012 года.
Это новое путинское большинство, я его называю новороссийским или посткрымским большинством, состоит не из мрачных люмпенов (в группе совсем бедных граждан рост поддержки был наименьшим). Во главе нового большинства – средний класс и интеллигенция.
А теперь вернусь в прошлое. За 20 лет существования Российской Федерации драйвером политики был страх элит перед революцией, переходящий в технику пресечения возможности появления недружественного власти большинства внутри системы. После двух московских уличных мятежей, 1991 и 1993 года, у правящих страной политиков возник вопрос: допустимо ли вообще в системе РФ спонтанное уличное действие? и демократические элиты сочли, что, скорее всего, нет. Формально оно есть, но доктринально и практически исключено.
Уже в это время в окружении Кремля нарастают практики политического манипулирования протестом. Когда в 90-е годы говорили о «массовых протестах», уже имели в виду, что это – протест мэра Москвы Лужкова или медиамагнатов Гусинского и Березовского, а не самих людей на улицах. Начинает казаться, что с помощью телевидения и масс-медиа нетрудно инсценировать публичную политику. (Эта мысль, перейдя из опасения в убеждение, похоронила лояльность власти к любому независимому телевидению в России. Боялись не разоблачений и не свободного слова – боялись контрудара со стороны медиализированных избирателей, спланированного некоей «теневой силой».)
Уже в это время начинает меняться роль телевидения, во главе которого стояли и по сей день стоят выдающиеся мастера телевизионной информационной драматургии. Один из них, шеф Первого канала государственного телевидения Константин Эрнст, рассказывал мне, как восхищался трансляцией CNN расстрела парламента в октябре 1993 года: «Вспомни, как это было красиво: Белый дом, голубое небо – и танки, бьющие прямой наводкой в прямом эфире! Величайшее шоу в истории телевидения!»
Эрнст говорил об этом с грустью, описывая то, чего как раз тогда его надолго лишили. Именно тогда мы создавали новую систему правления Россией – управляемую демократию. (Говорю «мы» потому, что в этот период я убежденно участвовал в ее создании.) Систему, в которой нет больше места уличным страстям и открытым конфликтам, политическим эмоциям на улице и в парламенте. Мы создавали «антиэмоциональный фильтр» системы стабильности. Спонтанные конфликты удалялись из публичного поля, лояльность исключала публичную их демонстрацию телевидением и политиками. Считалось, что, когда у общества есть причина для протеста, надо обращаться в администрацию президента, а не выходить на улицу. Жалоба властям должна быть изложена «корректно», и тогда есть вероятность, что она будет удовлетворена. Тот, кто нарушит это условие, будет наказан уже тем, что о его протесте не узнают – телевещание об этом гарантированно промолчит. Но Кремль никогда не должен терять свое первенство, свою гегемонию в принятии важных решений: это принцип.
Так было 12 лет – в течение двух президентств Путина и президентства Медведева. Сломалась эта система на так называемой рокировке Медведев-Путин осенью 2011 года. Рокировка исходила из ложного предположения, что управляемая демократия стерпит любые перегрузки действиями власти – опасны лишь действия улицы. Но на этот раз общество отказалось это проглотить. После нечестных выборов в парламент в декабре 2011 года люди вышли на улицу и заявили о себе. Это был спонтанный всплеск эмоций, причем эмоций меньшинства. Я тогда тоже вышел на улицу, впервые с 1993 года. И первое мое ощущение было – что мы здесь делаем? Мы вышли на улицу, но далее делать было нечего. Выйдя на улицу, надо или драться с полицией, или идти домой. Меньшинство, которое оказалось на улице, не имело политических инструментов и никакой схемы действий, не говоря уже о цели.
Но оказалось, что одну работу мы выполнили, создав новую аудиторию для власти. Огромную телеаудиторию, которая разглядела в нас активное и, с точки зрения зрителей, агрессивное меньшинство. Так эта аудитория спонтанно и неожиданно для себя превратилась в опору для власти. Это понравилось в Кремле. Власть стала экспериментировать с аналогичными постановками, всякий раз с помощью телевидения рисуя одну и ту же раскалывающую картину – меньшинство против всех. «Патологическое» меньшинство против здорового, подавляющего большинства. Так на экраны управляемого телевещания неожиданно вернулся конфликт.
Телевещанию как генератору драматизации нужен реальный конфликт, страсти толпы, крики и искаженные лица. Всякий телеканал мечтает показать Армагеддон в прямом эфире. Но для Кремля важно, чтобы все это держалось подалее от его стен. Чтобы зритель, припав к экрану, переживал за «свою» власть, пока Армагеддон развертывается где-то подальше. Вот почему украинский Армагеддон – Евромайдан в Киеве – стал подарком российскому телевещанию.
Для российского телезрителя Украина – это «вторая Россия», но удаленная и условная, где он может безопасно для себя отождествляться с любой из сторон конфликта, не отвечая за собственный выбор и ничем не рискуя.
Я полагаю, к 2013 году российское телевидение перешло грань пропагандистского ресурса власти, оставив далеко позади программную цензуру управляемой демократии. Телевидение стало ветвью власти – равноправной и в чем-то не менее самостоятельной, чем аппараты ФСБ, Генпрокуратуры и Следственного комитета. Погрузив десятки миллионов людей в поддельную реальность, где их устрашают вымышленными патологиями («либералами», «гомосексуальными педофилами», «фашистами» и т. п.), государственное телевещание РФ стало репрессивным патовещанием, замещающим функцию государственной идеологии.
Путин может легко не считаться с Государственной Думой, с Конституционным судом, с ФСБ или прокуратурой, но обязан считаться с патологической картиной поддельной реальности, которую телевещание творит в коллективных эмоциях населения. Когда «патовещание» завладело Путиным, в России исчезло последнее место, где еще отличали инсценировки страхов от проработки политических решений. Ум Кремля одержим эмоциями поддельной реальности. Теперь это одно чувство, одна логика, одно поведение.
Итак, круг замкнулся. Власть, которая попыталась увести протестующих с улиц, чтобы отменить революции навсегда, из заказчика-цензора превратилась в невольницу истеричных телешоу, откуда сама вырваться не может. Массовый зритель вернул себе вкус к спонтанному конфликту и политической эмоции, хотя все его чувства искажены телевизионным «патовещанием» и нацелены на фикции.
Еще три-пять лет назад правила «управляемой демократии» (весьма ограничительные) требовали от желающих создать политическую партию рациональных действий – разработки программы и проекта, стратегии, подбора политических кадров. Все это было затруднено и велось в долгих переговорах с властями. Сегодня политическое событие и его нарратив творятся властями online, из любого «подручного» материала.
Это хорошо видно в восточных областях Украины по составу тамошних российских ополченцев. (Я тут не говорю о массе украинских граждан-волонтеров, участников конфликта.) Российские волонтеры, воюющие в Донецкой и Луганской областях, очень любопытная группа – осколки прежних оппозиционных движений, перемешанные с отставными менеджерами «управляемой демократии» и отдельными идеалистами. Это не дисциплинированные отставники российских военных структур, каких мы видели при овладении Крымом. Это композитная масса среднего класса. Фьюжн идей Белого дома – 1993 и актива массовых антипутинских протестов 2011–2013. (так называемой Болотной площади). Участники русской националистической среды перемешаны здесь с энтузиастами-«реконструкторами» и «ролевиками», то есть волонтерами реконструкции батальных сцен русской истории. Выразительна фигура лидера донецких повстанцев Стрелкова (Гиркина), который еще недавно был среди участников постановки сцен гражданской войны или защиты Москвы в 1941 году. Но тут же и Олег Мельников – активист правозащитных кампаний, участник драк с полицией при столкновениях на Болотной площади в Москве.
В отличие от Крыма, на Юго-Востоке Украины Москва решила проявить сдержанность. Она не использовала регулярные части, но не мешала инфильтрации для участия в украинском конфликте всех, кто хотел воевать. Украинская революция практически обнулила украинскую армию и государственность, и композитные волонтерские отряды неожиданно (думаю, неожиданно даже для Москвы) превратились в правящую силу Донбасса. Сегодня Москва едва ли сумела бы ими управлять, а отказываться от них не дает эмоционально кипящая российская масса поддержки. Те же 85 % поддержки Путина превращаются в этом случае в ограничительный фактор. Если только он захотел бы убрать этих людей из Украины, ему пришлось бы вторгнуться на ее территорию вооруженными силами и, оккупировав Юго-Восток, фильтровать волонтеров и вывозить их в Россию. Помимо того, что это политически немыслимо, Кремль знает – в этом случае он рискует встретиться с ними где-то под Москвой. Ведь они уже вошли во вкус свободы, понятой как решение вопросов с оружием в руках. Сегодня единственная суверенная гражданская сила в России – вне ее пределов: она воюет на востоке Украины.
Я хочу сказать, что попытка бороться с человеческими эмоциями, с человеческой волей к спонтанному поведению безнадежна. Все они вернулись обратно в нашу систему – став зверьми, опасными для дрессировщика, окруженного лжецами.
Выступление на конференции в Берлине (май 2014 года) Опубликовано в интернет-журнале «Гефтер», http://gefter.ru/archive/12661
Маргиналии о русской геополитике (при чтении диссертации В. Л. Цымбурского «Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX вв.»)
Это отрывки моей публикации «Маргиналии о геополитике» для сборника памяти Вадима Леонидовича Цымбурского, включающего главы из его (незаконченной) докторской диссертации по геополитике. Хотя я обычно избегаю геополитических текстов и даже слова «геополитика» – терминов «международная политика» и «мировая политика», как мне кажется, вполне довольно, – меня всегда интересовало влечение некоторых незаурядных людей к этой сумеречной зоне. В интеллектуальной честности В. Л. Цымбурского сомневаться не приходилось, и я воспользовался случаем, чтобы прочесть тот геополитический текст, в котором, как я мог быть уверен, нет ни намеренных передержек, ни, тем более, трескучих пустот на тему «борьбы миров за пространства». Это именно и в буквальном смысле заметки на полях, и публикую я их лишь затем, что, как мне показалось, я догадался, для чего «геополитика» вдруг понадобилась Вадиму. Есть тут и особое личное обстоятельство, о нем я говорю во вводке к «Маргиналиям».
У меня есть задолженность перед покойным Вадимом Леонидовичем, о которой, кажется, я так ему и не сказал. В 1994 году он заочно помог мне связать воедино разрозненные и оттого несносные для ума впечатления от событий в России. Перед тем была мучительно долгая пауза 1991–1993 годов, когда я не готов был встретиться с реальностью напрямую. Октябрь 1993-го опустошил словарь, оставив злые, только публицистически выразимые чувства. Но публицистика к этому времени уже была бесполезна – худшее произошло, и неожиданно для себя я попал в рабство данному. Нас поработил ход вещей, который мы не могли изменить, хотя отказывались принять. Большей интеллектуальной отчужденности и вражды к политическому статус-кво, чем в 1993–1994 годы, я, наверное, не испытывал ни разу в жизни. Но это был бесплодный ресентимент, да и мстить, собственно говоря, было некому. Онемение не поддавалось дискурсивной атаке – спорить стало не о чем и не с кем. Страну будто населяло несколько разных народов, отказавшихся говорить друг с другом.
Меня, все еще известного публициста, часто упрашивали «что-нибудь написать» – но я не мог. Начиная, захлебывался собственной желчью и бросал недописанным. В один из таких моментов – шел конец лета 1994 года – я еще раз попытался заставить себя писать. Чтобы от чего-нибудь оттолкнуться, взял номер журнала «Полис» и вышел на балкон. Читая эссе В. Л. Цымбурского «Остров Россия», я поглядывал вниз, во двор в одном из солнцевских микрорайонов.
И неожиданно для себя увлекся этой довольно большой и ученой статьей с солидным справочным аппаратом. Впечатления от чтения странным образом смешивались со звуками, доносившимися снизу со двора, но не нарушали хода мысли – ни моего, ни статьи Цымбурского. Вид с балкона на московскую разруху 1994-го вдруг предстал ландшафтом «беловежской» России, одновременно устрашающей – и нормальной, живой. Теоретически зная, что новая норма часто приходит жуткой, прежде я, видимо, не соглашался с этим. Цымбурский писал о России, не отводя взгляда, но как бы чуть искоса, не придавая значения публицистически явным уродствам. И не я, а мой мозг ощутил призыв взглянуть на вещи прямо, не горбясь от груза русских катастроф. Преступления совершены и уже развернулись в ландшафт. «Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на прежних, там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его».
То был интеллектуально освобождающий момент. Меня не привлекла собственно геополитическая рамка статьи Вадима Леонидовича, но вдохновил холодный энтузиазм его мысли, непринужденно переходящий в текст. Его постоянные «давайте приглядимся к этому поближе» диктовали курс любой будущей речи о России, открывая ее возможность. Непосредственным результатом стало то, что я «заговорил»! Прямо с того дня я стал писать свое эссе «О беловежских людях», вошедшее (вместе со статьей самого Цымбурского) в сборник «Иное» под редакцией Сергея Чернышева.
Здесь сработала интуиция еще одного скрытого мотива статьи Цымбурского. Мотива, в котором я тогда, по всей видимости, нуждался, как в витамине, – мысль о праве вмешаться в процесс, идущий помимо тебя и по твоему пониманию – беззаконно. Собственно, мотив выражен открыто странной фразой в конце статьи «Остров Россия»: «Для России сейчас очень хорошее время, дело только за политиками, которые это поймут». Отсюда уже недалеко до философии «эффективной политики», которой я вскоре увлекся.
Но собственно геополитическое содержание этого великолепного эссе тогда, в 1994 году, ничуть меня не увлекло. Не увлекает и сегодня. Читая неоконченный труд В. Л. Цымбурского, я пытался уяснить, что именно не нравится мне в геополитике? Эти заметкимаргиналии на полях незавершенной научной работы – мое жалкое приношение покойному другу.
Что является исходным пунктом нашего политического мышления об актуально происходящем? То, что мы не способны его мыслить, располагая будто бы всеми прежними средствами и инструментами.
Цымбурский хотел уйти от проклятой приблизительности и метафоричности бесчисленных «взглядов на Россию» – но так, чтобы не попасть в объятия так называемой научности, которая фактически выступала в РФ как импорт терминологических лексиконов. Он хотел помочь русским в интересах России вразумительным образом действовать государственно. Для этого нужно было найти основание этим будущим решениям. Первым ходом многих, столь разных в 1990-е, как я и Цымбурский, было: «теория, дающая советы власти». Отсюда геополитика Цымбурского, отсюда же и то, что я сам называл в 90-е то «прикладной политологией» (след чего остался в наименовании одного из московских учебных заведений), то «политической» и даже «исторической технологией».
У Цымбурского в перечне вопросов о существе геополитики – перечне, местами дискредитирующем предмет, – есть такой: «множество разнородных знаний, методов и идей, сообща служащих целям политики». Не политика ли создала геополитику под себя, в функции прикладной дисциплины, отчасти – суррогатной идеологии? Вернее, то и другое вместе: гаджет, возведенный в ранг науки.
Ядро геополитики по Цымбурскому – это «искусство наложения еще не вполне проясненных для общества кратко– и среднесрочных требований на тысячелетние… ландшафты». Не исключено. Но именно здесь требуются разъяснения, поддающиеся верификации.
Геополитика Цымбурского – это место, которое он оборонял в ожидании появления науки о России. Не страноведения, а наукоучения страны, все теории и школы мысли которой не помогли нам ее понять и не дают ключа к происходящему с нами. Отсюда интерес к проектным аспектам геополитического – что отмечает и сам Цымбурский, говоря, что геополитические тексты выстраивают картину мира из политизированных образов, «закладывая в нее программу действий для России, обычно олицетворенную ее правительством».
Цымбурский конструирует российскую геополитику «в ранге второй парадигмальной геополитики» наряду с западной – классической школой. Россия превращается в родину восточных геополитических слонов. В этом не было бы ничего невозможного, если бы западная геополитика давала бы связное представление политики Запада и его дипломатии. Проблема, однако, в том, что такое толкование явно проще и разумнее искать у Макиавелли, Токвиля и Киссинджера, чем у Маккиндера, Гаусгофера или Данилевского.
Политика и история Европы – вот ее истинный ландшафт.
Сам жестокий Цымбурский не удержался от того, чтобы в пику тезису геополитика Спайкмена о географии как самом постоянном факторе политики напомнить реплику Людовика XIV при восхождении Бурбона на испанский престол – «Нет больше Пиренеев!» Собственно говоря, вот кратчайший ответ политики на геополитику.
Геополитика и этатизм. Цымбурский верно отмечает неприятное свойство, о котором геополитики не любят говорить прямо, – ее махровый этатизм.
Проблема геополитического этатизма – даже не в ставке на государство как ценность, а в нерефлектируемо женственном очаровании властью – при отказе твердо указать, какие именно задачи ей должно решать. Этатизм ставит государство как решение задач стратегической повестки дня – на место самой agend’ы. Но тогда государство лишается разработанного курса, переходя на самообслуживание власти – в которое с радостью включается невостребованный геополитик. Это не добавляет никому необходимых компетенций.
Критически проницательно Вадим Цымбурский констатирует: «Геополитик обычно выбирает в качестве главного определенное политическое отношение – господство, соревнование или кооперацию, – на которые делает основную ставку в своих конструктах». Господство (его мы при проектировании новой власти с Александром Ослоном во второй половине 1990-х именовали обычно доминированием) в личности не нуждается.
Личность в поле конструирования геополитики отсутствует – в отличие даже от полицейского или правового этатизма. Со временем это скажется на выветривании остаточных представлений о суверенитете личности внутри суверенной России. А также на выветривании традиции, кровно связанной с идеей свободной, критически мыслящей личности, то есть русской политической республиканской традиции. Оказывается, без этого русского «хлама» можно было обойтись.
Геополитика и Weltpolitik. Интересно обращение геополитики с понятием «мирового», отмеченное Цымбурским в связи с Маккиндером. Неотъемлемой от геополитики он считает доктрину «евроазиатского хартленда как ключа к мировому господству». Можно предположить в геополитике убежище для неудачливой Weltpolitik. Геополитика скрывает мировое измерение политик, которыми хочет манипулировать, по возможности не упоминая про «управление миром».
Отсюда такой признак вторичности, как вчитывание образов-корректировок в изменения текущей политики. Такова идея мирового «осевого ареала» Маккиндера, высказанная в 1943 году, в год явного уже перелома в ходе мировой войны. А перед тем – вчитывание Хаусхофером концепции раздела мира по «меридиональным гегемониям» (пан-Европа, пан-Азия, пан-Россия и пан-Америка) – в 1934-м, когда вся Европа была одержима модой гегемонии и господств.
Вообще идея «господ и господств» абсолютно интимна для геополитики. Опять-таки сошлюсь на Цымбурского с идеей «приморья-римленда как инкубатора держав – мировых господ», выдвинутой в 1916 году Семеновым-Тян-Шанским и также отнесенной Цымбурским к числу ключевых для геополитики. Всякий раз мы находим почти мгновенную проекцию моды на глобус.
Идея господства, неудалимая из геополитики, в XXI веке дожила до момента медийной востребованности. Не в силах принести пользу любой политике – даже гегемонистской! – она штампует образы вульгарной конспирологии в деградирующем поле массового сознания. Не исключая, разумеется, и демократического. Цымбурский предупреждал против «демонов», какими становятся политически заряженные картины мира, «включая сюда и традиционные для нации геополитические коды». Знал бы Вадим, что в демона легко обратить и само понятие «традиционного геополитического кода нации».
Правда, при этом величественная постройка суверенитета лишается внутренней жизни и даже национальной идентичности русского. Здесь справедлив приговор Цымбурского такой геополитике как деятельности, которая «имитирует процесс принятия политических решений, а иногда прямо включается в этот процесс». Добавлю, что включение в процесс происходит на третьестепенных ролях необязательной апологетики кем-то принятых решений, подбора извинений для наиболее идиотских из них и говорящих голов в телешоу.
Но есть ли вообще в геополитике что-либо кроме этого?
Цымбурский говорит о парадоксе Российской империи, которая на подъеме выстраивает свое мировое место в мире, уже выстраиваемом другой – европейской цивилизацией, носительницей «другого» христианства. Отчасти верно, но «другое» здесь действует как значок уравнивания в заданной наперед конфронтации. Работает геополитическое спрямление – фиксации миров в их раз и навсегда заданном значении: Запад есть Запад – Восток есть Восток, католичество не есть православие и т. п.
Сквозное у Цымбурского, но отнюдь не только у него, – рассуждение о сближениях и вражде разных мировых «лагерей». Но этот архаизм из военного лексикона стал осмысленным политическим термином только после Ялты, в эпоху холодной войны ХХ века. Коалиции прежних времен были текучи и подвижны, они не были зафиксированными на глобусе лагерями, зорко отслеживающими любое проникновение в свою зону. Внутри геополитики понятие «центра влияния» и «лагеря» постоянно является фактической модернизацией, навязывающей современные страсти другим эпохам, а точнее – вчитывающей их туда.
У В. Л. Цымбурского ссылка на Паркера, который рассматривает мир из отдельных государств-кубиков. Геополитика же – «учение об узорах и структурах, которые могут быть из них сложены». Здесь мы опять встречаемся с идеей приравнивания реальной политической – то есть внутренней жизни нации и полисов – к константе, к гомогенному наполнителю структуры «вечных интересов».
Пространство выступает внешним по отношению к истории этих миров, как бы заранее им предначертанное, а не проблематизирующее. Смысл борьбы за это стерильное пространство разъясняется через такие же самозамкнутые стерильные понятия «выхода к морям», «незамерзающих портов», «буферных пространств».
Трудно отделаться от впечатления, что геополитическое мышление представляет собой радикальный разрыв с христианским мышлением о государстве. Геополитика антиуниверсальна, и выстраиваемые ею схемы под «центрами» обычно разумеют автономные миры.
Эти миры не самодостаточны лишь в силовых схемах относительно друг друга, представляясь самодостаточными внутренне.
Геополитика и застывшие мысли. Геополитик вечно рассуждает об «обеспечении положения» и «закреплении преимуществ». При этом, как правило, речь идет о неразложимых ментальных атомах, ибо на деле никакие положения, предмостья, коридоры и, тем более, безопасности не бывают ни вечными, ни даже долговременными. В этом смысле геополитика – одно из худших хобби для серьезного политика и дипломата. Но это наводит на мысль, что бесконечные «пространства», которые конструирует и деконструирует геополитик, подобно ребенку, увлекающемуся лего-трансформерами, скрыто-технологично и близко к идее устойчивой конфигурации техник, операций и представлений о ресурсах. (Отчасти то, что Фуко вкладывает в термин «диспозитив».)
Сюда же относятся и термины, которыми буквально измучивают читателя геополитические тексты, – «естественные границы», «естественные союзники» и «естественные пределы». Все это транквилизаторы, убалтывающие аналитический мозг, будто бы он приобрел немыслимую возможность прямо созерцать реальность, as is.
Мотивы действий внутри геополитической игры спрямляются – чего не позволяет себе добрый историк. Если политик совершает геополитически значимый ход, это почти никогда не объясняют внутренними обстоятельствами (которыми чаще всего это и объясняется), а игрой на глобусе – созданием угрозы другим «мирам», в рамках той или иной Большой игры. Но почему это вообще геополитика, а не история дипломатии?
Геополитика России занята проектированием «большого пространства России», притом что российское пространство давно сложилось, фактически безо всякой геополитики.
Пространство России отождествляется с географическим пространством ее (в виде ли империи, СССР и т. п.), обходя центральность задачи держания пространства, инструментом которого и стал «социум власти» по Гефтеру. Его «конструирование» велось средствами колонизации властью своего же населения, уже внутри российской Гипербореи, рухнувшей на Москву вслед нашествию Степи.
Цымбурский постулирует единый импульс к конструированию «своего особого российского пространства из земель, которые обретались бы за пределами коренной Европы, не входя в ее расклад – или могли бы быть изъяты из этого расклада». Справедливое суждение. Но ведь все это происходит уже внутри большого пространства Московской Руси – России. Сотворенного почти вне сознательного конструирования, тектоническим выбросом со стороны Степи и реакцией на него в XIV–XVIII вв.
«Российские циклы». В. Л. Цымбурский очень дорожил выявленными им циклами «сжатия и расширения» и вообще геополитического ритма системы «Европа – Россия». Действительно, мало кто вообще из рассуждавших о России в последние 100–200 лет не замечает странной повторяемости. Она часто вынуждает говорящего к уточнению: например, что «шестидесятничество» XIX века – это не «шестидесятничество» ХХ века, а Крымская война – не конфликт с Украиной в 2014 году. Разумеется, возвратный ритм России, явная череда обратимостей, обрывов и повторов развития важна и должна быть разъяснена. Но разъяснит ли его портретная модель – то есть упорядочение задним числом реально протекавших по разным причинам событий и политик, движимых разными мотивами, с привязкой текущего момента к тому или иному месту в цикле? Что это подсказывает нам и нашему действию сегодня? а ведь Цымбурский хотел подсказывать! Стремление, столь понятное для многих из нас после 1991 года, но, как выяснилось, коварное.
Наблюдения Цымбурского почти всегда тонки и интересны. Например, то, что «с начала петербургского периода сама культурная тема России в сознании ее образованного класса изменяет свой смысл». Речь о зарождении новейшего русского универсализма, отличного от староимперского и раскрывшегося в русской культуре XIX века, а затем ленинским и советским зигзагом русской истории. Но почему и к чему здесь «геополитический опыт империи»?
Точно наблюдение Цымбурского о курьезности того, что до 1917 года термины «Восток» и «восточный вопрос» применялись к землям, находившимся относительно России вовсе даже на юго-западе, – к Проливам, Малой Азии, Балканам. Цымбурский замечает, что и сегодня в нашем словаре «Ближний Восток» остается рудиментом взгляда на мировую карту не из Москвы, а «из Европы». Но ведь это и есть цена того самого петровского универсализма. Извлечь петровский проект и импульс из политики империи XVIII–XIX вв. невозможно, не развалив ее всю.
Что бы сказал (воображаемый) «консервативный геополитик» Москвы конца XVII века об ошеломляющем европейском развороте Петра I? с чудовищной ломкой институтов русской государственной, культурной, социальной и даже церковной традиции? Где здесь «конструирование пространств»? Петр, по поводу которого нам сегодня комфортно рассуждать, – сущий геополитический монстр, «черный лебедь» России.
Революция Петра I при всей ее радикальности была не только насильственной и раскольничьей, но еще и культурно ущербной. Прямая цель и задача Петра – войти в европейский клуб. Но то был клуб господ истории – выработавших свою культурную универсальность стран, а не только военных хозяев положения. Дополнить свою имперскую амбицию адекватной ей культурной программой Петр не мог; не смог и весь XVIII век. Это осталось в работу XIX веку.
Наблюдения Цымбурского насчет азиатской экспансии России в XIX веке в Центральной Азии остры и важны. Он не преминул заметить, что экспансия движима не планом, а осмосом повседневности – фиктивностью степных границ и нормой «двоеподданства» кочевых обитателей (одно это опровергает само понятие «естественной границы»).
Весьма интересна подмеченная Цымбурским исключительная роль местных губернаторов в этой экспансии, «действовавших при пассивном одобрении (а иногда даже малоактивном неодобрении) правительства». Крайне уместное напоминание тем, кто объясняет все происходившее на Донбассе в 2014 году исключительно кремлевскими планами, обходя активность приграничных властей.
Вообще замечу тут, что геополитическое сознание монофакторно. Как правило, геополитик оперирует каким-то одним фактором в качестве главного. Например, выяснив, что обыкновенный лоббизм на Западе вносит вклад в структуру санкций против РФ, геополитик обращает компонент в субъект: глядите, какие низменные интересы стоят за их так называемыми принципами!
Геополитика: влияние на мышление. Геополитическое мышление недружественно к реальности. Окидывая взором большое мировое поле, оно подозревает прячущуюся «за всем этим» западню, вражеский камуфляж. Геополитик рвется к «большой шахматной доске», лишь чтобы выискать и вытащить из-под игрового стола спрятанного под ним злого карлика.
Есть восточный терапевтический принцип, общий и всем реалистическим школам мысли: факты дружественны. Но геополитик глядит на вещи искоса, не собираясь с ними дружить, ни даже сосуществовать. Отсюда страна, понятая как пространство страны (первое упрощение), которой мыслит геополитика, лишена автономной негеополитической динамики. Она заранее исключена, вычтена из мира, с которым борется или просто отбивается.
Всемирность – в полном расхождении с большинством русских классиков, учителей и мыслителей XIX века – не есть ни место России, ни ее предмет. Тем самым и XVIII–XIX века России, в их установившемся значении этически императивного русского опыта, ядра русской традиции, выпадают. Русской культуре здесь просто нет места. Взамен приходится конструировать нечто искусственное, суррогатное, замещающее свое.
Цымбурский замечает, что объединение Италии может быть описано как проекция международных интриг на национальное строительство. Это заставляет меня выдвинуть догадку, не претендующую, впрочем, на ранг гипотезы.
Уж не несет ли геополитика внутри себя импринт истории середины XIX века? с его устойчивыми проблемами, наподобие «восточного вопроса», с бесчисленными «священными» и «вечными» союзами, нарушение которых предполагалось сторонами уже в момент заключения? с его невероятными суперперсонажами, стоящими целых сверхдержав? Таков император Николай Павлович – в непрочном, но программном и роковом для русской культуры союзе с Александром Пушкиным. Таковы оба Наполеона – и последний чуть не более, чем первый. Таков же, разумеется, Бисмарк – любимейшая из кукол геополитиков. Затасканная до потери различимости матрешка гениального тактика и политконсультанта императоров внутри довольно среднего стратега. Не пытавшегося ничего строить на вечные времена.
Михаил Гефтер в принципе отвергал теоретический статус геополитики. Говоря о ялтинской трагедии мира после 1945 года – как мира, не нашедшего себе адекватного языка и пожранного «чудовищем геополитики», он именует симптом патологии, а не ссылается на науку.
Неудивительно, что такой призрак XIX века, как геополитика, в ХХ веке стал обманщиком и сам был обманут. Геополитика не предвидела сингулярности перехода структуры мира в новое состояние. Но не предвидела она и мощи инерции архаического.
Едва ли создание НАТО было материализацией Больших Пространств Маккиндера и Хаусхоффера. Скорее, само НАТО являлось ожившим архаизмом в умственном вакууме конца 40-х гг. – где мозги Запада и Востока не успели додумать альтернативу открытого мира.
Архаизмом является и сама РФ – осколок сталинской управленческой архитектуры применения внутрисоюзных конструкций к решению мировых задач, безразличных к собственно задачам советского общества.
Геополитика как оружие обороны. Притом что российская геополитическая макулатура выглядит комично, нельзя не заметить, насколько вся она проникнута идеей защиты. Это акцентуированность, сама по себе подозрительная для теории. Даже в теориях войны и военной стратегии оборона занимает не столь премиальное место. Здесь ярко выступает невротический мотив нашей геополитики, делающий чтение ее истинным пиром психоаналитика.
Склонность прагматики русских пространственных теорий к выстраиванию защит и оборон убийственно разрушительна для решения собственно важной рациональной задачи – защиты пространства. Недаром «выстраивание защит» – известнейший симптом ряда психических расстройств.
Геополитика как боевое искусство. Тонким надо признать и замечание Цымбурского о «стратегическом блоке геополитики» – преобразующем картины мира в цели и задачи конкретного игрока. Здесь скрытым образом вводится та самая личность, чт прежде была изгнана геополитическим этатизмом. Вводится в роли политического потенциала – каковым она и является, часто – в решающей степени. Это сразу убивает интерес к геополитическим кубикам из глобуса, нарезанного на гомогенные доли.
Любопытно его представление терроризма как техники «геополитической акупунктуры – точечных акций, достигающих изменения имиджа стран, регионов и мира в целом». Здесь он говорит о имагинативном начале в геополитике и даже о «минималистской геополитике, не формулирующей собственных программных геополитических образов и сюжетов… сводящейся к реагированию на непосредственно воспринимаемые раздражители». Геополитическая акупунктура террора по Цымбурскому – это, конечно, Шамиль Басаев или Бен-Ладен. Эти люди не только не стремились к «организации Больших Пространств», но явно к их разрушению и отчасти (что касается второго) в этом преуспевали. Они не политики в обычном смысле слова, и не просто бандиты – но кто они? Этот вопрос остается нерешенным и даже неинтересным для геополитики во всех известных ее формах. Зато он обслуживает самую популярную и известную каждому геополитическую конспирологию. Та завлекает миллионы умов «совершенно очевидными» догадками о том, «кого обслуживают» мастера террористической акупунктуры.
В сущности, Цымбурский ведет поиск критической теории о России. То есть теории, которая не будет разнесением проблем России по отраслям – с дроблением, теряющим целое, открывая путь для манипуляций. Где каждый может выбрать более удобную ему теорию, а выгода маскируется под выбор концептуальной школы: таковы «институционализм», «монетаризм» и т. п.
Должен признаться, читая рукопись Цымбурского и выдвигая едкие критические догадки в адрес геополитики, я не раз уже через несколько страниц встречал их, уже как критику самого Цымбурского. Это касается и очевидной «проектности» мотивов геополитика, и склонности геополитиков к «вчитыванию политического в неполитические субстанции» (формула самого Цымбурского). Он ясно видит, что конструкции геополитики не обращены к научному сообществу, но к субъектно организованной, политически действующей части общества – так называемому политическому классу.
Цымбурский признает, что сквозной чертой, объединяющей разные школы геополитики, является ее проектность. В основе – воля проектировать. Действовать именем «самой реальности», не исследуя ее толком. Исследование в политике – всегда лишь демаркация военно-стратегических полей (но тогда полезнее карты Генштаба) либо коллекция примеров, не подлежащих Попперовым критериям истинности.
Геополитика появляется в момент того, что Гефтер именует «уходом исторического» из жизненного мира homo sapiens. Всплески геополитики – в конце XIX – начале ХХ в., в 30-е, затем в 40–50-е годы и, наконец, в начале ХХI века – совпадают с обнаружением тупиков-пределов органичного для homo historicus «историцистского» действия. Определению Цымбурским старта геополитики как «волевого политического акта, отталкивающегося от потенций, усмотренных в конкретном пространстве» недостает продолжения: «…при дефиците ресурсов исторического действия и его инструментария».
Я, пожалуй, согласен с Цымбурским в том, что геополитик «исследует мир в целях проектирования, а часто… и через его посредство». Это попытка удержать конструктивизм исторического действия, нараставший внутри мировой истории от XVIII к ХХ веку, ценой избавления от исторического опыта. Заменяемого политической картой мира.
Весьма иронично приведенное Цымбурским суждение академика Тарле, что геополитика думает «о будущей географии, а не о настоящей». Но будущее никак не может быть проверено, а «реалистические суждения» о будущем абсурдны. Воля и желание – вот мотив утонченного геополитика. Он позволяет себе желать определенных результатов исследования еще до того, как их получит. Здесь обнаруживается некое сходство с коммунизмом, который также торопился изменить мир, исследуя его лишь по ходу и в необходимой для этого степени (отчего его классик Карл Маркс, не утративший навык интеллектуального любопытства, заявлял: «Сам я не марксист»).
В глазах такого историциста, как я, геополитика, разумеется, выглядит неправомерным вторжением в сферу действия мировой истории и одержимых ею авангардов. Но после того как все без исключения авангарды свернули себе шею, к чему удивляться, что на арену вышли уцелевшие геополитики? Ситуация опрокинулась. Теперь былым «творцам мировой истории» приходится объяснять, что они имели в виду и что именно собирались сделать с нациями и сообществами, превращенными в инструмент будущего?
Геополитик в сравнении с коммунистом ХХ века просто шалун, вроде гопника из предместий, который редко-редко позволяет себе выйти в центр для драки на Манежке. Не геополитики развалили империи ХХ века, как либеральные, так и тоталитарные. Не геополитики несут ответственность за цифры жертв с несчетными нулями. Хотя, разумеется, геополитики очень завидуют историцистам и рвутся изо всех сил на их место – порулить. Но мотив их нисколько не консервативен!
Цымбурского это настораживало. Он предупреждает против геополитического идеализма, убеждающего «народы и государства жертвовать… своим суверенным существованием ради суверенитета Больших Пространств. Сейчас в России этот вид идеализма ярко обнаруживают писания Дугина». Еще раз нужно отметить правоту Цымбурского: визионерство геополитической субкультуры, безвредный пережиток эпохи ар-деко, помноженный на 3D-визуализации XXI века, породило не сон разума, а его умерщвление. Речь уже не об «убеждении суверенитета жертвовать собой», а об обслуживании суверенитетом нужд мелкой текущей политики. (Ей-богу, даже простая геополитическая осторожность не помешала б весной 2014 года в контексте решений о Крыме.) Цымбурский пророчески иронизирует над «крымской геополитикой», не берущей в расчет «снабжение Крыма днепровской водой, радикально осложняющее “островной проект”».
За последнее десятилетие, а вернее бы сказать – тридцатилетие, назрела и перезрела задача понимания России. Эта задача не покрывается исследованием трудных вопросов русской политики, истории, социальной жизни и онтологии. Скорее, надо говорить о загадочной избирательности взгляда последних десятилетий, который замещал непроясненную и даже непоставленную проблему поспешным суждением и императивной оценкой. Классическим случаем здесь являются события, которые, даже при простом их назывании – и это ощутимо для каждого, – вызывают внутреннюю эмоциональную и недружественную мобилизацию присутствующих, мотивированных при этом по-разному. Достаточно простого упоминания. Например, «реформы кабинета Гайдара», «1990-е годы», «катастрофа СССР», «ваучерная приватизация», «путинское большинство» и «политика стабильности». Сам акт именования этих тем является для многих непристойным и почти порнографическим.
Вероятно, уже описание самих заглушек и табу позднесоветского-постсоветского мышления представляет собой также запрещенную себе нашим сознанием зону. Этих механизмов много, они разнообразны и генерируют различные категории исключенного российским мышлением – либо генерирующего сами эти табу, что не исключено.
Итак, слишком многое говорит, что нам не удается и, весьма вероятно, не удастся продвинуться в мышлении о России сколько-то далее места, где мы находимся – и где находиться далее невозможно ни ментально, ни морально, ни эстетически. Двигаться придется, и движение в его начальной фазе будет происходить, что неизбежно, в почти бессмысленной или абсурдной форме.
Периода интеллектуальной подготовки к тому, с чем мы встретимся в скором времени, а именно к реальности, у нас не будет. Посему программа критической активности, критических разработок или даже исследований, которая бы началась (допустим) прямо завтра, имела бы значение только при обдумывании причин неминуемой катастрофы того грядущего старта, который еще и не начался. Это дало бы шанс на то, что та будущая неудача, которая наступит скоро вслед за эйфорией начала, попадет в должный интеллектуальный контекст, и дитя на сей раз не будет выплеснуто вместе с грязной водой следующей «великой реформы» или «перестройки».
Но здесь же и большая трудность, заключенная в неопределенности и неочертанности поля неведомого. Блажен тот, у кого есть уже импортированная концепция или иной карго-дискурс, а если нет? Именно поэтому, быть может, феноменология современных аутозапретов и аутотабуирования русского мышления помогла бы помочь прощупать это тело неясного, неведомого.
Еще до того, как мы признаемся себе, что чего-то не знаем, нам придется признаться в том, как именно мы не хотим знать и какие именно увертки ума от знания мы уже накопили.
Цымбурский остановился на пороге преодоления геополитики по пути к науке о России. Он отметил возможность того, чтобы в рамках политологии выделилась отрасль, «занимающаяся геополитикой как изучаемым типом политической мысли и политической практики». Для нее он предлагал название геополитология. Здесь мы возвращаемся к исходной теме – вернее, к исходному вызову наших дней – вакууму понимания России и ее поведения. Здесь В. Л. Цымбурский оставляет для нас важную, не развернутую им догадку.
Ибо такая наука действительно должна быть наукой об изучающих Россию субъектах и о применении ими изученного. Разумеется, она должна была бы изучать в том числе и российскую геополитику, равно как западные опыты с «кремленологией», «советологией» etc. Все это такая наука рассматривала бы в длинном ряду – от «теорий заговора» до НЛП и «пиара», то есть прагматических проекций интеллекта на русскую политику. Равно и политических запросов на интеллект. В этом случае политтехнологии по-российски также оказались бы предметом изучения, причем в контексте их использования, их интервенций в политический процесс и порожденных этим аберраций. Сюда же попали бы и стратегии «медиаполитики», «управляемых медиа», «суверенной демократии» и «подавляющего большинства».
Иными словами, предметом должен оказаться способ мыслящего обращения России с самой собой – с Россией же. Но этим наукоучением едва ли явится геополитика как таковая.
Опубликовано в интернет-журнале «Гефтер», http://gefter.ru/archive/14211
Неопознанные национальные интересы РФ
Ничто не стоит так дешево и не ценится сегодня так дорого, как национальные интересы России. Все только о них говорят, это стало присказкой, как «пожалуйста». Этикетное междометие ничего в реальности не обозначает – но разве и наши интересы виртуальны?
Премьер Дмитрий Медведев грозит конкурентам запретами: «Извините за пафосное выражение, исходя из наших национальных интересов». Здесь еще слышен извинительный оттенок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков двинулся от суверенного пафоса к ренессансу: «Мы хотим, чтобы наши национальные интересы, наше право на суверенность должным образом уважались. Когда это произойдет, наступит ренессанс в международных отношениях». В речах самого Владимира Путина национальные интересы уязвимы, но их защита неизменно тверда: «Россия доказала, что способна отстаивать свои национальные интересы»… «Россия все жестче и жестче защищает свои национальные интересы… Мы хотим уважения наших национальных интересов». Рисуется образ национальных интересов как беззащитного дедушки, которого бережно везут в инвалидном кресле. Эдуард Лимонов поэтически настойчив. Он требует «срочно декларировать наши национальные интересы, разжевав и объяснив их раз навсегда врагам». И вот министр иностранных дел Сергей Лавров, разжевав, бросил в лицо врагу Джону Керри готовность договориться, откатив кресло с дедушкой в угол: «Мы не поступимся своими национальными интересами и принципиальной позицией по ключевым вопросам, но в то же время российская сторона готова к конструктивному взаимодействию с США».
Итак, перед нами вирусный термин, вроде «да, Карл». Само по себе это не хорошо и не плохо. Дела внутри и вовне страны идут, экономика то ли растет, то ли нет. Антироссийские санкции переросли в новую игровую константу – глобальный режим санкций, открывающий маневренные поля для всех, не исключая саму Россию. Один вопрос – при чем тут вообще внешняя политика Российской Федерации, а, Карл?
Способна ли РФ заложить основы необходимой ей сегодня внешней политики? Вот заглавный вопрос. Старая внешняя политика, хороша она или нет, сегодня в руинах. И первое, что мы видим, – пустота на месте стратегического диалога о национальных интересах РФ.
Заговорив о национальных интересах, мы лавируем между двумя берегами. Есть гора статей и книг авторов, которые до Горбачёва не знали такого понятия или не решались произнести его вслух. И есть решения, принимавшиеся в Кремле помимо «всей этой макулатуры», со спорами экспертов не корреспондирующие. Не потому ли момент истины насчет интересов страны совпадает у нас с моментами кризисов и катастроф?
Когда однажды раскроются тайны и рты, разнобой трактовок того, кто и зачем запускал «весну Новороссии», сохранится. Есть прецедент: странная тайна ввода войск в Афганистан. Решение, которое сотрясло экономику и позиции СССР, погубило его антиколониальную репутацию, попутно породив вооруженный исламизм. Сейфы давно раскрылись, но там пусто. Где обсуждение столь рискованной операции в контексте национальных интересов СССР?
Концепт national interest возник в США, и даже понятие «национальных интересов России», прежде чем о них заговорили в Москве, появилось в американских дебатах. В разгар политики сдерживания ястребы холодной войны вроде Пола Нитце обязательно учитывали то, как американские интересы выглядят в поле интересов враждебных. Джордж Кеннан учил, что русские не сядут за стол переговоров «в отрыве от своего национального интереса». Трактовка враждебного интереса как чужого национального кажется нам удивительной, но много ли можно сказать о своих национальных интересах вне их связи и конфликта с такими же интересами остальных?
Правда, неизвестно место, где у нас вырабатывается повестка национальных интересов. Если это государственная власть, есть ли место дебатам во внутриведомственных спорах? Аппаратные препирательства накануне решений о Крыме трудно возвести в ранг стратегических дебатов: никто из участвующих не связывал себя определенной позицией. А уяснение аппаратом взглядов начальника, существовавших до спора, – не политические дебаты, даже когда они привели к необъятным последствиям.
В итоге национальные интересы России сегодня лишены центров разработки и политически строгой терминологии. То, что пишут по этой теме, – беллетристика, часто политически безответственная. Мы слышим сказки о всемогуществе с указанием другим странам, что те лишь мишень для наших «Искандеров». Требования признать за Российской Федерацией фантастические статусы – само по себе угроза нашей безопасности. Последнюю трактуют как безопасность «на все времена», навязывая национальному интересу поиск вечной страховки. Но абсолютов в политике нет.
Опасно утрачен интерес аналитиков к поучительным кейсам, где мощь России вдруг переходила в слабость. Вспомним плохую роль, сыгранную в судьбе СССР требованием «стратегического паритета с главным противником». Ложная цель была подсказана травмой поражений 1941 года, но с годами знак потенциала менялся. Оборонительная сверхмощь СССР, достигнув апогея к середине 1980-х, распылилась по зонам влияния и стала сверхслабостью.
Мы описываем Россию как нечто предусмотренное, спроектированное и выстроенное. Такие описания негодны для страны, образованной вычитанием республик из СССР. РФ унаследовала слабость во власти, экономике и ресурсах. Слабость и стала учредительным фактором, а могущество, мощь – мечтой, цель которой не уточняли. Сегодня наоборот – цели подбирают под мощь. Но мощь – это лишь потенция, возможность нации обслуживать свои интересы, сохраняя неистраченной их ресурсную базу. Вне сервисной функции мощь проблематична – ее то слишком много (чтобы оценить риски втягивания в конфликт), то мало (когда придет время платить по счетам). Непроявленность национальных интересов и тут срабатывает на слабость: возвратную слабость страны среди еще недавно сильных ее позиций.
Ранний Путин разделял догму постмодерна о том, что экономическая сила утвердилась на месте военной. Основанием национальных интересов он положил финансовое могущество России и к нему, срезая углы, рванулся самым коротким путем «сырьевой модели». Та несовершенна, но ведь для команды Кремля речь шла о безопасности, а не об экономике. Упрекнуть Путина можно в другом – в неверной ставке на тип глобализации. Российская экономика превратилась в финансовый сверхпузырь, обеспеченный америко-китайско-европейским бумом. Проект Путина – ультраглобалистский проект. Кризис 2008 года его надломил, а украинская революция опрокинула на себя: революция в Киеве раздавлена, но интересы России – слишком дорогая плата за это.
Мы опять видим решительные действия без обдуманных решений и жертвы, принесенные без надежных результатов.
Дефицит дебатов в украинском кризисе был особенно разрушителен для наших интересов, причем независимо от оценки значения Украины. Мысль, что она исключительно важна, обитала в Кремле давно. Еще Беловежский раздел СССР 1991-го мотивировали украинским референдумом о независимости. Но как украинская доминанта размещена в кремлевском мозге среди всех других задач? Ответ на вопрос дают неизменно литературный, эмоциональный и намеренно непроверяемый. Тем самым и не операциональный. Его нельзя использовать в принятии никаких решений, даже тактических. Чем и объяснима власть прибауток над стратегическим сообществом: «Россия сосредоточивается», «Пока русский царь ловит рыбу, Европа может подождать», «Украинец признает только силу» и т. п. Отсюда же постоянный поиск вредителя в функции упрощения задачи. Борьба с вредителем проще достижения цели и запросто подменяет цель. Москва давно одержима «американской догмой», будто США имеют определяющее влияние – то доброе, то злое (что всегда зависит от текущих маневров) на наши интересы. Источник догмы часто в невежестве. Глядя на глубоко нам непонятную и политически сложную цивилизацию Соединенных Штатов и не будучи с ней в культурном контакте, мы пытаемся угадать свои цели, гадая о кознях противника. Постсоветскому мышлению свойственна криминализация глобальной игры. Все помехи нашим желаниям идут только от злоумышленников.
В текстах российской аналитики украинского кризиса заметно нечто общее – авторы избегают определять желаемое состояние. С легкостью говоря о «военном броске России» до Днепра или Збруча, они не предлагают точной сцены такой эскалации, ее участников – и последствий этого для Российской Федерации. Тяга к радикальным выходкам не привязана ни к обстановке, ни к вероятному поведению игроков. Национальный интерес в таких заявлениях выглядит суицидально.
Не проводя стратегических дебатов, Россия невольно заимствует украинскую модель их фальсификации. Прежде мы свысока поглядывали на киевлян с их вечными спорами о «многовекторности», «пророссийской или прозападной ориентации» – все это выглядело ребячеством. А сегодня тонем в абсурдной полемике о ненужности для русских западной традиции права и порочности свобод. Разве Москва готова ревизовать европейское русло русской традиции, заданное Петром Великим? Для такого понадобится и катастрофа петровских масштабов.
Пишут о «параноидальном страхе Москвы перед Западом», но болезнь тут ни при чем. Это леность. Просто несобранный субъект нервничает в присутствии подтянутого, а его импровизирующий мозг робеет перед стратегически расчетливым. Даже наше клеймо «вашингтонский обком» – всхлип слабости тех, кому обычное управление кажется непостижимой тайной. Увы, демократии Запада – это в точном смысле слова управляемые и управляющие демократии. Они реально обладают свойством, в котором лицемерно (и зря) винят Кремль: управляемостью.
Русско-украинский кризис 2014 года был общеевропейским кризисом стратегического управления. Побег президента Украины оставил недовольных Евромайданом без лидера, и вдруг оказалось, что эту потерю некем заменить. Для деэскалации нужен был Янукович. Пропажа центральной позиции выпятила место Путина, творя миф о глобальном злодее-волшебнике, способном все остановить. Приняв роль, Путин вынужденно демонстрировал «авторство», провоцируя европейцев подхватить игру. И вскоре та перешла в нагнетание антироссийских санкций.
Спектакли демонстративной вражды и встречной непримиримости Запада, мешая оценить глубину кризиса, затрудняли урегулирование. На месте остановленной революции в Украине заработал национал-революционный театр с риторикой крови и подвига. Московский контрреволюционный театр, не менее интенсивный, поддерживали военно-съемочные бригады, высылаемые из Останкино на Донбасс.
Казалось, дипломатии в Европе то ли не стало, то ли она еще не изобретена. Но театральные постановки «усиления НАТО» и «российской стратегической готовности» у всех на виду. И если б не тысячи погибших, в театре нашлось бы много смешного. Не комична ли могущественнейшая военная сила планеты – блок НАТО, крепящий защиту от московского троллинга? Но и Москва перестала отличать троллинг президента Обамы от перемещения танковых подразделений.
Под Мариуполем русские танки чуть не прорвали экран воображения, окончательно опрокинув Россию и Европу в немыслимую реальность. А в основе – лишь упрямое неразличение интересов и инструментов, стратегического и показного. Жестокий театр украинских «киборгов», жестокий театр Игоря Стрелкова, нереальная жестокость сбитого боинга. Те, кто сбил малайзийский самолет, ударили прямо в солнечное сплетение национальных интересов. Обнаружилось, что реальный интерес каждой страны – жизни ее людей и безопасные коммуникации ее рынков. Приоритетен ли этот национальный интерес для нас? Или мы все еще в сомнениях на этот счет?
Словосочетание «борьба за национальное самоопределение» помнит всякий читатель советских газет. Давно исчезнувшее, оно вернулось к нам вместе с Крымом. Значит ли это, что Москва пересмотрела постсоветскую незаинтересованность в национальных движениях за самоопределение? Отнюдь нет.
Еще разительней дела с русским миром. Неологизм присутствовал в официальном обиходе как общее название программ стимулирования русского языка и культуры за рубежом, как вдруг он стал обозначать притязание. Настолько основательное, что президент РФ публично отрицает разницу между украинцами и русскими – «это один народ». Значит ли это, что мы размываем Россию в «русском мире», одновременно отрицая нации, возникшие при распаде СССР? Разве нашим национальным интересам отвечала бы повторная неопределенность границ на постсоветском пространстве – fuzzy topology для суверенитетов Северной Евразии?
Русские, представляющие 80 % населения в Российской Федерации, для «русского мира» выступали бы безгосударственным народом, рассеянным по десятку государств. Интересы реальных граждан РФ хотят обменять на разномастные диаспоры, предлагая раздвигать и развивать их, а не Россию. Нонсенс, абсурд? Нет, уже реальная ситуация. Конфликт интересов яро проявляют не только отчаянные бойцы «Новороссии», но и российские государственные телеканалы. Кому пора «подвинуться» – России или «русскому миру»? Чьи национальные интересы приоритетнее?
Генри Киссинджер однажды заметил, что Россия часто предпочитает риск поражения компромиссу. Вот и сегодня Москва рассеянно относится к угрозе военных сценариев развития кризиса. Грозя другим, мы пренебрегаем их восприятием угроз, легковерно надеясь, что те нас не примут всерьез. Послание русского легкомыслия: остановите нас, если можете, а нет, так терпите дальше! Более яркой формулы нестерпимого положения не придумать, но в чем так можно преуспеть? Даже территориальные приобретения не легализовать, не выйдя в пространство общепризнанных норм, с дальнейшим отказом их нарушать.
Под знаменем Realpolitik мы увертываемся от Realpolitik. Из добытого Россией за последние 20 месяцев нет ничего, чего нельзя было получить, комбинируя интриги, давление и переговоры. Истинная конкуренция ждет Россию не в Крыму и не на Донбассе, и пока что мы от нее только бежим. Горизонт стратегического планирования сузился до карт Горловки, Донецка и Мариуполя.
В дни присоединения Крыма, за чем последовали месяцы проекта «Новороссия» и уже год санкций, оказалось, что в стране нет влиятельной силы, способной настоять на снижении потерь от слабых решений. Дефицит умеренности между тем – хорошо известный источник катастроф. Мы хотим вести войны без отступлений, не сравнив и не обсудив ценности атакуемых целей. Войны за что – за спасение бездействующих оборонительных союзов?
В союзы на Евровостоке Россией вложена масса сил, и те приобрели для нас культовую ценность. Но что собственно обеспечивало стратегическую защищенность РФ в первое двадцатилетие – СНГ с ОДКБ или тогдашний баланс сил в Евразии? а ведь сколько усилий Россия вложила в те бесцельные союзы, сколько денег швыряли в Киев, чтобы «сохранить Украину для СНГ»? Сегодня от всего этого мало осталось. Евразийское экономическое сообщество – это не проектировавшийся Евразийский союз. Истлевающий прах СНГ, несколько функционирующих подструктур Таможенного союза и ОДКБ – и все.
Давно известный в политической истории парадокс – неработающие союзы не могут защитить, но тем дороже то, что от них осталось: мотив подменяет цель. И уже не союзы хранят от военной угрозы, а их сохранение угрожает. Наши постсоветские союзники вслед за Украиной – очаги уязвимости России, ее стратегически слабые позиции. Контроль за союзниками становится для нас главной военной заботой.
Присоединение Крыма возродило на Западе тему «сдерживания России». Дискуссия здесь идет по накатанным процедурам дебатов для выработки подходов и их оценки, перед тем как прийти к консенсусному решению. Между тем Россия уже продемонстрировала свой вклад в технологию сдерживания. Назову это «сдерживанием по-новороссийски». «Новороссийская» модель сдерживания предполагает серию ударов по общепринятому порядку в его неожиданно уязвимом месте, незащищенном оттого лишь, что его считали стратегически бесполезным. Удар нарушает стратегию тех, кто на Западе ее имел или полагал, что имеет. Ошеломляет не военный результат (он ничтожен), а растущая неясность уровня дальнейших угроз.
Политика России на востоке Украины от апреля к сентябрю 2014-го – серия странных действий в невыгодных местах, осуществляемых необычными субъектами. Стрелков, батальон «Призрак», Бородай и чеченский ОМОН опрокинули привычные ожидания, создав у Запада страх перед чем-то еще более невероятным. Истерики телеведущих и кровожадные записи в блогах с требованием «идти к Ла-Маншу» (якобы отражающие планы «кремлевской партии войны») – часть той же схемы, пиротехнический спектакль с использованием тяжелых вооружений. Она приносит скорее психологический эффект, чем военный. То, что выглядело как «акт агрессии», по сути лишь дезинформационная операция на выигрыш времени. Вслед за чем в Кремле, вероятно, собирались перейти к урегулированию.
Но такое сдерживание не стратегическое – это тактика слабых сторон. Согласно тому же Киссинджеру в его книге On China, нечто подобное практиковал председатель Мао в первые годы КНР. Но для успеха нужны стальные нервы, дозировка наглости, а главное – готовность подкрепить свой блеф, если вдруг придется, прямым военным столкновением. Ничего подобного у Кремля не было, и по уважительной причине – зачем? Столь дорого у нас не платят за игру в покер.
Команда Путина, если присмотреться, строит глобальный аналог схемы, ранее сооруженной во внутренней политике, где Путин – защитник цивилизующих элит от якобы националистичной и экстремистской «массы». На глобальном уровне Москва использует страх перед заново опасной Россией – «ревизионистской, ядерной и имперской». Авантюра с проектом «Новороссия» не нарушает этой схемы, а ее укрепляет. Но такая схема – Опасного Гаранта – несет угрозу самой попасть в стратегический плен. Внутри России президент, откупаясь от бюджетников «путинского большинства», давно попал от них во всестороннюю зависимость. Нечто похожее назревает и на глобальной сцене. Кажется, мы близки к стратегической зависимости от КНР, принимая на себя риски, связанные с их тактикой. Что если окажется, что Кремль работал не на себя? «Большой евразийский блок», рисующийся в кремлевском воображении, сочетал бы тактическую деевропеизацию России с ее стратегической десуверенизацией. Дороговато для временного и вынужденного союза. И кто обсуждал, насколько это в национальных интересах России?
Россия прыгнула в украинский кипяток с апломбом неуязвимой беспримерной державы. Это не личная странность ее руководства. За прошлые 25 лет РФ признавалась «страной-особым-случаем». На месте краха СССР на Западе ожидали величайшую из демократий XXI века, и в разное время все лидеры поддерживали эту игру. Евросоюз и США кому только не диктовали жестких норм и правил демократического транзита – кроме России, которую признали необычайной. Строить новую нацию в стране Чайковского, Толстого и Солженицына? Это звучит кощунством! Особый статус был испытан в дни конфликта из-за Ирака 2003 года. Натолкнувшись на сопротивление войне, президент Буш-младший принял формулу «наказать Францию, игнорировать Германию – и простить Россию», хотя одна Россия из той триады не относилась к американским союзникам.
Для России признание за ней особого статуса, закрепленного местом в G8 и смягчением западных стратегий, заменило soft power. Как вдруг, накинувшись на национал-революционный Киев во имя «войны с фашизмом», Россия стала выглядеть просто-напросто опасной страной. Капитал «удивительной и неповторимой» исчез, а с ним и шарм российской soft power. Мы оказались в группе стран риска, в которых нет ничего исключительного. Пора понять, что с переходом в более низкую лигу предстоит изменение статуса.
Россия – не авторитарный донор стабилизации, как прежде, а враг идеи порядка. Никто не хочет испытывать, готов ли Кремль впредь вести себя предсказуемее? Это слишком рискованно. Стабилизационная повестка в Европе отныне противостоит повестке отношений с Москвой. На смену исключительной России с великим прошлым пришла поднадзорная Россия, страна-рецидивист. Правда, это другое «неэксклюзивное» государство добивается нового европейского урегулирования взамен разрушенного. Возможно ли это? Да – но в наших ли интересах?
Требование Москвы в 1990-е – 2000-е годы. стать членом западного порядка с правом голоса было вполне справедливым, однако выгодно ли оно теперь? Вот еще один повод опознать свои действительные национальные интересы.
Часто приводят пример Хельсинкских соглашений 1975 года, навечно признавших послевоенные границы за 15 лет до того, как они переменились. Странный эталон, он более настораживает, чем вдохновляет. Хельсинки лишь углубили стратегические несчастья СССР. Десятилетие предперестройки прошло для Москвы в моральной изоляции под судом Хельсинкских протоколов.
Большой договор Евросоюза и Евразийского экономического союза, если даже возникнет, предсказуемо станет геополитической биржей с фильтрами допуска. Каждую сделку России придется «покупать». Торг пойдет, конечно, вокруг границ и суверенитетов в Евразии, но любые уступки России (а речь отныне только о них, но не о сообществе доверия) обставят и обусловят военно-стратегическими контрфорсами. Формализация правил во всяком случае пройдет за счет сокращения маневренных зон, где у России до сих пор были развязаны руки для сдерживания. Такой договор подстегнет формализацию и еще более опасных для Российской Федерации новелл – при участии России по ходу переговоров может состояться долгосрочная антироссийская «коалиция по умолчанию».
Итак, мы входим в эру неизбежной ревизии национальных интересов России. Может, хоть теперь кто-то захочет узнать их состав? Что предпочтительнее с позиции наших интересов – корыстолюбиво лояльная Москве лицемерная Украина? Или столь же лицемерный новый европейский порядок – неудобный и жесткий, тот, который уже складывается вокруг украинского урегулирования? Но что тогда станет ценой будущего порядка – Донбасс? Украина? Или само нынешнее устройство Российской Федерации?
Ответы на эти вопросы как раз и относятся к сфере национальных интересов России, все еще остающихся неопознанными.






