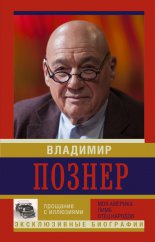Киммерийский закат Сушинский Богдан

— Для тебя это тоже «новая власть»? — прямо спросил его Ярчук, тем самым ясно давая понять, какого мнения и какой ориентации придерживается он сам.
— Ситуация сложная, Михалыч. Но вы же знаете, я сторонник того, чтобы вопросы армии решать радикально и немедленно.
Смысл сказанного можно было истолковывать по-разному, но из предыдущих бесед Ярчук знал их истинное толкование: под «радикально и немедленно» штабной генерал понимал только одно: переход армии в подчинение Верховного Совета Украины, что на практике означало создание украинской армии. Лихим парнем был этот генерал, но…
— Тогда ты знаешь, как вести себя и что делать… чтобы не делать «ничего такого». Старайся анализировать ситуацию, исходя из того, что войска находятся на территории теперь уже суверенной Украины.
— Принято, понято! Есть, анализировать ситуацию!
И генерал действительно понял, Ярчук в этом не сомневался. Ему запомнился разговор с тогда еще полковником Вожженко в июле прошлого года, сразу же после принятия Декларации о государственном суверенитете. Полковник тогда сказал: «Как офицер-украинец, я хочу знать, насколько это серьезно».
«Что… серьезно?» — явно лукавил Ярчук.
«Ну, все это: декларация, суверенитет, выход из состава Союза… Если вы действительно намерены создавать независимое государство, а не очередную автономию с непонятно какими правами, которых уже через год Москва нас лишит, тогда немедленно берите в свои руки армию. У нас достаточно патриотически настроенных офицеров, чтобы быстро и решительно сместить всех тех, кто, оставаясь в Украине, и впредь намерен служить России».
«Считаете, что и в самом деле достаточно?» — уточнил Ярчук.
«Вы хотя бы знаете, что порядка пятисот тысяч офицеров Советской армии являются этническими украинцами?»[17]
«Порядка пятисот тысяч?! — изумленно переспросил Ярчук. — Да такое просто невозможно! Откуда эта цифра?»
«Из Москвы, из Главного политуправления, причем получена по партийным каналам. Из этого вытекает, что мы не только можем полностью укомплектовать свою армию хорошо подготовленным украинским офицерским корпусом, но и вообще создать сугубо офицерскую армию».
«Образца офицерских батальонов Белой гвардии, — понимающе кивнул Ярчук. — Мы могли бы удивить мир хотя бы этим. Вот только… вам, по тем же каналам Главполитуправления, не поведали, сколько среди этих этнических офицеров-украинцев действительно… украинцев? То есть настоящих, национально сознательных».
«Значительно больше, чем нам с вами кажется. Настанет время, и они проявят себя так, что и в самом деле удивят мир. Словом, что решаем? Берем армию в свои руки?»
Ярчук тогда иронично ухмыльнулся и нервно передернул подбородком.
«Это значит — идти по одному из сценариев военного переворота, давно отработанных “банановыми республиками”. Но Украина — не банановая республика, а Советский Союз — не та империя, в пределах которой стоит затевать гражданскую войну. Так что на переворот я никогда не пойду».
Да, тогда Ярчук ответил именно так. Но теперь он уже не был уверен в своей правоте. В конце концов, речь ведь шла не о военном, а о конституционном перевороте, обозначенном уже самим провозглашением суверенитета.
«Что ж, — зубами почесал Михалыч верхнюю губу, завершая теперешний разговор с Вожженко, — по крайней мере один генерал-штабист в резерве у тебя, как крапленая карта — в рукаве, все же имеется».
13
Шеф госбезопасности сидел в своем кабинете — угрюмый и фанатично решительный.
Выставив на стол два крепко сжатых кулака, он встречал входящих друг за другом заместителей и начальников управлений кагэбэ с таким видом, словно руки его покоились на рукоятях «максима», и он лишь ждал момента, чтобы нажать на гашетку. В дни, предшествовавшие путчу, Корягин занимался в основном тем, что разрабатывал план смещения Президента, «утрясал» кандидатуры лиц, которые должны были составить Госкомитет по чрезвычайному положению, да пытался координировать действия причастных к путчу «силовых контор». При этом Старый Чекист не сомневался, что в самом его ведомстве каждый беспрекословно выполнит все, что ему будет приказано.
Однако теперь, глядя, как неуверенно, настороженно входят в его огромный кабинет начальник Седьмого главного управления генерал-майор Петюнин, Третьего главного управления недавно назначенный полковник Волков и Главного управления защиты конституционного строя генерал Ведренко, шеф госбезопасности уже не был уверен в этом.
Подчиненные давно расселись — каждый на свое, давно облюбованное место. А Корягин все еще сидел, ссутуленно набычившись, и пристально всматривался куда-то в пространство между дверью и заставленным трудами классиков марксизма да мемуарами шефов разведок и контрразведок мира книжным шкафом. Когда же он наконец вышел из состояния этой кагэбистской нирваны и вернулся к реальной действительности, каждый из сотрудников госбезопасности, кто попадал в сектор обстрела его свинцовых очков, чувствовал себя, как отступник — под судным снайперским прицелом.
— Сегодня по всей стране, по всему Союзу Советских Социалистических Республик, — уточнил он негромким, вкрадчивым, совершенно не похожим на радиоофициоз Левитана голосом, — вводится чрезвычайное положение. Оно вводится по всему Советскому Союзу, — повторил генерал армии Корягин, и каждый из присутствовавших чинов прекрасно понимал, чт за этим сообщением стоит и что за ним последует.
Управленцы самоотреченно молчали. Ни одному из величайших актеров мира не позволительно было держать такую сценическую паузу, как шефу госбезопасности, и ни в одном театре мира не нашлось бы столь почтительно внемлющей его путчистской паузе массовки.
— Генерал Гусин.
— Слушаю вас, — вздрогнул заместитель Председателя КГБ и, поднявшись, исподлобья уставился на Корягина.
«А ведь хреново держится, — ухмыльнулся про себя шеф госбезопасности. — Одно дело — подвластно утюжить свой народ, зная, что за тобой огромная имперская машина, мощная имперская власть, и тогда плевать на законы, на Конституцию, на то, что скажут за бугром. Совершенно другое — идти против власти, пусть даже такой рыхлой, как нынешняя.
— Здесь списки лиц, — положил Корягин на край стола багровую, под цвет крови, папочку, — за которыми нужно немедленно установить наблюдение и которых, как только последует приказ, надлежит сразу же арестовать.
Гусин попытался подойти к столу четко, по-военному, но от шефа госбезопасности не скрылось, что ноги его подчиненного одеревенели и шаг получился не офицерский, а ходульно-холопский. Каким обычно подходили к трибуне мелкие провинциальные сошки, которым по дикой случайности выпадало держать речь на съездах партии да пленумах ЦК.
Вернувшись на свое место, Гусин открыл папку, прошелся взглядом по первым фамилиям и до крови прокусил нижнюю губу. Э, нет, это уже были не «писатели-отщепенцы» и не «продавшиеся западу художники-абстракционисты», на преследовании которых чекисты поднаторели со времен Ягоды, Ежова и Берии и которых можно было тысячами загонять в коммунистические концлагеря.
На сей раз в перечне лиц, которых следовало изолировать в первую очередь, оказались мэры крупных городов, нынешние и бывшие министры; главы союзных республик, а ныне уже и полунезависимых государств. А еще — политические деятели, только недавно, в июле, выступившие с обращением к народу с призывом создать «движение демократических реформ», но, что самое разительное, здесь перечислялась масса высших должностных лиц России, включая и самого Президента Федерации Елагина[18].
«Да они там, в своем ГКЧП, что, совсем оборзели?!» — ужаснулся Гусин, четко представляя себе, что последует за арестом любого из этих политиков; каковой будет реакция в республиках, за рубежом, во всем этом дерьмократическом перестроечном бедламе.
Нет, в том, что «дерьмократов» следует давить, причем давить решительно и безжалостно, зампред комитета госбезопасности никогда и не сомневался. Но времена такие, что давить можно только сверху, под указующим перстом генсек-президента страны, парламента, но уж никак не под прикрытием группы пока еще высокопоставленных, но уже вовсю презираемых народом путчистов.
— Седьмое главное управление, — взглядом отыскал шеф госбезопасности генерала Петюнина. — Срочно направьте группу оперативников в район поселка Ведино. Выяснить обстановку, блокировать подступы к даче Президента России; постоянно держать в готовности группу захвата. Посылать исключительно надежных людей.
— Есть установить и держать… — в свойственной ему манере ответил Петюнин.
В этом, напропалую «своем», человеке шеф госбезопасности не сомневался. Гусин — другое дело. Тот уже струсил, уже прокручивает варианты, при которых приказ можно или вообще не выполнять, или же выполнить, но так, чтобы не замараться: дело-то попахивает сразу несколькими конституционными, а значит, и уголовными статьями. Нет, Петюнин иного склада характера. Этот — истинный служака. Из всех мыслимых законов, которые когда-либо провозглашались в этой, ими же всеми пропитой, стране, он признавал только один — закон приказа. А что, хорошо держится. Не каждому удается.
— Подчеркиваю: в группе оперативников должны оказаться самые стойкие, исключительно проверенные и надежные люди, — как можно жестче проговорил обер-кагэбист.
— Других не держим-с, — мрачно ответствовал начальник Главного управления.
Шеф госбезопасности снисходительно ухмыльнулся. Этого багроволицего здоровяка он знал уже лет двадцать, со времен его оперативного полулегального бдения в должности одного из замов начальника секретного объекта в Сибири. И знал, что всякий раз в негатив Петюнину вплеталось некое поклонение… образу русского офицерства, «напускной белогвардейщине» и всем прочим в этом роде. Но всякий раз об этом говорилось, как о его пристрастии к некоей браваде, то есть всерьез его «белогвардейщину» как бы никто и не воспринимал.
Однако дело даже не в восприятии. Просто Петюнину повезло, что времена были не сталинские, а те, когда «белогвардейщина» рассматривалась всего лишь, как «перехлест великорусской державности», а не как «пораженческое настроение потерявшего революционную бдительность чекиста». Вот если бы он был замечен в мелкобуржуазном подражании Западу, или, как всякий инородец, в буржуазном национализме — тогда уж по нему прошлись бы со всей суровостью советских законов.
— Не то время, генерал, — поморщился Корягин. — Ситуация не та. Поэтому, когда я говорю: «особо надежные и проверенные…», то это значит, что должны быть люди, преданные лично вам и проверенные лично вами… Кстати, вас, Управление защиты конституционного строя и Третье главное управление, — обратился к Волкову и Ведренко, — это тоже касается. Срочно сформировать группы особого назначения, которые будут готовы отправиться в республики Прибалтики. Только учтите уроки кровавых январских событий в Вильнюсе. Действовать следует аккуратнее, и в то же время — решительнее.
— И только так, — по-бычьи склонил голову Петюнин, хотя энтузиазма в его словах явно поубавилось.
Корягин знал, что наставлений типа «действовать аккуратнее, и в то же время — решительнее» Петюнин попросту не воспринимает: что значит «аккуратнее», когда речь идет о каких-то там, на корню продавшихся, нацменах-прибалтах? Будь у него побольше раскованности и наглости, он конечно же потребовал бы от своего шефа четкого армейского приказа: «Занять. Удерживать. Патронов не жалеть…»
Петюнин вообще не мог понять, почему его, обычного армейского офицера, судьбе угодно было забросить в политическую полицию многонациональной империи. Поэтому в мирное время с ним пришлось повозиться. Однако «мирные дни миновали, час искупленья пробил». Так что именно такие люди, «люди приказа», как раз и могли понадобиться сейчас гэкачепе. Когда обнаружится, что в полудемократические бредни играть уже некогда да и не с кем, вот тогда им, офицерам госбезопасности, придется отдавать приказы распропагандированному армейскому офицерству, но уже с сугубо армейской прямотой.
— Хочу напомнить, что в июне в Вильнюсе состоялось заседание Совета балтийских государств, — Корягин опять выдержал паузу и, поскольку на сей раз взгляд его остановился на генерале Волкове, тот, не меняя позы и почти не открывая рта, как провинциальный чревовещатель, подтвердил:
— Именно так.
— Насколько прибалты зарвались, можно судить по тому, что оба документа были недружественны по отношению к Советскому Союзу и в частности, к России. Они даже приняли документ «О действиях СССР против балтийских стран и народов», заявив тем самым на весь мир, что сами себя частью Союза уже не считают, и, по существу, объявляют себя в состоянии войны с Москвой.
— Совсем страх потеряли, — проворчал Петюнин. — Нацмены — они и есть нацмены[19].
— Не менее наглым предстает и второй принятый ими документ, в котором прибалты заявляют о намерении вести переговоры с СССР. Уже не с отдельными республиками Союза, а именно с СССР, и даже наметили координацию общих действий и политических усилий. Причем между строчками явно улавливаются мероприятия по силовому противостоянию Москве.
— В Украине ситуация не легче, — напомнил начальник Второго главного управления Аристархов, представавший еще и в роли аналитика и чьи реплики обычно раздражали шефа госбезопасности. Правда, на сей раз реплику Аристархова он попросту «не уловил».
Отдав еще несколько распоряжений по поводу того, как следует информировать и активизировать структуры КГБ в союзных республиках, Корягин хлопнул ладонью по черной объемистой папке, всегда, на всех совещаниях лежащей под его правой рукой, словно Библия, или свод законов — под рукой у судьи. И это было сигналом к тому, что совещание завершено. Но когда управленцы поднялись, Корягин, ухмыляясь, сквозь зубы проговорил:
— Кстати, замечу, что Украина — вопрос особый. Украину мы в любом случае расчленим на Западную и Юго-Восточную, вернув к довоенному состоянию. А вот прибалтов расчленить не удастся. Этих надо давить основательно. К слову, генерал армии Банников сейчас в Киеве. Это человек гэкачепе, а значит, «наш человек».
14
Отпустив подчиненных, шеф госбезопасности какое-то время сидел за своим массивным столом, пребывая в состоянии полной отрешенности. Это был апофеоз бездумия, который через несколько минут умственного ничегонеделания обычно позволял снова вернуться к реальности. Уже самой по себе отрешенной от привычного, устоявшегося в сознании «обер-кагэбиста», — как в последнее время, с легкой руки некоего немецкого журналиста, начали называть Корягина западные радиостанции, — представления.
Однако долго так продолжаться не могло. Вырвавшись из своей отрешенности, как из сладкого предутреннего сна, обер-кагэбист взглянул на залитое солнечным светом окно: шел двенадцатый час дня. Путч был в разгаре. Там, за этим ажурно зарешеченным окном, страна, тоже ажурно зарешеченная, медленно втягивалась в гражданскую войну.
Корягин потер о ребро стола вспотевшие ладони, как потирал их всякий раз, когда ощущал, что подступает к опасной черте, и открыл черную папку в потертом кожаном переплете, без каких-либо надписей и теснений. Только он один знал, что досталась ему эта папка еще от Берии. В ней Кровавый Лаврентий накапливал досье на самых высокопоставленных членов партии. Всякий, чье имя оказывалось в этой папке, уже был обречен. Он захлопывал ее, словно накрывал крышкой гроба, и барабанная дробь его пальцев отбивалась на судьбе приговоренного ударами гробовщика.
Однако нынешний преемник Берии начал чтение все же с другой папки, на которой красным фламастером было начертано «Оперативная информация».
«12 января 1991 года. Напряженная ситуация в Вильнюсе. Спецподразделения МВД заняли здание Дома печати (литовского издательства ЦК КПСС). Перестрелка. Из мирных — двое тяжело раненных. Толпа на площади Независимости».
Из заметок самого Корягина на полях: «Почему только Дом печати? Решили брать столицу Литвы, значит, нужно было брать!»
«12 января… Радиостанция в Вильнюсе… Каждые полчаса звучат призывы к литовцам немедленно прибыть в столицу для защиты Дома правительства, телецентра и других важных государственных объектов. Образован Комитет национального спасения Литвы, который парламентом Литвы объявлен незаконным».
Из заметок на полях: «Список членов комитета нацспасения? Нет ли теневого списка, ушедших в подполье? Досье на руководителей комитета? Компромат…»
«14 января… Вильнюс. Траур. Нагнетание атмосферы националами. По уточненным данным погибло 14 человек… По сведениям минздрава Литвы, в больницах много тяжелораненых…»
«14 января… и погибло четырнадцать человек?!» — бросилось в глаза обер-кагэбисту. Слишком «режутся» цифры, что всегда вызывает подозрение. Только поэтому на полях появилось уточняющее: «Сколько именно составляет это «много»? Однако дать точную цифру шефу КГБ так никто и не удосужился. Впрочем, в ней и не было необходимости; какая, собственно, разница?!»
«14 января. В Вильнюсе делегация Совета Федерации СССР. Военным приказано от боевых действий воздерживаться. Заявление министра внутренних дел СССР: “Вся вина за человеческие жертвы ложится на руководство Литвы”. Еще бы! Президент СССР: “О случившемся я узнал только рано утром. У меня состоялась беседа с руководителями Литвы. Стремления к диалогу не обнаружено”».
— Вот так-то: не обнаружено! — воинственно осклабился обер-кагэбист. — А это уже важно. Вряд ли этот «прораб перестройки, по чьей вине как раз и рушится вся страна, представляет себе, какой аргумент, какой факт предоставил он в руки его, Корягина, стаи.
«23 мая. Нападение Рижского ОМОНа МВД СССР на таможенные посты Латвии на границе с Литвой и Эстонией».
Из заметки на полях. «Уточнить количество постов. Кто отдал приказ о нападении?»
«24 мая. Из Генпрокуратуры… Указание Генпрокурора СССР: возбудить уголовное дело в отношении сотрудников рижского ОМОНа “в целях установления правомерности его самовольных действий по ликвидации незаконно возведенных постов таможенной службы по признаку превышения власти”».
«Самовольные действия, — вновь ухмыльнулся шеф КГБ, — по ликвидации незаконно возведенных постов…» Неувядающие соломоны-мудрецы из Генпрокуратуры! Если сама Генпрокуратура признавала, что посты на границах созданы незаконно, тогда — всякое обвинение в адрес ОМОНа уже не имеет смысла. Неужели возможно еще какое-то толкование? Впрочем, эти сволочные адвокаты способны вывернуть сей казус и так и эдак.
Заметки на полях: «Кто отдал приказ?» Ответа напротив этого сообщения не последовало. Хотя не мешало бы заполучить его…
«24 мая, — перешел он к следующей записи. — МВД. Министр внутренних дел Пугач заявил корреспондентам, что отряды милиции особого назначения никакого отношения к событиям на границах Латвии не имеют».
— Идиот! Какой же он идиот! — вслух взорвался шеф КГБ, брезгливо отодвигая от себя папку, по записям в которой мог чуть ли не по часам восстановить все события «на просторах одной шестой суши», начиная с января; и устало помассажировал лицо.
До сих пор на амбразуры бросали спецотряды милиции. Омоновцев теперь уже называли «мабутовцами», по аналогии с каким-то африканским идеологическим пугалом времен Хрущева, а то и «эсэсовцами», и даже «власовцами». И уже всем было ясно, что не пройдет и двух-трех месяцев, как министром внутренних дел пожертвуют, сдав его прессе, а возможно, и прокуратуре, как сдают жертвенного барана.
Тем временем Корягин прекрасно понимал, что в его личной судьбе сегодняшний день — переломный. С нынешнего дня требовать на полях своего досье уточнений: «Кто отдал приказ?» ему уже не придется. Этого будут требовать другие. Ибо отныне создавать «пожарные» отряды коммандос и отдавать приказы придется ему самому.
— Товарищ генерал армии, — появился в проеме двери помощник Корягина. — Расшифровка записей бесед Президента России и прочая оперативная информация.
— При докладе имен и должностей не упоминать, — сквозь сжатые зубы процедил шеф госбезопасности, пристально глядя на порученца-полковника.
Тот запнулся на полуслове, дернулся всем туловищем, словно только что из уст офицера расстрельного отделения прозвучала команда «пли!» и, проглотив комок страха и разочарования в самом себе, с трудом произнес:
— Есть, имен и должностей не упоминать! — Но взгляд, которым он обвел стены кабинета Корягина, вопиюще вопрошал: «Как?! Да неужели и здесь тоже прослушивают?! Кто же на такое отважился бы?!»
— Хорошо держишься, — словно сквозь сон, донеслись до него угрожающе-вещие, подколодные слова шефа. — Не каждому удается. Но, как водится: под протокол — и в расход!
15
Покончив с записями и с оперативной сводкой, шеф госбезопасности еще какое-то время не решался притрагиваться к черной папке, к этому «державному воронку», как он ее называл. Было что-то магическое в ее облике, в черноте ее обложки и кровавом бархате внутренней обшивки.
Изменялась политическая ситуация в стране, изменялись названия службы безопасности, сменяли друг друга, кто уходя на заслуженный отдых, а кто — навсегда исчезая в камерах следственных изоляторов, ее шефы; менялись здания и кабинеты… Но черная бериевская папка, этот «державный воронок», словно посох дьявола, оставалась все той же. И ни один из шефов госбезопасности, уходя со своего поста, не решался то ли унести ее, хотя бы совершенно пустую, с собой, то ли уничтожить; точно так же, как ни один из новоназначенных, принимая дела у своего предшественника, не решался отречься от нее, как от черной метки, от сатанинского наследия…
Кстати, хотя папка именовалась «бериевской», на самом деле основал ее еще приснопамятный Ежов. И когда этого «вдохновителя ежовщины» арестовывали, то — по преданию — в «державном воронке» уже хранилось досье на… Берию и даже на самого Кобу. Когда же арестовывали Берию, обнаружили досье и на предшественников его, и на всех возможных претендентов на этот пост; а также все то же, только значительно разбухшее, досье на самого «вождя всех времен и народов».
Но особой гордостью Корягина стало им же, на досуге, составленное досье на ведущих конструкторов и ученых страны. Из его материалов неотвратимо вытекало, что не кто иной, как талантливейший авиаконструктор Андрей Туполев являлся «организатором и одним из руководителей «Русско-фашистской партии», за что и получил свои пятнадцать лет лагерей. Кстати, по совместительству он еще и подрабатывал в качестве французского шпиона, но это уже так, мелочовка. Главное, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, где же на самом деле зарождался в тридцатые годы истинный фашизм и кто его основатель!
Другое дело — пионер ракетно-космической техники Валентин Глушко. Этот был пропущен через Лубянку и Бутырку всего лишь как «злостный вредитель и враг народа». Зато величайший организатор производства советской космической техники Сергей Королев, крестный отец Гагарина, под жесточайшими пытками сознавался, что мудро руководил им же созданной троцкистской организацией, планировавшей свержение сталинского режима. Причем Королева энкавэдисты пытали с такой ненавистью, что до суда он дошел с сильнейшим сострясением мозга, сломанным носом и прочими следами жесточайших побоев.
Побывал в качестве «лагерной пыли» и всемирно известный космический биофизик Александр Чижевский. Но этому поделом. В своем учении он докатился до того, что стал адептом «вреднейшего буржуазного учения о влиянии космической энергии на жувую природу». Это ж надо было додуматься до такой «вредительской антисоветчины»! Был еще создатель советской водородной бомбы академик Сахаров… Впрочем, стоит ли углубляться?
Если бы к этой папке, этому «державному воронку», имел доступ Хрущев, он тоже прочел бы немало интересного о самом себе. Как, впрочем, и Брежнев. Однако к материалам этой папки их так и не допустили. На какое-то время она попросту исчезла в секретном сейфе кагэбисткого тайника. Кстати, была у «державного воронка» и еще одна тайна.
Переходя из рук в руки и не предаваясь никаким архивам, папка неизменно — как напоминание о былом величии службы безопасности — хранила списки расстрелянных генералов, адмиралов, маршалов, а также членов ЦК, правительств, верховных советов… Некоторые из этих списков еще «помнили» руку Сталина, к другим прикреплялись оригиналы или копии документов, косвенно изобличавших того или иного Хозяина, дававшего добро на аресты, расстрелы или концлагеря для очередных высокопоставленных «отщепенцев».
Так что менялись «вожди всех времен и народов», менялись владельцы «державного воронка» — который передавали из рук в руки, безо всякой описи и в состоянии полной секретности, или же просто находили в тайной секции служебного сейфа своего предшественника; однако смысл и предназначение самой папки оставались неизменными. Она должна была служить хоть какой-то, пусть даже очень зыбкой, гарантией того, что новоназначенный шеф ГПУ — НКВД — МГБ — КГБ сможет противостоять наезду на него Хозяина. Ибо в ней неизменно хранился компромат не только на всю систему и прежде всего на компартию, но и на него самого.
Вот и сейчас, захлопывая объемный «державный воронок», шеф госбезопасности вдруг поймал себя на крамольной мысли: уже самой этой папки достаточно, чтобы очередной Нюрнбергский трибунал признал КПСС и службу госбезопасности как «передовой отряд партии» — преступными организациями, повинными в истреблении и лагерном репрессировании миллионов людей различных национальностей. А следовательно, запретил вместе с коммунистической идеологией, их породившей.
— …Избирать Президента России! — вслух проворчал обер-кагэбист, возвращаясь к делам сегодняшним. — Мало им Президента СССР, что ли? Мир перевернулся! Это ж надо было дожиться до такого. Хорошо хоть не царь-батюшка!
Он приподнял папку, и хотел было отшвырнуть ее в сторону, но в последнее мгновение какая-то сила остановила его: «Не зарывайся, не зарывайся!..» Обер-кагэбист всегда испытывал почти мистический страх перед этим черным расстрельно-кладбищенским исчадием мести, заговоров и доносов; откровенных убийств и слегка припудренных судебными процедурами политических репрессий. Папка имела свою, Сатаной освященную, душу; над ней витал черный дух предначертанности и обреченности, и всяк обладающий ею становился не только обладателем власти князя тьмы, но и носителем его каиновой печати.
…А ведь прошло всего лишь чуть больше месяца, как он появился, этот Президент России. Во многих селах сибирских еще, наверное, и не подозревают о его существовании. Но, похоже, мало кто в Кремле по-настоящему понял, какая угроза исходит сейчас от этого, вроде бы республиканского масштаба, однако же ни с каким другим республиканским по влиянию своему не сопоставимого, лидера.
В том-то и беда, что националы вдруг открыли для себя: общаться с российским центром и с лидерами других союзных республик можно напрямую, не обращая внимания на окрики из Кремля. Именно это оказалось погибельным для властной советской пирамиды. Еще недавно союзные республики пребывали в роли просителей-нахлебников союзного центра, из которого, от щедрот своих, им что-то там, по каким-то лимитам, выделяли. Сегодня же сам Кремль чувствует себя просителем у союзных республик, способных заключить новый союзный договор с реальным центром в Белом доме Российской Федерации, а не с призрачным центром в Кремле.
…Да, в этом просматривалась и его, шефа госбезопасности, личная ошибка. Сотворяя гэкачепе, он со своими единомышленниками слишком увлекся личностью генсек-президента, да комбинациями типа: «Русаков — и Кремлевский Лука», «Русаков — и вице-президент Ненашев». И совершенно упустил при этом из вида, что ни в операции «Кремлевский Лука», с выходом на нового лидера — Лукашова; ни в операции «Евнух» — по сохранению у власти, но предельно усеченной, Русакова, новииспеченный Президент России Елагин не привлечен, не задействован, и, что самое страшное, по-настоящему даже не учтен.
И если Кремлевского Луку, с его полупролетарской внешностью, шеф госбезопасности сравнивал для себя с уставшим от жизни, стремящимся примирить всех и вся школьным учителем, который неожиданно, на волне социалистического народовластия, оказался на гребне этой самой власти… То восхождение Елагина случайным назвать нельзя было. Победив на выборах своего соперника, являвшегося «человеком Президента СССР и Политбюро», он тут же превратился в лидера всесоюзной оппозиции.
Ситуация конечно же парадоксальная. Президент России буквально взрывает всю ту Великую Российскую империю, которую, за многие столетия, кровью, потом и лагерями ГУЛага удалось сколотить на огромных просторах от Чукотки и Сахалина — до Карпат и Дуная… — вот что не поддавалось осмыслению шефа госбезопасности!
Елагин и его демократическая свора стремятся свести на нет ту имперскую Россию, которую он, Корягин, и его люди пытаются теперь спасти, рискуя при этом постами, свободой и жизнями своими. И, похоже, никто из тех, кто копошится сейчас на руинах империи, так никогда и не оценит по достоинству их жертвенность.
16
Вспомнив о распечатке записи разговоров Елагина, шеф госбезопасности машинально потянулся к «державному воронку». Бегло просмотрев имеющиеся там бумаги, он остановился на странице, увенчанной записью: «29 июля 1991 года. Ново-Огарево. Встреча президентов СССР, России и Казахстана».
Да, это была встреча трех президентов накануне отъезда Русакова в Крым. Три президента договорились тогда, что после возвращения генсек-президента из отпуска, здесь же, в Ново-Огареве, будут проведены переговоры руководителей суверенных государств, а главное, состоится подписание нового союзного договора. Даже дата определена была — 20 августа.
Пролистав несколько первых страниц, обер-кагэбист наткнулся на подчеркнутые жирным карандашом слова Елагина:
— Пойдемте на балкон, Владимир Андреевич. Мне кажется, нас подслушивают.
— Да брось ты! — легкомысленно успокоил его генсек-президент.
— Я это нутром чувствую. Все время такое впечатление, что кто-то стоит у меня за спиной.
— Ну, не может же этого быть! — сменил тон Русаков. — Неужели ты думаешь, что кто-то мог бы решиться на такой шаг — устанавливать здесь всевозможные «жучки»?
— Почему кто-то? Не составляет никакого труда определить, кто именно решился на это.
Отодвинув «державный воронок», Корягин достал из стола помеченную кассету, вставил во вмонтированный в боковом столике магнитофон и через несколько секунд оказался в одном из залов правительственной резиденции в Ново-Огарево.
— …Неужели ты думаешь, что он собирает досье на меня.
— По-моему, это давно всем известно, — парировал Елагин. — И мы с вами прекрасно знаем, с какой целью он это делает и при каких обстоятельствах собранные им сведения будут использованы.
«А ведь этот сукин сын явно имеет в виду меня… — поиграл желваками Корягин. — Причем говорит это, уже будучи уверенным, что их действительно подслушивают».
— Но здесь вроде бы все проверили, или, как говорят спецы, «прозвонили».
— Конечно же «прозвонили», как и повсюду, где вы бываете и где ведете переговоры. Вот только «прозванивают» те же люди, которые устанавливают подслушивающие устройства.
— Если это так… — послышался легкий азиатский акцент Кузгумбаева, — надо бы проверить. Разговор-то у нас конфиденциальный. Возможно, Борис Викторович прав: времена настали смутные.
— Отказываюсь в это верить, — уже совсем неуверенно обронил Русаков. — Хотя, кто знает…
Сверхчувствительная техника четко улавливала грузные, буквально проламывающие нежный паркет шаги Елагина, когда он, не ожидая окончательного согласия генсек-президента, двинулся к открытому балкону.
«Эти дилетанты даже представить себе не могли, что балкон «просвечивается» точно так же, как любой из двух залов и трех совещательных комнат резиденции!», — злорадно молвил про себя шеф госбезопасности.
— Для начала хочу услышать ясный ответ, — попытался взять инициативу в свои руки генсек-президент. — Вы, оба, — за новый союзный договор? Вы готовы поддержать ту редакцию нового договора, с которой только что ознакомились, или же опять начнутся какие-то там, извините, закулисные интриги?..
— Россия такой договор, несомненно, подпишет, — с явной хрипотцой, простуженно басил Елагин. — Тут, понимаешь ли, вопрос будущего России. Но есть союзные республики, в которых обрели голос не только националы, но и представители руководящей верхушки. И чтобы вести с ними успешные переговоры, вам прежде всего надо сменить некоторых людей из своего окружения.
— Ну, причем тут окружение? — в свойственной ему неторопливой манере возразил Русаков. — Вы же понимаете, что речь идет о принципах новой федерации, нового Союза; о тех полномочиях, которые уже сейчас можно безболезненно передать из союзного центра в республики. С некоторыми товарищами из руководства союзных республик эти вопросы мы уже обсуждали, и, должен вам сказать, что процесс пошел, это очевидно.
— Но следует учесть, что ситуация меняется. Все обещанные нами полномочия союзные республики и так уже взяли, — язвительно проворчал Президент России. — Причем без нашего позволения.
— …Согласен, взяли, но вступили при этом в противоречие с Конституцией СССР и союзным договором. Мы же предлагаем принять новый союзный договор и новую Конституцию, поставив весь это процесс на законные рельсы. Да, мы должны разделить полномочия, но при этом не следует резать по живому, не рвать те главные связи, которые позволят всем нам, содружеству суверенных республик, представать перед миром единым государством.
— Так оно и должно быть, — поддержал его Кузгумбаев. — Однако уверен, что согласятся с нашими доводами не все. Особенно яростно будут выступать против наших предложений прибалты.
— Переговорный процесс будет сложным — это понятно. И в каких-то, непринципиальных, вопросах центр может пойти на уступки той или иной республике, учитывая специфику ее развития и внутриполитическую ситуацию.
Как всегда, «прораб перестройки» говорил долго, неспешно и витиевато. Слушая его, Елагин нервно врубался ребрами ладоней в перила балкона, а Оралхан Кузгумбаев столь же нервно прохаживался позади них.
— …Да не нужны будут прибалтам никакие ваши уступки, Владимир Андреевич… — вдруг возразил Елагин. — Они просто не станут вести с вами переговоры до тех пор, пока во главе госбезопасности будет стоять Корягин, на совести которого вся эта провокационная возня в Вильнюсе. Ни одна из бывших союзных не захочет вернуться в Союз, в котором опять будет править КГБ, причем править всем, в том числе и союзным центром; и во главе которого все еще будет стоять одиозная фигура вечно рвущегося к власти Корягина.
Шеф госбезопасности проскрипел зубными протезами и потянулся к стоящей в специальной сигаретнице пачке, но в последнее мгновение отдернул руку и принялся теребить упаковку жевательной резинки. Он слушал. Он умел слушать очень внимательно. Но также умел никогда не забывать хотя бы раз услышанное.
— В общем и целом, я готов с вами согласиться. Но не могу же я взять и в одночасье сменить все президентское окружение! — неуверенно заупрямился Русаков. — Это же все ответственные товарищи. За ними стоят большие коллективы, и потом, они ведь ничем особым, незаконным не запятнали себя.
— Когда вы говорите о незапятнанности, то это касается и министра обороны? — Теперь уже с сарказмом поинтересовался Елагин. — В старом Союзе он еще кое-как мог восприниматься. Но только не в новом содружестве… Этот человек уже давно прослыл «ястребом» и консерватором, мыслящим временами «чешских событий» и ввода войск в Афганистан.
Шеф госбезопасности понимал положение Русакова. Он уезжает в Крым, в отпуск, а Президент России остается в Москве. И поскольку Москва — столица уже не столько Союза, которого, собственно, не существует, сколько России, то Елагин волен будет чувствовать себя в ней полновластным хозяином. Одна столица о двух президентах и двух государствах — случай, конечно, уникальный. К тому же — о двух соперничающих, не терпящих друг друга, президентах, уточнил он.
— А как после всей этой истории с рижским ОМОНом и прочими делами министром внутренних дел может оставаться Пугач? — вклинился в диалог президентов-россиян сын казахских степей. — И какой вице-президент из Ненашева? Ведь это же просто позор, что вторым человеком такой великой державы оказалось такое…
— Согласен, этот вопрос тоже давно назрел, — недовольно признал Русаков. — Но вы же понимаете, что я не могу решить его единолично. Нужно будет посоветоваться с членами Политбюро, с юристами; если понадобится, то посоветуемся и с руководством союзных республик. Я давно держу этот вопрос на контроле, но мы не можем выходить за рамки…
— …И конечно же надо немедленно расчистить руководство Гостелерадио, — беспардонно прервал его разглагольствование Кузгумбаев. — Причем начинать следует с председателя. Гостелерадио должно идейно цементировать нашу союзную державу, а не разрушать ее.
«Кузгумбаев — в роли спасителя русской державы! — беззвучно расхохотался шеф госбезопсности. — С чего вдруг такая ретивость у новоявленного потомка Чингис-хана?»
Корягин знал, что в Казахстане уже вовсю разворачивается националистическое движение, идет «очищение» государственных учреждений и высшего офицерского корпуса милиции от людей «некоренной» нации. Конечно, пока что все это делается деликатно, под различными предлогами, тем не менее во властных структурах республики уже все готово к тому, чтобы объявлять Великий Казахстан по-настоящему независимым государством.
— Пожалуй, вы правы, — выходил из состояния шока генсек-президент. — Председателя госбезопасности и министра внутренних дел мы уберем немедленно, еще до подписания новоогаревского договора.
Шеф госбезопасности приостановил воссоздание разговора, прокрутил пленку немного назад и вновь прослушал этот фрагмент.
«А ведь этот слизняк, — зло помянул он Русакова, — даже не пытается защищать нас, отстаивать. Он попросту сдает меня на растерзание этим нацменам…»
17
Сидя в своей крымской резиденции, Русаков вряд ли догадывается, что весь их кулуарно-балконный сговор с Елагиным записан и прослушан, размышлял шеф госбезопасности. А потому даже предположить не может, что именно это, «председателя госбезопасности и министра внутренних дел мы уберем», стало самым яростным толчком, заставившим его, шефа КГБ, пойти против генсек-президента, против Хозяина; что именно это его предательство заставило главу «тайной полиции» ретиво примкнуть ко всей той разношерстной публике, которая уже давно отреклась от «прораба перестройки», как от «предателя дела Ленина, отступника и ренегата»… — уж чего-чего, а ярлыков этот народец нахватался, как шелудивая собака — блох.
В тот день, когда в принципе было достигнуто согласие о создании гэкачепе, шеф госбезопасности по-дружески попросил Пугача на несколько минут заехать к нему — «появилась интересующая вас информация», — чтобы прокрутить фрагмент разговора президентского триумвирата, касающийся кадровых перестановок. И был немало удивлен, обнаружив, что на министра внутренних дел это не произвело — по крайней мере по внешним признакам — абсолютно никакого впечатления. Впрочем, это не было проявлением мужества; милицейский министр вообще вел себя непозволительно вяло и почти обреченно.
— Вы знали об этом? — насторожился шеф госбезопасности, кивая в сторону магнитофона.
— Нет, — покачал головой Пугач. — То есть не знал именно об этом заявлении. Но, в общем-то… Чего от него, от этого зас… еще можно было ожидать?
— Значит, нужно принимать решение.
— То есть? — все так же вяло и обреченно поинтересовался милицейский генерал. — Относительно чего… решение?
— Относительно власти, — как можно увереннее молвил Корягин.
— Насколько мне помнится, решения такого уровня обычно принимают не министры, а высшее политическое руководство страны: генсеки, спикеры, президенты, премьеры.
— Постановка вопроса, в общем-то… правильная, — многозначительно, с подтекстом, согласился Корягин. — Но лишь в том случае, когда высшее руководство страны все еще способно принимать реальные решения… в интересах страны. — Произнеся это, обер-кагэбист вдруг совершенно неожиданно прервал разговор и поднялся из-за стола. — Впрочем, это разговор особый, трудный, поэтому не стану больше отнимать у вас время. Хорошо держитесь, Константин Петрович. Не каждому удается.
«Пугалу» хорошо была известна эта поговорка обер-кагэбиста страны, и его резануло, что тот ведет себя с ним, как с подчиненным или допрашиваемым, однако, независимо от того, что творилось в дряхлой душе этого старого служаки, вслух он произнес только то, что мог произнести человек системы:
— И все же руководству, Петр Васильевич, виднее. И нам не дано знать его замыслы.
— Замыслы нам как раз известны, — по-садистски улыбнулся Корягин. И тут же высказал твердое пожелание оставить этот их разговор сугубо между ними.
Вернувшись из воспоминаний, обер-кагэбист вновь включил магнитофон. Наиболее интересные эпизоды Корягин любил прослушивать и прослушивать, открывая для себя, что всякий раз «прочитывает» услышанное по-новому — со вновь открывающимися нюансами, акцентами и подтекстами.
…Ту часть разговора, в которой Елагин убеждал Русакова отказаться от поста генсека, чтобы сосредоточиться исключительно на президентских полномочиях и не пребывать под прессом партийной идеологии, Корягин прослушивал со значительно меньшим интересом. Но и здесь был момент, который его заинтересовал уже как человека немного смыслящего в психологии.
Русаков не мог не понимать, что Елагин умышленно толкает его на этот шаг, зная, что, потеряв пост партийного вождя, Президент сразу же потеряет поддержку Политбюро и ЦК, то есть поддержку партии. Мало того, цэкашники обязательно постараются привести к власти кого-то из старой партгвардии, причем из тех, кто саму идею перестройки, на волне которой Русакова занесло в кабинет главы государства, будет воспринимать, как отступление от линии партии. И этот, новый, лидер партии сам будет идти на совмещение своей должности с постом Президента, чтобы, таким образом, вернуть партии реальную власть в государстве…
«Партии — реальную власть в государстве!» — вот девиз, под которым вся эта неистребимая партноменклатура мгновенно ополчится на «прораба перестройки» и его клан. Русаков не мог не понимать этого, тем не менее угоднически сдал Елагину и эту позицию. Нет, отречься от трона генсека, который столько лет вскармливал советских диктаторов, Русаков пока что не решился. Но и не возразил. Наоборот, заискивающе попросил у Елагина и Кузгумбаева совета… «Он, видите ли, решил нижайше посоветоваться!»
— Так, может… Как вы смотрите, если мне, оставив пост генсека, пойти на прямые всенародные выборы? Чтобы получить мандат Президента СССР не от Верховного Совета, как раньше, а непосредственно от всего советского народа, от избирателей всех республик? Вы же понимаете, что это будет аргумент, который не сможет поставить под сомнение ни один республиканский руководитель.
Но этим своим предположением он лишь насторожил обоих республиканских лидеров. Особенно Елагина.
— Не время затевать сейчас подобные выборы, — резко парировал он. — Прибалты на них попросту не пойдут. Некоторые кавказские республики — тоже. А разве не понятно, как отнесутся к этому в Украине, особенно в западных ее областях?
— Борис прав, — проворчал Кузгумбаев.
— Но здесь же мы получим прямое волеизъявление, — начал было закручивать свою полемическую шарманку Русаков, пытаясь, по своему обыкновению, втянуть обоих «республиканцев» в привычную для себя словесную трясину.
— И все же Борис прав, — бесцеремонно перебил его Кузгумбаев. — Затевая выборы, мы лишь потеряем время и, возможно, даже те позиции, которые все еще удерживаем. Нужно подписывать союзный договор и как можно скорее налаживать работу союзного правительства. Причем найти очень сильную фигуру на пост премьера.
— Вот-вот, премьера нужно менять сразу же после подписания, — пробасил Елагин.
— В этом я с вами полностью согласен, — признал Русаков. — Но времени мало. Кого вы видите на этом стратегически важном посту? Только так, откровенно.
Корягин зрительно представил себе, как в затянувшемся молчании Елагин и Кузгумбаев вопросительно переглядываются. Каждый из них понимал: наступает один из тех переговорных моментов, когда на поле сражения дипломатии можно выиграть значительно больше и убедительнее, чем на любом из полей битв.
— Ну, кандидатуры есть… — нерешительно произнес Кузгумбаев. — Мы ведь вступаем в совершенно иную формацию, в иную экономику: частный капитал, рынок, фермеры… Нынешний премьер Пиунов просто не способен вписаться в такие структуры. Тем более что он слишком часто появляется на экране телевизоров и в народе на него откровенная аллергия.
— А ты… Борис Викторович, — обратился Русаков к Президенту России, — кого видишь в этой должности?
— Да кого мы решим, того и «увидим», — по-простецки ответствовал Елагин. — Почему бы не назначить на этот пост, например, Оралхана Изгумбековича? Экономист, политик, опыт руководства огромным хозяйством огромной республики.
— Тебя, Оралхан Изгумбекович? — не сумел скрыть своего оскорбительного для Кузгумбаева удивления Русаков. Однако ответа не последовало. То есть он последовал, но после солидной заминки, которая понадобилась лидеру Казахстана, чтобы осмыслить услышанное.
Судя по всему, понял главный кагэбист страны, Елагин предложил кандидатуру Кузгумбаева, не согласовав ее с ним самим, и, таким образом, застал Отца Казахов врасплох. В то же время решиться на такую должность Кузгумбаеву было бы непросто. Среди руководитей среднеазиатских респубик — Казастана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Киргизстана — как раз развернулась упорная борьба за главенство в регионе. Традиционно лидерство там сохранял партийный вожак Узбекистана, причем лидерство это подкреплялось как экономическим потенциалом, так и особым отношением к нему руководителей Союза.
Но в последнее время это шаткое главенство все упорнее стал оспаривать Кузгумбаев, который не только имел за спиной огромную, по территории, рспублику, но и все ярче проявлял себя как личность, как руководитель новой, перестроечной, формации. А тут еще в «гонку за лидером» все активнее стал подключаться «Туркмен-баши», республика которого на глазах богатела от нефти и газа, угрожая превратиться в среднеазиатские «эмираты». К тому же он пользовался известным авторитетом у мусульманских правителей Ближнего Востока.
Все эти факторы, с одной стороны, подталкивали Кузгумбаева ко «въезду в Кремль», поскольку он стал бы первым премьером-азиатом за всю историю Союза, а с другой — порождали страх перед необходимостью оставить на длительное время республику, где у него уже укоренялась мощная оппозиция, в том числе и настроенная промусульмански. Тем более что начали проявляться некие сепаратисткие настроения у «русскоязычных», особенно в казачьих районах, расположенных по реке Урал.
— …Кузгумбаеву легче будет решать вопросы, находя общий язык с руководителем любой республики, — продолжал тем временем рекламировать кандидатуру своего протеже Елагин. — Это вам не аппаратчик-выдвиженец. Да и среднеазиатские республики, а также Азербайджан, сразу же доверительнее посмотрят на Центр.
— В этом что-то есть, — искренне оживился генсек-президент, понимая, что, приняв предложение Елагина, он обретает еще одного надежного сторонника в лице лидера Казахстана и в самом деле очень влиятельного в Средней Азии и на Кавказе политика. — Ты-то, Оралхан Изгумбекович, к этой идее как относишься? Принципиальных возражений не последует?
— Если мы с вами так решим… Если будет принято такое политическое решение, — не стал жеманиться Кузгумбаев.
— Тогда можешь считать, что оно уже принято, — вкрадчиво молвил Русаков, и шеф госбезопасности вяло ухмыльнулся: «А ведь настоящее гэкачепе было создано еще там, в Ново-Огареве! Во время сговора трех президентов, в ходе которого они поделили свои роли и посты, закулисно начав приводить к власти преданных им людей».
Подумав об этом, Корягин вдруг поймал себя на том, что это его обвинение в действительности звучит, как попытка оправдать свои собственные антиконституционные действия и потому очень уж смахивают на «последнее слово» подсудимого.
— А ведь тебя, парень, давно надо было бы сдать на растерзание «возмущенных народных масс», — мстительно обронил шеф госбезопасности, имея в виду Русакова, и выключая магнитофон. Еще через несколько мгновений нажал кнопку вызова своего порученца-полковника:
— Принеси-ка мне ситуационный анализ Первого главного управления.
— Есть принести ситанализ Первого управления, — тотчас же откликнулся порученец.
Первое управление, штаб-квартира которого находилась в поселке Ясенево под Москвой, занималось внешней разведкой. Подыгрывая армейским служакам, Русаков совершенно недавно намекнул, что внешнюю разведку надо бы вывести из-под крыла госбзопасности и, то ли присоединить к Главному разведуправлению Генштаба, то ли превратить в самостоятельную «контору». У Корягина это вызвало возмущение, поскольку он понимал: потеряв внешнюю разведку, его собственная «контора» превратится в глазах страны в некое жандармско-политическое управление, в новоявленное НКВД, в еще одно «детище Берии».
Особого толка от этой внешней разведки, в ее современном виде и в современной обстановке вроде бы и не было. Тем не менее там сгруппировалось немало истинных профессионалов, аристократов разведки, и само наличие их придавало госбезопасности определенный лоск, позволяло причислять ее к мировой разведывательной элите; оправдывать ее существование не только неблагодарной борьбой с внутренними национал-диссидентами, но и необходимостью широкой борьбы с «антикоммунистическим сговором Запада».
Сейчас для шефа госбезопасности важно было получить ситуационный анализ этого управления, чтобы знать, видеть реакцию на события в Союзе — и в западных странах, и в странах соцлагеря.
18
— Извините, товарищ Председатель Верховного Совета, но тут такое дело…
Ярчук оторвал взгляд от лежащих на столе бумаг и увидел перед собой бледное лицо помощника.
Первые слова тот обычно произносил, стоя почти у двери — старая партноменклатурная привычка. «Доложиться», выслушать и тут же скрыться за дверью. А то и скрыться, не докладываясь, поняв, что шеф не в духе. Однако на сей раз помощник подошел совсем близко, почти к приставному столу. И голос его показался Ярчуку каким-то странным, словно бы осипшим.
— Что там у вас?
— Да, понимаете… в приемной полно военных.
— Что значит «полно военных»? — вдруг по-армейски резко спросил Предверхсовета. — Выражайтесь яснее. Откуда они взялись?
— Если яснее. К вам на прием пришло сразу несколько военных, в основном генералов.
— Слава богу, что хоть не прапорщиков.
— Но встреча с ними запланирована не была, — помахал помощник перед своим лицом записной книжечкой, как самым веским аргументом.
— Так выгоните их. — Это конечно же было из мрачного юмора шефа. Что значит, выгнать генералов?! Если уж они приходят, то приходят. На то они и генералы. Но слова молвлены. И воспринимать их следует, как проверку на надежность и тест на сообразительность.
— С удовольствием выгнал бы, да только они не уйдут. К тому же настроены очень решительно.
«Если бы “очень решительно”, не ждали бы в приемной, пока их позовут, — подытожил для себя Ярчук. — Ворвались бы раньше тебя».
— Кто именно из генералов? — отчеканивал он каждое слово, уже сейчас настраиваясь на то, что разговаривать все-таки придется с генералами.
— Представился только один — главком Сухопутных войск генерал армии Банников. Он специально прибыл из Москвы, чтобы проинформировать вас о последних событиях в столице…
— А почему он решил, что я нуждаюсь в его информации?
— Я могу сказать генералу, что вы не желаете принимать его? — едва заметно ухмыльнулся помощник, прекрасно понимая, что на такой шаг Ярчук не решится.