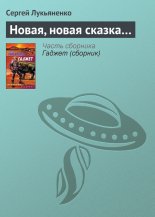Колодезь Логинов Святослав
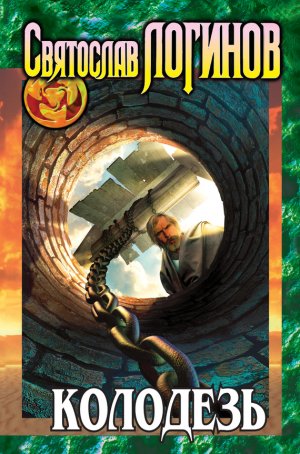
Авторское преуведомление
Перед вами странная книга – фантастический роман, в котором автор старался по мере сил соблюсти историческую правду, причём ради самой правды, не обращая внимания на конъюнктуру момента. А ведь давно известно, что история – это политика, опрокинутая в прошлое, а правда колет глаза. В результате большое количество людей может быть обижено и даже оскорблено моей книгой. У них я заранее прошу прощения. Правда, господа, ничего, кроме правды!
Семнадцатый век был суровым и жестоким временем, об интернационализме и дружбе народов в те времена почти никто не думал, и люди не стеснялись в выражениях, хуля своих соседей. Большинство ругательных словечек взято мною из подлинных документов того времени, лишь кое-что смягчено. К тому же следует помнить, что многие слова, ныне считающиеся оскорбительными, прежде такими не были. Матерные слова, которые я употребляю чрезвычайно редко, несли функцию обычных слов. Их можно в изобилии встретить в сочинениях протопопа Аввакума и патриарха Никона, в письмах Алексея Тишайшего и много ещё где. А вот в письме запорожцев султану, написанному специально, чтобы оскорбить адресата, ни единого матерного слова нет.
То же самое можно сказать и о слове «жид». В ту пору оно обозначало всего лишь национальную принадлежность и не имело ни малейшего признака недоброжелательства. Автор книги – русский, хотя, как почти у всех русских, в моих жилах есть малая толика еврейской крови. Как ни крути, но все люди в самом прямом смысле слова – братья, и, оскорбляя чужих предков, ты обязательно плюнешь в себя самого. Автор не хотел никого оскорбить, и если обидел кого ненароком, то ещё раз просит за это прощения.
Теперь немного о нравах. «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный» всегда оборачивался межнациональной резнёй. Движение Богдана Хмельницкого сопровождалось небывалыми еврейскими погромами, Разин целыми аулами вырезал татар и калмыков, те в свою очередь срывали гнев на безоружных русских мужиках. Что делать – такое было время.
Я понимаю, что берусь разрушать привычный образ сусальной Руси, но ведь очевидно, что наши предки были так же жестоки и вероломны, как и их соседи. Иначе они просто не выжили бы. Семейный быт отнюдь не отличался мягкостью, достаточно заглянуть в «Домострой», чтобы убедиться в этом. Ныне эта книга считается средоточием всего непригожего, а ведь в ту пору она унимала от самых мерзких проявлений тогдашней жизни. Естественная тяга человека к полигамии в христианской России принимала уродливые формы снохачества, судебные журналы XIX века переполнены подобными делами, в XVIII веке об этом уродстве гневно писал Ломоносов. Думаю, что и в XVII веке дело обстояло не лучше.
Недоумение может вызвать и написание в романе некоторых слов. В первую очередь это касается имени Христа. До 1654 года официальная русская церковь писала его: «Исус». Староверы пишут так до сих пор. «Умрём за единый аз!» – призывал Аввакум. В зависимости от чьего имени идёт рассказ, я употребляю оба написания. Герой романа покинул родину задолго до Никоновых новин. Неудивительно, что он читает «Верую» на староверческий лад. В ту пору это было единственно возможное чтение. Никакого иного подтекста здесь нет.
В русской грамматике в середине предложения с заглавной буквы следует писать только имена собственные. Положение изменилось в Петровскую эпоху, когда появилась масса переводов с немецкого языка, в котором все существительные пишутся с заглавной буквы. В книгах того времени можно найти такие «имена собственные», как: Испанцы, Немцы, Дикари и даже «поганые языческие Боги». С тех пор установилась дурная традиция в угоду политиканам некоторые слова писать с заглавной буквы: Государь Император, Генеральный Секретарь, Православная Церковь, Коммунистическая Партия и т. д. Автор решительный противник подобного лизоблюдства. Когда мы пишем существительное «бог» с заглавной буквы, то либо пишем по-немецки, либо подразумеваем, что это имя собственное. Для атеиста подобное отношение смешно, для верующего – греховно, ибо сказано: «Не помяни имя божье всуе». Сказанное особенно касается выражений типа: «а Бог его знает». Эта фраза полностью синонимична словам: «а Чёрт его знает» или «а Хрен его знает». Подобная бессмыслица с точки зрения христиан просто кощунственна, ибо подразумевает наряду со всемогущим и всеведущим Богом существование всемогущего и всеведущего Хрена (или кого иного на ту же букву). Автор – убеждённый атеист, но не богохульник, и потому все подобные слова пишет со строчной буквы. Исключением является слово «аллах». Русская ментальность и тогда, и сейчас подразумевала, что это ИМЯ мусульманского бога, вполне отличного от бога христиан. Подобное суждение, конечно, не верно, но против менталитета не попрёшь. Пусть будет имя собственное.
И, наконец, слово «украина». В русском языке семнадцатого века это обычное существительное. В Российском государстве было немало украин: украина Терская, украина Сибирская и т. д. Примерно в это же время казаки Малороссии, желая подчеркнуть принадлежность своего края к России, стали называть его просто «Украиной», то есть российской окраиной. Таковы факты. Если я обидел ими патриотов нынешней Украинской республики, то третий раз покорнейше прошу меня простить.
В любом случае главным в романе является итог, к которому вместе пришли автор и его герой.
Часть I
И укорял народ Моисея и говорил: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? что искушаете Господа?
Исход, гл. 17, стих 2
И возгласят обитатели огня к обитателям рая: пролейте на нас воду или то, чем наделил вас Аллах! Они скажут: Аллах запретил и то и другое для неверных.
Коран, сура 7: Преграды, аят 48
Пророк Магомет словом своим освободил находящихся в дальней дороге от особой пятничной молитвы. И всё же, едва наступил урочный час, Муса знаком остановил караван и, расстелив коврик, опустился на него, обратившись лицом в cторону святого города Мякки. Милостив Аллах и воистину даёт тем, кто просит. Семён отошел в сторону, чтобы лежащие на песке верблюды прикрывали его от творящих молитву бусурман. Прости господи, что за народ негодящий!.. Сейчас бы идти и идти, пока жара спала, а тьмы ещё нет, а они намаз творят. Только выручит ли молитвенное стояние посреди страшной пустыни Руб-эль-Хали? Тут вернее самому не плошать. Боже правый, боже крепкий, боже сильный, помилуй мя.
Пятый день малый обоз ыспаганского купца Мусы пробирается сыпучими песками. Хоженые тропы лежат далеко на юге, но там сейчас пути нет: оманский владыка повздорил с турецким султаном, самого себя султаном нарёк и загородил караванные ходы, мня задушить всю индийскую торговлю. Теперь мимо нагорья, где и воду в пересохших вади можно сыскать, где растёт верблюжье лакомство: зелёная хада, – не пройдёшь. Хороши оманские финики, да и колья у султана остры. Только попадись торговый человек на юг от Маската – как раз угадаешь в зиндан, а там и на кол – услаждать последним стоном нежные ушки султанских жён.
Султану турецкому да султану делийскому от тех прегордых оманских мнений ни жарко, ни холодно – индийская торговлишка уж сто лет как морем идёт и всё больше португальским да аглицким торговцам попадает, а вот купцам хорасанским да ыспаганским, что по всему мусульманскому миру караваны водят, вящая погибель наступила. Не пройти в Йемен, не продать белых ослов и дорогих беговых верблюдов, не вынести на базар тюки с цветными иракскими муслинами и прозрачной кисеёй, не переслать тяжёлого груза красной меди и оловянных слитков, не протащить, спрятав на груди, мешочка с розовым бахрейнским жемчугом. И назад не провезти ни ладана, ни благоуханной мирры, ни ароматного кофе, выращенного на горных террасах, ни лучшего в мире арабского золота, ни тиснёных кож, ни кривых садрий с роговыми рукоятями и палевым узором закалки, что струится вдоль лезвия. А не станет торговли – не будет и барыша. Как с этим торговцу смириться?
И вот Муса, ыспаганский гость, очертя голову и положившись на милость Аллаха, рванулся ходом через адскую пустыню, страховидную преисподнюю, где и саламандра огнём сгорит, и ехидна иссохнет.
Сначала шли обычным путём: отправились из Басры и через три недели были в Даммаме, арабском посаде, что лежит против Бахрейна. Там для идущих сухим путём купцов ярмарка бывает. На торгах по дешёвке прикупили всякого товару – конкурентов нет, и цены стоят низкие. А куда с этим товаром деваться? Так и соблазнил шайтан Мусу идти прямиком.
Первые три дня шли солончаками. Песок от соли слипся, будто морозом схвачен, поверху – ломкая корочка. Пыль на губах горькая, и что в рот ни возьмёшь – всё горьким кажется. Потом почва стала хрящевата, неровными голышами усыпана: идти по ней – великая тягота. Зато воду нашли – колодец Каламат-абу-Шафра. Там верблюдов поили и снова в путь тронулись.
А теперь идут, и конца-краю не видать песчаному окияну. Волной песок подымается, с волны под гору идёт. Полдня на этот вал сыпучий ползёшь и веришь, что перелезешь гребень, а за ним глубокий провал, ископыть великая, след проехавшего исламского богатыря. Где ударил копытом могучий конь Тулпар, там разбросан мёртвый песок на два и на три ашля в глубину, и на дне бьют медовыми струями ключи, дрожат пальмы перистым листом: фард, халас, ханаизи – слаще фиников нет.
Но одолеешь один бархан, а за ним второй, точнёхонько как первый: жёлтый песок выглажен ветром, и рябь по песку пущена, прям как в пруду. Потом красный песок пойдёт – ровный, улежалый. На нём верблюжья колючка прозябает: торчат из песка хрусткие корявины, живые ли, мёртвые – не понять. На галечниковых регах разбросаны колючие подушки каперсов и манны. Зимой, когда прохладный шемаль порой приносит дожди, сухие ветки наливаются соком, взбухают зелёными почками. Арабы каперсы едят, а весной присохшей манной пробавляются. И Семён вместе с ними ел. Поначалу странно казалось, а потом привык. Даже к саранче, кузнечику сушёному, и то привык. Человек – тварь живучая, ко всему привыкает.
Другого произрастания в пустыне нет, а звери водятся, но тоже прескверные, бесовы твари: скорпионы да фаланги ядовитые. Редко когда проскачет прыгучая песчаная мышь – тушканчик, да метнётся за ним фенёк – серая лисичка с большими ушами. А всё красным песком идти веселее, в пустыне и скорпиону рад.
Зато уж когда белый песок начнётся, чистый, словно скалкой раскатанный, тут уж верблюда за повод хватай и поворачивай обратно, иначе ждёт неминучая гибель. Зыбь там, топкое место, бахр-эс-сади. Утянет путника в сухой песок, как в трясину, и до самой архангеловой трубы никто его уже не узрит.
Семён сидел, привалясь к верблюжьему боку, смурно глядел на урезанный барханом окоём. От верблюда тянуло густым смрадом, но Семён не отодвигался – принюхался давно, за столько-то лет.
Молельщики бормотали неразборчиво, слитным гудением, словно пчелиный рой. Семён, не слушая, безотчётно повторял в уме их молитвы. Любят мусульмане молиться в голос, напоказ: тут и не хочешь, а все их моления вызубришь. Ох, грехи наши тяжкие! Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, боже, твоею благодатию.
Солнце перед закатом мутное, изгоревшее за день, уже не палит, как в полдень, и жар идёт только от нагретого песка. Дышать тяжко, будто перед грозой. Только дома грозою земля умывается, воздух свежеет, а здесь от Аллаха такой милости не дождёшься, зря Муса глотку дерёт.
Рассеянный взгляд отметил вдали какое-то шевеление. Семён сначала не вник, продолжал думать о своём, но потом встрепенулся, поднял голову, всматриваясь, испуганно перекрестился. Никак накаркал: посылает Аллах дождичка – с громом и молниею, да только без водицы. Край неба почернел, стеной задрался и замер как бы в неподвижном ожидании. Но тому, кто разбирается, ясно – спокойствия тут нет, а одно помрачение чувств. Ещё минута, и налетит песчаная метель – самум. Господи, помилуй рабов твоих! Пеняйте, правоверные, Аллаху и пророку его Магомету!
Семён вскочил, заставил подняться верблюда.
Куда бежать? Где прятаться? Раз в жизни видел Семён гнев восточного бога, чудом выжил в прошлый раз и теперь не знал, как поступать перед лицом жгучей смерти.
Многолетняя привычка повелевала молчать, покуда хозяин выстаивает молитву, но всё же Семён не выдержал и закричал:
– Буря!
Муса, молитвенно сложивший руки у груди, и ухом не повёл в ответ на крик раба, но мавла Ибрагим, чернокожий абиссинец, обернулся и вскочил, нарушив пятничное благолепие.
– О, Аллах!
Семён уже бежал вверх по бархану, стремясь уйти как можно выше. Там сильнее ветер и будет труднее дышать, но тех, кто останется в низине, засыплет песком, когда двинется по ветру недвижная покуда волна. Верблюд колыхал следом опавшими от недокорма боками. Он тоже почуял беду, и его не надо было торопить и понукать.
Тьма на горизонте больше не казалась стеной, она клубилась и не приближалась, а словно взбухала, заглатывая небо и землю. Вокруг было тихо, хасмин – палящий ветер – улёгся, паутинка не колыхнётся, но воздух как бы приготовился взвыть и звенел от томительного ожидания.
Семён обхватил верблюда за шею, уложил на песок, сам повалился рядом, ткнувшись в вонючий верблюжий бок и поджав ноги, чтобы можно было, коли милует господь, со всей силой выбираться из песчаной могилы. Он ещё успел запахнуть лицо краем куфии, а потом сверху обрушился первый удар.
Семён ничего не видел и, сберегая глаза, не пытался подсмотреть. Он лишь услышал нарастающий рёв, словно все джинны, заточённые царём Сулейманом, разом вырвались на волю и бушуют, стараясь сокрушить миропорядок. В первое мгновение Семёна стегнуло ветром, потом он почувствовал, как обжимает тело копящийся вокруг преграды песок.
Верблюд судорожно дёргался, несколько раз порывался встать, но ветер валил его обратно. Семён бился в такт рывкам животины, понимая, что только в заветреннем месте, под прикрытием верблюжьей туши можно умудриться чем-то дышать. А то ни куфия не спасёт, ни густая борода: набьётся пыль в горло, нутро иссушит так, что и червь могильный в тебе пропитания не найдёт – останешься лежать в песке нетленными мощами.
Семён не помнил себя, не понимал уже, что с ним творится, а вскоре и рыпаться перестал, придушенный ожигающим небытием.
Сознание не возвращалось, некуда ему было возвращаться, просто затосковала истекающая душа, и Семён на минуту почувствовал, что лежит плотно зажатый и нет ни воздуха, ни иного поддержания жизни. Тут бы самое время смириться, отпустить душу к отцу небесному, благо что мера страданий перейдена, и нет для него ни боли, ни жары. Мирно отойти можно. Но Семён напрягся зачем-то, заколотился, стараясь разбросать песок. Песок не пускал, однако с одного краю оказалось податливое брюхо верблюда. Туда и устремил Семён свои усилия, словно в самое чрево хотел вползти. Верблюд с хриплым стоном поднялся, и следом родился из песчаной тьмы Семён.
Вокруг следа не было пыльной вьюги. И вообще – никакого следа. Вылизало ураганом пустыню, загладило, заровняло. Стронулись барханы, перемешалась тьма тьмущая песка, но вот кабы знать, как его, песок, различить? – а то какой была пустыня, такой и осталась. Только каравана нет: ни людей, ни вьючных животных – никого. Как не жил на свете торговый человек Муса Каюм-оглы из далекого Ыспагана.
– А-в-ва-а!.. – заунывно потянул сзади тонкий голос.
Семён оглянулся. Поодаль сидел на корточках мавла Ибрагим, качался, закрыв глаза, тянул тоскливую ноту – то ли плакал всухую, то ли молился по-своему, по-эфиопски, отвергнутому когда-то Христу.
– Брось, успеешь ещё оплакать, – произнёс Семён, с трудом двигая растрескавшимися губами. – Сейчас надо живых искать и вьюки. Бурдюки должны быть с водой.
– Какая вода? Какие бурдюки?.. Лучше сразу умереть. Ав-ва-а!..
Серый холмик чуть в стороне зашевелился, рассыпаясь ползучими струйками, и следом за поднявшимся верблюдом выполз уцелевший в пляске джиннов купец. Громко всхрапнул, очищая глотку, двумя пальцами распушил крашенную хной бороду, так что набившийся песок осыпал его широкую грудь, и громко, словно не лежал только что заживо погребённый, провозгласил:
– Хвала Аллаху милосердному!
Затем, не меняя выражения лица, закричал:
– Чего расселись, неверные? Товары ищите, верблюдов! Живо, шайтан вас раздери!
Мавла послушно прекратил плакать, и все трое принялись тропить по склону следы, призывая откликнуться живых и отыскивая умерших.
* * *
Всего уцелело восемь человек и двенадцать верблюдов – меньше трети обоза. Нашлось кое-что из поклажи, но ни одного бурдюка с водой отыскать не удалось. А это значит, те, кто выжил, – тоже мертвы, но сначала намучаются как следует на радость злобному Иблису и слугам его.
Словно в насмешку отыскались кажевасы с пустыми бурдюками. В каждый Муса самолично заглянул: не осталось ли в складках немного воды. Сухи были бурдюки и безнадёжен завтрашний день. А послезавтрашнего дня для них и вовсе не будет.
Можно, конечно, заколоть верблюда, достать пузырь… Но животина два дня не поена и пыльную бурю под песком отлежала; не найдётся в пузыре воды, одна горькая слизь.
– Помолимся Аллаху, подателю благ, – предложил Муса, и правоверные послушно вернулись к прерванному пятничному молению. Поистине, кого Аллах собьёт с пути, для того не найдёшь дороги.
Семён не стал толочься поблизости, а пошёл в сторону, внимательно глядя, не вспучится ли где песок над лежащими телами. Живых найти надежды больше нет, а вот отыскать бы бурдюки с водой, хотя бы пару… Глядишь, и пособит господь доползти к Аль-Джухейшу.
Вскоре плавный изгиб бархана скрыл его от уцелевших, и Семён остался наедине с Аллахом. Небо, обычно лиловеющее перед закатом, сегодня потчевало взор всеми красками торговых шёлковых рядов, от густой вайды до пурпура. Самум ушёл, но ещё много дней пыльный туман будет расцвечивать закаты, блазнить взгляд обманчивыми разливами мелкой воды.
Внизу, на самом дне шакки – узкого провала, разделяющего дюны, – Семён углядел какое-то пятно. Вряд ли это кто из их каравана, не успел бы домчать туда испуганный верблюд, скорее лежит на каменистом дне выщебленный валун, или обнажил ветер допотопную постройку: щерится в небо зубец каменной кладки, чудом уцелевший, словно одинокий зуб в стариковском рту. Не раз в своих скитаниях Семён встречал такие развалины, однажды даже монетку подобрал у стены. За тыщу лет она ничуть не заржавела и была как вчера чеканена. Медная денежка с надписью на неведомом, давно умершем языке и крестом на лицевой стороне. Значит, и тут христиане жили, уповая на господа, веруя, что даст им пищу ко благовремении, а получили только песка на могилы мерою доброю, утрясённою, нагнетённою и переполненною. А может быть, прав Ибрагимка, когда врёт, будто был здесь рай земной, а после согрешения Адамова в гневе выкорчевал господь сад, порушил строения, солью и песком засыпал, чтобы памяти не осталось от прежней лепоты. А потом отдал проклятые места на поругание язычникам. Боже, милостив буди мне, грешному.
Хотя до странного пятна оставалось саженей двести, Семён пошёл вниз. Ясно, что нет там ничего, а не посмотришь – покою не будет. Изноешься, думая о брошенных бурдюках.
Подойдя ближе, остановился, склонил покрытую голову.
Словно в насмешку пески Эль-Джафура отдёрнули перед ним завесу будущего, показав, что вскоре станется и с теми, кто уже схоронен под слоем пыли, и с теми, кто скоро ляжет туда.
Колючий песок ещё не стёр с костей высохшую плоть, и мертвец лежал перед Семёном во всей своей загробной красе, обняв чёрной сморщенной рукой провалившийся круп коня. Должно быть, знатен был умерший, велик при жизни своей, и конь его даже сейчас поражал тонкой стройностью бабок и горделивым изгибом шеи. А ныне сгрудились погибшие у ног Семёна, ничтожней стервятника и ползучего гада, и даже прахом рассыпаться не попускает им господь.
Семён наклонился, безо всякого страха заглянул в пустые глазницы. Чего пугаться-то? – скоро сам так же ляжешь. Только вместо парчовых отрепьев будут висеть на костях обрывки простого бурнуса.
А богат был покойник, ничего не скажешь… как же занесла его нелёгкая сюда, в смертный край? Может, как и Семён, с караваном забрёл, а может, закинула давняя, позабытая война. Всадник-то не пустой встретился, при оружии…
Семён осторожно потянул украшенную золотой насечкой рукоять, что торчала из-под локтя лежащей мумии. Секунду рукоять не поддавалась, словно мертвец не хотел отдавать меча, но затем клинок вынулся из ножен, радуя глаз мелким узором, подобно змее, сменившей кожу и спешащей за первой в новой жизни добычей.
Затаив дыхание, Семён поднёс клинок к глазам. Он не думал о том, где стоит и что недолго ему владеть этой саблей. Сейчас он любовался клинком. Металл был неказист, серовато-жёлт и, где-то за пределами зрения, испятнан крапинами и паутинными завитками, незаметными – серое на сером. Но для того, кто понимает, нет вещи драгоценней. Что там золотая насечка, что ножны, изукрашенные дорогими каменьями!.. Главное сокровище – невзрачная серая полоса, несущая смерть супротивнику. Такие сабли во всём подлунном мире наперечёт. Это не дамасская сталь – хитроумная подделка, что в такой цене у незнающих западных купцов, и даже не сорокоструйный персидский булат «кирк-нердебан», где серые нити тянутся вдоль клинка, словно расчёсанные гребнем. Персидской работы оружье Семён видывал и даже в руках держал. Спору нет – добрые клинки мастерит шахов оружейник Асадуллах, но эта получше будет. Ни в Кандагаре, ни в Ширазе такого делать не умеют: только в Кашмире варят серый булат, и случается, знаменитый мастер годы тратит на одну такую саблю. Зато и сноса ей нет. На пробу владелец рубит саблей железные гвозди, а потом роняет на лезвие женский волос, и, коснувшись незатупившегося острия, он сам, под тяжестью своей, распадается на части.
Знатнейшие из знатных мечтают об индийском булате, а достался он ыспаганскому невольнику, русскому мужику Семёну Косорукому. Хотя и мужику кой-что ведомо: недаром пять лет обучался военным премудростям в анатолийской школе аджами огланов, откуда султан набирает янычар для своего личного булука. С полувзгляда угадал Семён, что послал ему Аллах за день до мучительной смерти.
И хотя не с кем биться в пустых песках, а неверному рабу и простого ножика иметь не велено, не то что сабли, но, раз ухватив ловкую рукоять, Семён уже не мог расстаться с оружием. Сухая смерть – это как Аллах решит, а сабли он не отдаст.
Семён осторожно попытал клинок: верно ли так гибок, как говаривал однорукий учитель Исмагил ибн Рашид? Сабля послушно согнулась кругом, и в рукояти нашлось углубление, куда можно вставить остриё, обратив оружие в пояс. Семён отпустил руку, клинок с певучим звуком распрямился, готовый к бою.
С такой вещью в руках и умирать не надо. Жаль, и самой острой саблей не выбить воды из сухого песка.
Семён скинул бурнус, поверх рубахи и шальвар обогнул саблю, так что наведённый золотом крыж обратился в подобие диковинной пряжки, и намотал сверху полотняный пояс. Вот и скрылась сабля под бедным рубищем, как не было. А дорогие ножны, золото да яхонты пусть остаются где лежали. Кому они тут нужны, разве что демонам преисподним.
* * *
Муса всё ещё выстаивал на коленях перед непреклонным богом. Счастливы верующие, которые соблюдают свои молитвы. Это они наследуют рай, и в нём они пребудут вечно.
Верно, и Муса оставил земное, возжелав садов, где внизу текут реки. Так пусть радуется своей сделке, которую заключил с Аллахом. Ведь это – великий успех! – так сказал Магомет в песне о покаянии.
Семён вернулся незамеченным и опустился в длинной тени верблюда.
Завтра умирать, а у Семёна на душе спокойно, словно только что жизнь к добру повернула. И, только увидав хозяина, понял Семён, чему радуется. Сегодня отдал Аллах ыспаганина в Семёновы руки, и плевать, что всего на день можно укоротить зловонную жизнь Мусы. Но раз уж въявь подошла гибель, то прежде в её глаза насмотрится рыжебородый купчина. Теперь, когда бёдра отягчает булат, шестеро караванщиков не станут преградой меж Семёном и жирным кадыком Мусы-ыспаганца.
Семён приподнялся на локте, чтобы наполнить взор видом обречённого хозяина. Муса, окончивший беседу с богом, всё ещё стоял на коленях. Истовое лицо было тёмно, как у человека, обманутого в ожиданиях. Руки Муса держал ладонями вверх, и на дрожащей ладони Семён различил блеск серебра.
Что за диво? С каких пор правоверный мусульманин молит Аллаха с деньгами в руках? Или и впрямь вздумал Муса заключить сделку со всевышним?
Тяжело вздохнув, купец спрятал монеты, поднялся и сказал:
– Отдыхайте, правоверные. Завтра рано выйдем.
Что ж, завтра у Мусы ещё будет день. Грешно было бы убивать его сейчас, лишив завтрашних мук. Завтра вечером, не раньше, обнажит Семён свою саблю.
Семён склонил голову на песок. Войлок, который служил постелью, тоже пропал, ну да это не беда, здесь и ночами холодов не случается. Можно переспать и на песке: кто пробовал, тот знает, каков бокам мягкий песочек.
Мавла Ибрагим подсел рядом, испытующе заглянул в лицо:
– А ты, Шамон, молился?
– Молился, – недружелюбно ответил Семён.
Любопытный вольноотпущенник мешал сладким мыслям о близящейся расправе, к тому же Семён вообще недолюбливал мавлу. Ибрагимка рассказывал, будто прежде он тоже был христианской веры, но после того, как взяли его магометане, уверовал в Аллаха, и Муса отпустил его, даровав вольную. Мавле и впрямь жилось куда как легче, нежели Семёну, которого Муса угнетал хуже, чем хозяйка гнетёт солёные грузди. Но рассказам о христианстве Ибрагима Семён не доверял: какой же он христианин, когда чернее чёрта? Правда, в Йемене, в несторианской церкви, арапов куда как много, но то вера не настоящая, они и троицы святой не знают. И всё-таки пример мавлы вечным искусом стоял перед Семёном.
– Это хорошо, что молился, – неожиданно сказал Ибрагим. – Исса Христос был среди сынов Сулеймана ибн Дауда, христианской молитвы джинны пустыни боятся больше, чем Магометовой. Сам погляди: ты остался, я остался, а других почти и не осталось…
– Ты никак снова веру менять решил? – спросил Семён. – А не помнишь, куда Аллах обещал повести тех, которые уверовали, потом отреклись, потом опять уверовали и вновь отреклись, усилив неверие?
– Я так не говорил! – заторопился мавла. – Я только хотел сказать, что крещение-то осталось, куда оно денется?
– А-а!.. – насмешливо протянул Семён. – А я-то льщусь, что обратил тебя!..
Легко Семёну насмешничалось, и искус пропал: перед костлявой все равны, даже Христос смерти повинен был, хоть и попрал смерть смертью же.
И, не торопясь, с расчётом, Семён так просто, между делом полюбопытствовал:
– Слушай, Ибрагим, а чего это хозяин сегодня намаз не по всегдашнему творил: сребрениками брякал, будто с Аллахом торговался?
– О-о!.. – прошипел чернокожий. – Это великая тайна! Туареги о ней шёпотом рассказывают, и корейшиты не смеют вслух произнести.
– Верно, и впрямь тайна велика, коли всем известна, – заметил Семён, не боясь, что мавла обидится и умолкнет: болтливость абиссинца была сильнее обид, и при всяком удобном случае он погружался в пучину пустословия.
– Есть среди божьих угодников один, имя которому Аль-Биркер, – начал Ибрагим. – Персы называют его Дарья-баба, что значит – водяной старик. Вид его странен, а житьё неведомо. Никто не знает, где он появился на свет и кто были его родители. Но когда Аль-Биркер достиг совершенных лет, враги изгнали его род в пустыню. И там умерли от жажды все его родные: и отец, и мать, и братья, и сёстры, и дяди по отцу, и их дети, и вся родня со стороны матери, и все друзья и дальние родственники, так что в конце Аль-Биркер остался совсем один и шёл по пескам, мучимый солнцем. Но сильней полуденного зноя мучило Аль-Биркера неутешное горе. И тогда встал Аль-Биркер, праведный перед Аллахом, и произнёс такие слова: «Когда бы здесь появился чистый колодец, я бы не стал из него пить, пока не напоил всех жаждущих. И если бы волей Аллаха открылся свежий родник, я бы не коснулся его губами, покуда есть на свете гибнущие без воды». И Аллах услышал слова праведника и разверз перед ним грудь пустыни, показав реки, что текут внизу, и подземные источники. И Аль-Биркер спустился и зачерпнул воды, но не стал пить, а понёс людям, молящим о спасении. С тех пор он божьим соизволением носит по миру воду. Дарья-бабу видали не только здесь, но и в Сирийской пустыне, и средь песков Большого Нефуда, и в знойной Сахаре, и на солончаках Деште-Кивира. Всюду, где люди страдают без влаги, является святой Биркер и приносит холодную воду подземных рек. Несчётное число лет прошло с тех пор, мир изменился, и даже языка святого угодника никто уже не понимает, но до сих пор Аль-Биркер не может напоить всех людей, сколько их есть на свете. Велик труд его перед Аллахом и несомненны заслуги, ибо сам Дарья-баба не выпил ни капли из той воды, что он носит людям…
– За что же такое проклятие? – не выдержал Семён. – Так и последнего грешника наказывать жестоко.
– На святом водоноше нет проклятия, – поправил Ибрагим. – В любой миг может он вдоволь напиться воды и уйти в сад блаженства, где давно приготовлено ему место среди избранных. Но он продолжает своё дело, получая малую плату: один дирхем за полное ведро воды. В городе в базарный день вода стоит дороже. Никогда Дарья-баба не просил денег и никогда не брал больше, чем один дирхем. Люди сами кладут монету в пустое ведро, чтобы это серебро свидетельствовало перед Аллахом о достойных делах.
– Хорошая сказка, – сказал Семён. – Сладко будет вспоминать её, подыхая на солнцепёке. Жаль, правды в ней мало.
– Не смей так говорить! – вскинулся мавла. – Всё правда! Я об Аль-Биркере ещё дома слыхал.
– Мы с тобой на пару пятнадцать лет песками бродим, – сказал Семён. – Так почему ни разу допрежь водоношу не видели?
– Прежде крайнего случая не было, а теперь он подошёл. Вот и молится хозяин с серебром в руках: зовёт Аль-Биркера.
– Ну что ж, пусть зовёт, – сказал Семён, положив руку на пояс, где твердел согнутый булат. – Поглядим, поможет ли ему водяной старик.
* * *
Едва утро разукрасило пески в цвета фламинго и магнолии, обречённый караван тронулся в путь. Надежды добраться к колодцу не было, но всё же пока человек идёт, он жив. А Семёном двигало ещё и радостное любопытство: посмотреть, как станет умирать Муса, полтора десятка лет водивший его в ошейнике раба.
Но Муса шёл неутомимо, словно не поднималось на небосклон яростное солнце, от которого не было защиты и спасения. Даже дневной остановки не позволил ыспаганец, и два верблюда пали, а один из людей умер, сожжённый солнцем, и труп его остался позади.
И вновь настал вечер, а поскольку не было у людей никакого пропитания и не могли они ни приготовить мягкую джерату, ни заварить терпкий гирш, возвращающий силы усталым, то оставалось им уповать на неизреченную волю Аллаха.
– Помолимся Аллаху милосердному, – приказал Муса, распустив на брюхе широченный поясной платок – бельбаг и расстилая его вместо пропавшего молитвенного коврика.
Семён привычно двинулся прочь. Ему хотелось ещё раз полюбоваться своим сокровищем и окончательно назначить: сейчас брать Мусу или позволить ему прожить ещё ночь и порешить при свете дня, когда меньше верится в смерть и тошнее умирать.
Но уйти не удалось. При первом же Семёновом шаге Муса зыркнул недобрым оком и, щеря почернелые от шербета зубы, проклекотал:
– Куда наметился, свиное ухо? Здесь стой, со всеми вместе. Аллаха молить надо, чтоб живыми из песка выйти.
– Я не мусульманин, – покачал головой Семён, – Магомета не знаю и молитвам вашим не учён. Верую во единого бога отца вседержителя, творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого господа Исуса Христа, сына божия, единородного, иже от отца рождённого прежде всех веком. Света от света, бога истинна от бога истинна, рожденна, а не сотворенна, единосущна отцу, им же вся быша. Нас ради человеком и нашего ради спасения сшедше с небес и воплотихом от духа свята и Марии девы, и вочеловечшася…
Семён размеренно произносил с детства знакомые строки. Сухие слова падали с губ и пропадали, не понятые бусурманским ухом. Но одно было ясно: непокорствует раб перед своим господином, творя злые речи и обращая знамения Аллаха в насмешку. Это о таких сказал пророк: «Смиряйте их и ударяйте!» А здесь, перед лицом смерти, смирять непокорного можно только смертью. И Семён, как бы невзначай, положил руку на пояс, готовясь к давно лелеемой битве. Что же вы, верные, ступайте, возьмите раба, если прежде он не возьмёт у вас остаток жизни.
Но Муса, скривившись, будто соку хлебнул от незрелого граната, всё же не ударил Семёна и не крикнул ничего, а произнёс согласно:
– Молись, Шамон, Иссе-пророку, деве Марйям – молись как умеешь. Не даст Аллах воды, завтра все умрём, – и, отвернувшись от Семёна, грузно опустился на коврик.
Секунду Семён стоял недвижно, затем тоже преклонил колени на горячем песке.
– Бисмаллаху рахмону рахим!.. – заголосили мусульмане, и Семён в мыслях вторил им:
– Отче наш, иже еси на небесех…
Немилосердное аравийское солнце клонится к вершинам барханов, калит пересушенную землю, плавит мысли, высушивает разум, готовя путника встречь злому ангелу Азраилу. Это на Руси солнышко жизнь обещает, а здесь – смерть. Плывёт перед глазами песчаная степь, переливается зноем, дрожит в миражном мареве, сплетается изумрудными струями, будто речка звенит, перебирая на перекате гальку.
– …хлеб наш насущный даждь нам днесь…
Не надо хлеба – воды глоток: смочить шершавый язык, ободранное песком горло… Ныне и впрямь остаётся ждать Аллахова угодника, баснословного Дарья-бабу. Только где его найдёшь в нынешнем веке, где токмо прелесть, и тля, и пагуба…
– …не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
– О-омин! – нестройно завершили бусурмане свою ложную мольбу.
И словно стон пронёсся над склонёнными людьми, полувскрик, полувыдох, словно сама пустыня вздохнула, и заплакали хищные дэвы и джинны, удаляясь в страхе от мест, где справедливо почитали себя владыками. Жаркий воздух сгустился, искрясь слюдяными блёстками, взвихрился бегучими смерчиками песок, и из пустого места ступила встречь молящимся человеческая фигура, дрожащая и прозрачная, как полуденный мираж. Видение сделало шаг, наливаясь плотью, и Семён воочию увидел перед собой Аллахова угодника. Седой старичок, нездешне, до невозможности знакомый: в лаптях, пестрядинных портах и драном армячишке стоял под аравийским небом, держа в руках две бадейки, полные чистой, студёной колодезной воды. И ангел смерти Азраил шатнулся прочь, отогнанный волшебным водоношею.
– Пейте, добрые люди, – сказал старик, ставя вёдра перед Мусою.
Муса, не глядя, протянул назад руку, щёлкнул пальцами. Немедленно явились бурдюки с широко развёрнутым горлом, чтобы капля драгоценной влаги не пропала. Воду мигом перелили, опорожнив диковинную для восточного человека посудину. Тонко дзенькнули серебряные монеты, упав на деревянное дно.
– Хвала Аллаху, – перехваченным голосом выговорил Муса.
И только тогда помрачённый Семёнов разум осознал, что Дарья-баба произнёс свои слова по-русски, а сейчас, прямо сию минуту, водяной старик заберёт вёдра и исчезнет навсегда, оставив Семёна здесь, в неисповедимой дали от родных мест.
– Батюшка! – выкрикнул Семён, приподымаясь. – Милостивец родной – не оставь!
Старик вздрогнул, шагнул вперёд, вглядываясь в Семёново дочерна загорелое лицо, не узнавая русского человека под арабским иглем.
– Свой я, православный, тульский! – рыдал Семён.
Караванщики застыли, не понимая чужой речи, но видя несомненное и страшное богохульство в том, что раб и чужеплеменник осмелился дерзновенно нарушить обычай и обратиться к святому отшельнику с безумными и непотребными речами.
Старик подошёл к Семёну, положил прохладную ладонь ему на лоб, потом оглянулся назад, на что-то видимое лишь его взору.
– Успокойся, – сказал он, – сегодня уж поздно, а завтра за час до заката я приду, принесу им водички и заберу тебя отсюда. Жди.
Старик поднял пустые вёдра и, единожды шагнув, растворился в зыбком мареве, струящемся от нагретого песка.
Муса медленно повернул свирепое лицо.
– Шакал! – задыхаясь, пролаял он. – Падаль вонючая… Отродье гиены!.. Ты дерзнул?.. Язычник, мушкири… грязным языком опорочить посланца Аллаха в ту минуту, когда он требовал торжественной тишины? Я скормлю тебя паукам! Твою печень сожрут скорпионы!
– Откуда тебе ведомо, чего он требовал? – весело спросил Семён. – Или ты уже и по-русски начал понимать? Это же наш человек, христианин! Не тебе судить, чего он хотел. Я с ним говорил, не ты, кровопивец, мне и разуметь, чего он требовал…
Лицо Мусы постепенно наливалось рудным цветом, рука слепо шарила за кушаком рукоять садрии. Этого и хотелось Семёну: ему хватило бы мгновения, чтобы вырвать из-под бурнуса изострённый булат.
Ну же, Муса! Твоя смерть ждёт тебя, поспеши, восстань на раба и получи лютейшее отмщение за все минувшие обиды. И не уповай на милосердную скорую смерть: семижды семьдесят раз будешь умирать на жёстком хряще пустыни.
Рука уже ждала на индийской рукояти, но тут Семёна как дрествой продрало – вспомнил слова чудесного старца: «Завтра приду, им водички принесу…» А если не будет к тому времени Мусы и других караванщиков и некому станет чужебесную молитву слать, то сможет ли водоноша слово сдержать? Места тут Аллаховы, и воля его… Нет, пусть уж лучше Муса без отмщения жив останется.
Семён поник головой и, сдержав предерзостный тон, произнёс:
– Дарья-баба обещал завтра опять прийти, воды тебе налить щедро, а в плату меня к себе забрать.
Муса смутился, пальцы выпустили рукоять кинжала. Но ронять лицо перед подначальным Муса не мог и спросил спесиво:
– Ты, Шамон, никак бредишь или от жары сбесился? Даже если святой Дарья и христианин, то тебе в том что за выгода? Магомет истинно сказал, что лишь немногие из людей писания угодны Аллаху. Все прочие веру позабыли и хуже язычников.
– Эфенди, – сказал Семён, – тебе ли не знать, как верую я?
И Муса сдался, простил рабское глуподерзие.
– Ладно, – сказал он, – до завтра – живи. Если и впрямь Аль-Биркер выбрал тебя, я против воли Аллаха не выступлю. Но если… – Муса не договорил и, отвернувшись от Семёна, склонился над бурдюками, по-прежнему неполными, но теперь обещающими жизнь, возможность добраться к человеческому жилью.
* * *
С утра прежним порядком отправились в путь. Только верблюдов не так гнали, и лица у людей были светлее. Надежда – добрый водитель.
К полудню, когда не можно стало выносить горячее солнце, купец объявил привал. Воды в бурдюках было ещё довольно, но Муса не прикоснулся к кожаным мешкам: днём пить – только нутро мучить.
Семён своеобычно притулился к верблюжьему боку, закрыл глаза. Взор намозоленный за день однообразной дорогой, никак не мог успокоиться, представляя под закрытыми веками дрожащие картины, странные, невиданные…
Всякий человек перед сном видит дело своего дня. Когда пахарю, истомившемуся на ниве, удаётся смежить вежды, то бесперечь перед усталым взором комьями рассыпается ораемая земля. Бабе, повалившейся в страдный вечер возле сжатой полосы, вновь представляются хлебные колосья, и рука сама забирает их в жом, чтобы согнуть под иззубренный серп. Даже дети, набегавшиеся по лесу, видят перед сном прошедший день, и никого не удивит раздавшийся вдруг во тьме сеновала голосок: «Ой, девоньки, гоноболь-то какая крупнющая!.. Так бы и брала всю ночь!» И только путнику, шедшему по пустыне, песок не мстится. Воду он видит: озёрную гладь, речные разливы… струи голубеют вдали, играют на мелководье, чистым смарагдом зеленеют в глубине.
Семён в полусонном забытьи тоже видел воду. Мелкие камушки, ил, взбаламученный испуганным раком: пряди тины плавно стекают вниз…
Нет ни знойной Аравии, ни пыли, ни верблюдов… Течёт, омывая память, речка Упрейка, струится между зелёными бережками, пробегает мимо родного села, где, должно полагать, и память о Семёне Косоруке простыла. А Семён вот не позабыл ни речки, ни села. Помнит.
* * *
Сельцо Долгое, от Тулы четырнадцать вёрст, – исконная вотчина князей Голициных, встало при речке Упрейке. Сельцо невеликое: полтораста душ обоего пола, да и речка сельцу под стать: тёлке напиться, реке остановиться. А так места знатные – дубравные, липовые. Народ живёт не бедный, у кого руки нужным концом воткнуты. Хлеба сеют мало – только себе прокормиться, а на продажу – лён да конопель, да сады ставят. Тульское духовое яблоко на Москве славно, а вишенье и к царскому столу попадает. Так люд и живёт, хлеб жуёт, и всех печалей – чтоб не замечали ни царь, ни боярин, ни лихой татарин.
До осьми лет Сёмка жил за материной юбкой беспечально. И то подумать, какие горести во младенчестве? Что отец по субботам вины вожжами отсчитывает? Так сам же знаешь, что за дело – лишнего батька бить не станет. А работа детская весела – сено граблями ворошить, таскать волокушей кошеное с лесных кулижек. Зимами – куделю трепать, матери в помочь.
Батюшка Игнат Савельич крутёнок был, семью держал в кулаке, гулянки возбранял, а сыновей женил рано, чтобы не избаловались. Вечерами собирал домочадцев у света, читал вслух из божественного, «Четьи-Минеи», а то душеспасительную книгу «Домострой». Грамоте старик Игнат знал изрядно, книги имел и в зимней праздности учил детей азбуке.
Семья была большая, и Сёмка в ней младшенький – материн любимец. А как средний брат Ондрюха на Дон бежал казаковать, бросив отцовский дом и жену с детьми, так мать и вовсе к Сёмке прикипела. Сёмке то и любо, век бы так жил.
И тут на самый Новый год, на Симеона Столпника – Сёмка ещё в именинниках ходил, – отец сказал:
– Ну, Сёма, ты теперь большой, девять лет сравнялось, пора тебя женить.
Сёмка сначала не поверил: думал, шутит отец. А ночью услыхал, как мать плачет, и понял, что правда – быть к Покрову свадьбе. Поначалу так и лестно показалось – взрослый мужик, жениться собрался, а потом на улице встретили его смешки да хаханьки охальные, так и загрустил женишок. Подошёл к отцу:
– Тятя, ну её к бесу, свадьбу. Неохота мне.
Отец только цыкнул в ответ:
– Молчи, дурошлёп, коли не понимаешь.
А утром разбудил ранёхонько и, усадивши на телегу, повёз в Бородино, в церковь, договариваться о венчании. Так и там Сёмке весь сговор пришлось под окном просидеть, покуда отец с попом беседовали. Поп Никанор поначалу о венчании и слышать не хотел, на отца чуть не криком закричал, стращая мамоною. Сёмка уж занадеялся, что батюшка отцовы планы порушит.
– Какой тебе работницы взыскалось, Игнат? Ты об этом кому другому ври, а мне не смей. Покаялся бы!.. По всей волости о тебе слух идёт. Не для работницы младеня женишь, а для блуда своего бесовского!
– Ты бы, батюшка, не того… – угрюмо попросил отец. – Я хочу по закону, по-божески. А коли нет твоего благословения, так мне ладно и одним весельем. У меня уже всё сговорено. Ты сам посуди, много ли народу у тебя венчается? Кто на хохляцкий манер свадьбы крутит, а кто и по-донски – на площади объявляется, вкруг вербного куста ходит.
– Экой ты скорый, Игнат, в чужом очесе сучец искать, – увещевал священник, – допрежь из своего ока бревно вынь. В Малороссии, под ляхами живучи, православному священству большой перевод вышел, а на Дону попа и вовсе не сыскать, и строение церковное ставить нельзя, страха ради татарского. Где ж им свадьбы путём играть? Вот и обходятся, как умеют. По нужде и закону применение бывает. О том чти у апостола Павла.
– У меня тож нужда, – гнул своё отец. – Дочери замуж разлетелись, баб в дому не стало, как хозяйство вести? Парень скоро в возраст войдёт, всё равно женить надо. Я, перво дело, по закону хочу, по-божески. А уж в долгу не останусь… – Отец принизил голос, забубнил неразборчиво.
– Ох, согрешихом паки и паки! – вздохнул поп, отступаясь.
Венчались на святого мученика Куприяна. В церкви Сёмка впервой увидел свою суженую. Сказалась Фроськой, сиротской дочерью из Болотовки – княжей деревни в сорока верстах от Долгого. Была Фроська на пять лет старше своего малолетка-мужа. Брат Никита утешил Сёмку, сказал, что это ещё по добру вышло. А кабы десятью годами разошлись молодые, так и вовсе бы жить нельзя.
Свадьба получилась невесёлая. Мать утирала слёзы, шепелявила расквашенными в оладьи губами. Фроська ревмя ревела, особенно на следующее утро. Старшие снохи глядели испуганно, Никита напился пьян и ругался чёрными словами. Один отец ходил фертом, гордый, словно петух.
Когда наутро Сёмка вышел со двора, его стали парни задирать. Добро бы одногодки, с ними он как-нибудь разобрался бы, а то – большие, орясины стоеросовые.
– Эй, женатик! – кричали. – Каково с молодкой спалось? – и, не ждя ответа, заливались скверным, с привизгом, хохотом.
А как спалось? Батька в светёлке ночевал.
С тех пор прилепилось к Семёну прозвище: Женатик.
Обидно было. Сначала – просто обидно: чего дразнятся? Потом вроде попривык, и люди привыкли, кликали без ехидства. А потом подошёл срок, начал Сёмка становиться парнем и уже не детским умишком, а взрослеющим телом припомнил давнюю обиду.
Вечером отец домашних соберёт, жития раскроет, читает умильно, а у Семёна в душе корячится рогатое слово «снохач». На Фроську Семён не глядит, хотя отец давно к ней не ходит: своя супружница есть, и Маринка – Ондрюхина жена заботы требует, а то искудится баба без мужа, ославит на весь мир. Да и здоровьицем Игнат Савельич скудаться начал.
Казалось бы, чего не жить? – а Семёну тошнёхонько, хоть на Дон беги вслед за Ондрюшкой.
– Плюнь, Сёма, – утешал Никита. – Дело твоё житейское, изноет со временем. Ты, главное, бей её, Фроську, чаще. Она баба малахольная, быстро зачахнет, а там и путём жениться можно. Это не то что моя Олёна – её и оглоблей не ушибить. А твою походя известь можно.
Бить жену Семён не стал, не приняла совесть душегубства. Да и поп Никанор, отцов потатчик, не велел.
От тоски и непокою зачастил Семён к попу Никанору в бородинскую церковь. Только там и находил утешение. Под низким куполом смолисто пахло ладаном и горячим воском. Смирным огнём теплились лампадки перед потемнелыми, строгого письма образами. Дьячок, вздыхая, обирал с подсвечников огарки. Семён помогал дьячку, когда случалось – читал за пономаря, во время службы пел церковным многогласым пением. Никанор с дьячком у аналоя одну часть службы ведут, а Семён с дьяком Иосичкой в боковом притворе своё тянут. Изучил всякую премудрость: умел петь путевое и демественное, знаменное и строшное. Обычно миряне службу знают плохо, путаются и порой такое козлоглаголят, что хоть святых выноси. Потому-то Владимирский поместный собор велел прихожанам без особой нужды в церкви не петь. А Никанор Семёну дозволял: память у парня хрустальная, ни полсловечка не спутает.
Чинно было в церкви: службу поп Никанор вёл с пониманием, проникновенно, не гундосил, слов не глотал. И по жизни был задушевным пастырем: никого не судил, разве что журил отечески.
– Твоего греха, Семён, тут нету, родителев грех. За него молись, и тебя бог простит. И на супругу сердца не держи, она тож раба подневольная.
А как не держать зла, когда ночами сны приходят искусительные, а на Фроську глаза бы не глядели: шутка сказать – кровь помешается.
– Она твоя жена венчаная, значит, на тебе греха нет. Лот-праведник родных дочерей поял, а праведником остался.
Скажет так, смутит всего, а потом учнёт рассказывать о непорочном монашьем житии, о пустынниках, столпниках и иных святых старцах. От таких рассказов душу переворачивает и взыскуешь града небесного. Премного утешения находил Семён в древних примерах. Святой Антоний-отшельник в пустыне египетской также плотью искушён был, а с молитвой превозмог искус.
Семён завёл лествицу, подумывал и вериги надеть для смирения плоти. На Фроську старался глаз не подымать, как монахам предписано. Мечтал о безгрешном житье, да просчитался. Игнат Савельич быстро неладное заметил и меры принял.
Семён во дворе возился, поправлял у телеги порушенный передок, когда отец во двор вышел, остановился набычившись и недобро спросил:
– Ты чо кобенишься, Сёмка? Почему с женой не живёшь?
Семён молчал.
– Али погано? – Отец прищурился.
Семён голову склонил, но ответил твёрдо:
– Погано, батюшка.
Отец засипел, словно баран, когда хозяйский нож отворяет тонкое баранье горло. А Семён, нет чтобы в ноги падать, в глаза глянул и попросил:
– Отпустили бы вы меня в монастырь, богу молиться за грехи ваши.
Тут уж отец взбеленился. Забыл и добрую книгу, спасённо чтение «Домострой», что крепко заповедует домашних ничем железным либо же деревянным отнюдь не бить, а, по вине смотря, постегать вежливенько плёткою. Игнат ухватил тележный шкворень из морёного дуба и в сердцах обломил сыну плечо. Потом сам жалел: не дело работника портить. Хорошо ещё, не отсохла рука, токмо покривилась малость. Зато в миру забылось старое обидное прозвище, стал Семён Косорук.
Поднявшись, Семён уже о монашестве не заговаривал – покорился. И с женой обвыкся, не устоял. Слаб человек с естеством бороться, а сладкий грех привязчив. С вечера томно, и в чистоте себя блюсти мочи нет. А как отлепишься от жаркого женского тела, так хоть волком вой. Бывало, Семён сдержаться не мог, совал кулаком в рёбра:
– Чтоб ты сдохла, постылая!
Фроська плачет молча, не смея ворохнуться, а ему не жаль. Стерпелось, да не слюбилося.
* * *
А по весне из Дедилина нагрянул княжий приказчик Янко Герасимов. Объехал Бородино, заглянул и в Долгое. Велел к Акулинину дню быть готовым за солью. Уезжать летом с работ никому не хотелось, но и без соли тоже никак. Мужики поскребли под шапками и стали вершить приговор: кому ехать чумаками.
Земля русская солью небогата. Стоят варницы в Галиче, Старой Руссе, кой-где ещё. Но той соли едва себе довольно. Прочие за солью ездят. Вятка и Вологда на Соль-Камскую – у перми покупают. Малороссия – на горькие черноморские бугазы, имать соль у крымчаков. Иные обходятся, где придётся. Под Тулою соли не сыскано, и народ издавна бегал на Дон, где по степи тянутся манычики – солёные озерца. Ставили варницы, парили тузлук. На обратном пути за Непрядвой-рекой у Спаса Солёного служили молебен, что попустил господь целыми воротиться.
Но теперь на Дону теснота, казаки чужим промыслов не дают, а государеву соль не укупишь – на Москве от того, говорят, уже бунт был – соляной.