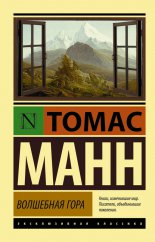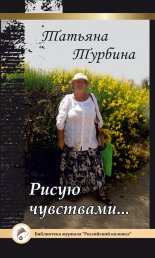Другая жизнь Павлов Илья

— Я уверю вас: вы заблуждаетесь!
— Нет, не заблуждаюсь.
Этот человек неспроста сказал: многие любили. Он проговорился. Теперь ясно, что это был враг Сережи или, может быть, сочувствовал его врагам. Неужели дошли до такой низости, что посылали сюда с деликатным поручением Сережиного врага?
— Сергей Афанасьевич работал вот как раз в нашем секторе, — дрожащим голосом заговорила женщина и, сняв очки, уткнув мясистый подбородок в грудь, стала протирать очки платком. Лицо ее приняло совсем плачущее выражение, голос звучал едва слышно. — Революции вот и гражданской войны… Мы с ним работали шесть лет вместе… Он был прекрасный человек, очень вот добрый, отзывчивый… хороший человек…
Мясистый подбородок дрожал. Ольга Васильевна смотрела на женщину холодно.
— Интересно, как вы оба голосовали при разборе этого пресловутого Сережиного «дела»? — спросила она.
Женщина вздрогнула, глаза ее расширились и проделали мгновенное вращательное движение. Разумеется, Ольга Васильевна спросила грубо и, наверное, поставила гостей в неловкое положение, но ведь они тоже: сидят тут, пьют чай, разговаривают о Сереже…
— Я не голосовал вовсе по причине моего отсутствия в столице. Я был в Польше, в командировке, — сказал Безъязычный и махнул презрительно рукой. — Да ну, знаете ли…
Жест и тон означали: стоит ли вспоминать об этой чепухе? Сорокина сказала:
— А я, кстати, голосовала за то, чтобы вот на вид… — Она покраснела. — Это было единственное, это было вот самое в тех условиях…
Тут вошла, вернее — бесцеремонно влетела по своей привычке, Иринка и попросила полтора рубля поскорее, пока не закрылся универмаг. Выпалив это, она заметила гостей и сказала:
— Здрасте!
Ольга Васильевна представила дочь, та очень приветливо, обаятельно улыбнулась, как она умела улыбаться, когда нужно было выклянчить деньги.
Ольга Васильевна рылась в сумочке, собирая серебро и медь.
— Ой, что я вижу? — обрадованно крикнула Иринка, бросившись к подоконнику. — А я его искала, искала! Откуда он здесь?
Она схватила гребень с длинной ручкой.
— Это принесли с папиной работы. Вот тебе полтора рубля.
— А… — Поколебавшись, Иринка положила гребень назад на подоконник, потом спросила: — Мам, можно я его возьму? Ведь ты мне купила, помнишь?
— Возьми, — сказала Ольга Васильевна.
Иринка убежала. Видимо, кто-то ждал в прихожей, зашептались, хлопнула дверь. Гости сидели. Говорить было не о чем. Казалось, сейчас встанут и пойдут, но Безъязычный завел разговор о незаконченной Сережиной диссертации. Будто бы есть мнение ученого совета — решения пока нет, но раздаются голоса, — чтобы работу завершить силами института и издать в виде монографии. Выделить специальных людей. Работа плановая, весь отдел заинтересован. Придется подобрать неиспользованные материалы, найти то, что осталось у Сергея Афанасьевича в папках, на рабочем столе. Все рассчитывают на помощь Ольги Васильевны. Она почувствовала, как в ней закипает раздражение.
— Я займусь этим, когда будут силы и время, — сказала она. — Сейчас ничего искать не стану.
— Конечно, конечно! Разумеется, Всеволод Борисович… — залопотала Сорокина. — Когда Ольга Васильевна сможет…
— Это абсолютно в интересах Ольги Васильевны, — сказал Безъязычный.
В коридоре Безъязычный неожиданно сказал своей спутнице, подав ей пальто:
— Полина Романовна, извините, я не смогу вас проводить. Мне надо Ольге Васильевне два слова…
Вернулись в комнату. Ольга Васильевна не хотела вести разговор в коридоре, под дверью комнаты свекрови. Почувствовала, что предстоит неприятное. Безъязычный сказал, что ему неловко говорить, но выхода нет, потому что дело общественное. Он председатель правления кассы взаимопомощи. Сергей Афанасьевич взял сто шестьдесят рублей с обязательством вернуть в течение полугода, но прошло почти два года, деньги не возвращены, и теперь возникла сложность: касса пуста, есть заявления с просьбой о небольших ссудах, удовлетворить невозможно. Есть правление, есть решение, есть суждения всех без исключения, есть мнение, есть изумление… Так вот: каково положение?
Ольга Васильевна слушала ошеломленно. Слова долетали сквозь плотный воздух.
— Таких денег у меня нет, — сказала она.
— Собственно говоря, тут дело обстоит таким образом… Понимаете, мы не имеем права… Если только общее собрание всех пайщиков, но захотите ли вы… — Безъязычный бормотал, дергаясь румяным тугим лицом, как бы неслышно и нарочно чихая, что означало, по-видимому, сильную степень смущения. — Поверьте, мне неприятно… Но я выполняю…
Ольга Васильевна сказала, что на Сережиной книжке лежит сто рублей. Но эти деньги она сможет получить не скоро, когда вступит в права наследства. Что касается ста шестидесяти рублей, взятых в кассе взаимопомощи, то она слышит о них впервые.
— Когда он брал эти деньги?
Безъязычный достал из кармана блокнот, полистал его, нашел: деньги были выданы пятого марта семьдесят первого года. Откуда все это свалилось? Зачем ему понадобились такие деньги? Женщина. Это сразу пришло в голову, бросило в жар, она очень спокойно сказала:
— Я действительно впервые слышу. Обычно он делился со мною всеми тратами, долгами… — Это была неполная правда, но все же в общих чертах — правда.
— Тогда мне еще более неприятно. Извините меня.
После паузы сказал:
— Я постараюсь сделать все, чтобы убедить членов правления, учитывая обстоятельства… Вам придется, может быть, сочинить бумагу… Что смогу, я сделаю! — Он прикладывал руки к груди и наклонял голову. — Большинство товарищей хорошо относились, так что я надеюсь… Я поговорю кое с кем предварительно…
В таком духе он продолжал бормотать, прижимая руку к груди и кланяясь, пока двигался из комнаты в коридор. Кажется, было сказано все. На сей раз конец. Зачем же дали деньги в конверте, если сами требуют от нее? Все было смутно. Ольга Васильевна смотрела на коротенького, седого, в черном и мятом старомодном, пятидесятых годов, костюмчике и что-то говорила, не слыша себя. На прощанье он сказал:
— Так вам позвонят насчет монографии. Вы уж там поищите, соберитесь. Ту папку, про которую я говорил, с розовыми шнурочками.
Раньше, когда возникали внезапные неприятности и она не знала, как поступить, всегда советовалась с Сережей. Обыкновенно вечером, перед сном, когда Иринка уже спала, а свекровь забивалась к себе в комнату. В своих делах он ничего не мог добиться, но ей советовал толково. Легко умел успокаивать, когда ее обижали. А теперь — к кому? Свекровь знать не должна, потому что ничего, кроме злорадства, не испытает. Усмотрит в этом подтверждение своей веры в то, что они не были близки и он жил отдельной жизнью. Ольга Васильевна ощущала томящее чувство, которое не было ревностью, а было чем-то совсем другим, иного качества: как бы перегоревшей ревностью. Ей как бы вручили урну с этим странным прахом. Ревности уже не было на земле, но ее останки она держала в руках, прижимая к груди.
Почему-то была убеждена в том, что тут замешана женщина. Прах, прах, ничего, кроме праха. Но руки ее дрожали. На ее собственной сберкнижке лежало двести восемьдесят рублей, накопленные Сережей и ею для целевой траты — покупки телевизора. Снимать оттуда деньги для покрытия сомнительного долга глупо. Сережа говорил:
— Старуха, не суетись.
Это была его фразочка, которую кстати и некстати он повторял десять раз на дню. Хороши эти господа: месяца не прошло — бегут к вдове с векселем! Но одно она знала твердо: они были близки по-настоящему. Ближе человека у него не было. Пусть свекровь замолчит. Последние годы он с матерью не делился, скрывал от нее разные свои неприятности. Говорил:
— Есть вещи, которые не могу ей объяснить.
Мать многого не понимала, и это непонимание его злило. А между ними такого непонимания не было. Она понимала все досконально, до малейшего вздоха. И даже если кто-то был у него, это не имело значения.
Так она убеждала себя, стараясь оставаться невозмутимой и спокойной, но спокойствия не было. И помочь ей не мог никто. Фаине рассказать нельзя, потому что лучшая подруга поймет по-своему. И тоже, наверное, втайне обрадуется, ибо тут соответствие ее цели, в которой сама признавалась: вывести Ольгу Васильевну из оцепенения. Для этого требовалось слегка наклепать на Сережу. Но она не верила, не хотела верить! Тут была какая-то тайна. От всего этого разболелась голова, Ольга Васильевна оделась, взяла сумку и вышла на улицу.
Сеялся слабый дождь. В гастроном забегали последние посетители: было минут двадцать до закрытия. Ольга Васильевна зашла купить масло, кефир, что-нибудь к чаю для Иринки. Уборщица шаркала шваброй, отгоняя посетителей от прилавка и ворча злобно. Ольга Васильевна постояла в небольшой очереди в кассу, потом подошла к молочному прилавку, думая о том, что людей вокруг много, знакомых много, есть подруги, но нет близкого человека и это значит — нет никого. Худшее, что предстоит в жизни, подумала она, это одиночество. Смерть и несчастья — только прелюдия к худшему. Как жить, если не с кем посоветоваться, некому сказать? У людей, стоявших с чеками, был какой-то суетный и случайный вид. Будто забежали сюда по ошибке. Вечерние посетители, озабоченные далекими отсюда мыслями. На самом деле: опаздывали домой, в этот час обыкновенно они сидели у телевизоров в домашних туфлях, или занимались мелкою стиркой в ванной, или гладили школьную форму на кухне, постелив на стол старое, в желтых пятнах от утюга байковое одеяльце, все это им еще предстояло, но они не торопились. Продавщицы двигались медленно. На их лицах, как тяжелый грим, лежала дневная усталость.
Ольга Васильевна услышала знакомый голос за спиной, оглянулась: Иринка! Дочь стояла возле высокого столика, где пьют кофе и едят пирожки, но теперь было поздно для кофе, буфет закрыт, она стояла с двумя подружками, и все трое болтали и жевали что-то. Длинные худые ноги Иринки в темных чулках, ее куцеватое пальтишко, из которого она выросла, надо менять, — каждый раз при взгляде на это пальтишко Ольга Васильевна испытывала какое-то душевное ущемление, мгновенный укол, но не заводила речи о покупке, Иринка тоже молчала: осень уж как-нибудь доходит, а на зиму есть неплохая шубка, — вся сутулая, долговязая фигура дочери с распущенными по нынешней моде волосами вызвали у Ольги Васильевны судорожный прилив нежности. Было так сильно, что она чуть не побежала к ней. «Моя сирота, — подумала она чуть не со слезами. — Она еще не понимает, что это. Но я знаю!»
Ольга Васильевна сделала несколько шагов к девочкам, думая о том, что самая высокая среди них, самая бедно одетая, самая красивая и добрая — это и есть близкий человек. С нею говорить обо всем. Теперь ближе этой девочки нет. Она подошла к столику, одна из девочек — любимая Иринкина подруга Даша, восточная красоточка, всегда чересчур бледная, с подкрашенными длинными глазами, — заметив Ольгу Васильевну, перестала щебетать и улыбаться и глядела испуганно.
— Вот они где прожигают жизнь! — сказала Ольга Васильевна. — Интересно, что вы тут обсуждаете?
— А мы, Ольга Васильевна, обсуждаем завтрашний урок по обществоведению, где будет очень интересный разговор на тему личность и общество. Вот думаем, как получше подготовиться. — Выражение испуга на хорошеньком личике Даши сменилось выражением победоносной иронии.
Другая девочка прыснула. Иринка смотрела на Дашу исподлобья, но с тайным восторгом: исподлобный взгляд относился к появлению матери, а восторг адресовался, разумеется, Даше. Бедная Иринка была в эту стервочку влюблена. Ольге Васильевне Даша не нравилась, она считала ее неискренней, манерной и, что хуже всего, преждевременно взрослой. По некоторым Иринкиным обмолвкам она поняла, что у Даши какая-то сложная личная жизнь, есть человек гораздо старше ее, которого она называет другом. Неизвестно, как далеко эта дружба зашла. Ольга Васильевна пыталась осторожно выведать, но Иринка не поддавалась. Не хотелось верить во что-то серьезное, ведь девочкам нет еще семнадцати, и она сама, Ольга Васильевна, в их годы не думала ни о чем, кроме учебы. Десятый класс, такая ответственность!
— А деньги, между прочим, были даны на универмаг, — сказала Ольга Васильевна. Наглость Даши задела. Эта дурочка с нее глаз не сводит. — А ты, я вижу, транжиришь на пирожные и сигареты. Девчонки, ну зачем вы курите?
Они что-то залопотали хором, совершенно невнятное, шутливое и понарошке. Кажется, тоже в ироническом стиле. Ольга Васильевна почувствовала, что ее присутствие тяготит. Иринка, глупо смущенная, даже не смотрела на нее, зато ловила каждое слово подружек и неестественно громко хохотала. Вторая девочка, Лена Кукшина, была вялая, анемичная толстуха из очень обеспеченной семьи, на ней было пальто из замши, на пухлом пальчике кольцо с камнем — безобразие, раньше ни одна девчонка в школе не посмела бы надеть кольцо! — рядом с нею на столике лежал складной японский зонтик, очень изящный, Ольга Васильевна видела такой у приятельницы, и вообще от Кукшиной пахло, как иногда пахнет от человека дешевыми парикмахерскими духами, благополучием и богатством. Ольга Васильевна этот запах выносила с трудом. Но Иринка говорила, что Кукшина добрая. Правда, Иринке не нравилось, что Кукшина подхалимничает перед Дашей. А уж эта Даша у них — прямо царица некоронованная, великий авторитет, этакая пигалица. Ольга Васильевна сказала строго:
— Ира, пойдем домой, будем ужинать. — И взяла ее руку выше локтя. Не потому, что собиралась потянуть ее от столика, а просто хотелось до нее дотронуться. — Пора, девочка, пойдем.
— Мама, я пойду домой, когда захочу, — отчеканила Иринка с внезапной враждебностью.
— Что значит: когда захочешь?
— То и значит: когда захочу, тогда пойду.
— Нет, ты пойдешь сейчас со мной.
— Нет, не пойду.
Ольга Васильевна почувствовала, как хлынула изнутри какая-то слабая ярость.
— Да как ты можешь… со мной… сейчас… — заговорила, задыхаясь.
— А как ты можешь? У меня тоже неприятности. Мне надо поговорить с друзьями.
— У тебя тоже! — крикнула Ольга Васильевна. — Эх ты…
Она повернулась и пошла из магазина. Кто-то догонял, схватил сзади за руку.
— Ольга Васильевна! Постойте!
Даша. Опять выражение испуга в карих прелестных глазах.
— У Ирки правда неудача с одним мальчиком, — да вы знаете, с Борей, — и нужно поговорить совсем немножко, минут десять. Сейчас все равно выгонят, мы по бульварчику погуляем.
— Она просто дрянь, — сказала Ольга Васильевна.
Когда поднималась лифтом на восьмой этаж, подумала: вот истина. Одна в закрытой коробке. Можно читать надписи, нацарапанные гвоздями. Но некому сказать, какая боль в сердце. Никто не услышит. В одиночестве человек ползет в шахте все выше и выше или все ниже и ниже, это безразлично, смотря что считать верхом, что низом. «Никто не услышит!» — произнесла она вслух. «Алло? Говорите громче!» — рявкнул над ухом гулкий и страшный голос. Она вздрогнула: диспетчер из третьего корпуса. Обычно не докличешься, а тут услышали. Значит, надо говорить, надо кричать, даже если голые стены. Кто-нибудь услышит.
Иринка пришла не через десять минут, а спустя час. Ольга Васильевна уже простила ее, и когда, отворив дверь, увидела ее с поникшей головой, шмыгающую носом, — конечно, прозябла в тонком пальтишке, целый час на бульваре, — увидела детское виноватое выражение ее лица, опять охватило волною тепла и жалости. «Бессовестная я! Зачем рычала на нее? — пронеслось в сознании, помутившемся от жалости. — Ведь она сирота, нет отца, нет защитника. Если не я, то кто же…»
Ничего не сказала, провела рукою по волосам дочери. Та вдруг рванулась, обняла мать, ткнулась холоднокосой, щенячьей мордочкой в щеку, в ухо, шепча что-то жалобное, и Ольга Васильевна тоже шептала, они друг друга не слышали, все произошло в течение двух секунд. И обе вдруг ослабели, обнявшись, и, едва сдерживая слезы, пошли на кухню, чтобы побыть одним, совсем одним, без бабки, потому что ближе их людей не было. Двое самых близких на свете. Там долго сидели, пили чай, Иринка рассказывала о Боре. Она была скрытной, делилась переживаньями редко, молча вела свою маленькую житейскую битву. Но это значило, что теперь силы ее оставили, она нуждалась в помощи. Боря перестал звонить, а в школе совсем не подходит. Она предполагала, что влияет одна девчонка, с которой он отдыхал на юге. Даша обещала выведать, Боря был мальчик из параллельного класса, некрасивый, Иринке он никогда особенно не нравился, но все было похоже на настоящее горе.
Ольга Васильевна шептала какой-то ласковый вздор. Иринка успокоилась и ушла в ванную мыть голову. Ольга Васильевна стала убирать со стола, грязные тарелки сложила в мойку, горячая вода в этот поздний час шла плохо и была недостаточно горячей, а нагревать воду в чайнике не хотелось. Решила: все завтра, завтра, встать часов в семь. И тут позвонила та женщина, что приходила с Безъязычным.
— Извините, что так поздно. Пока доехала до своей деревни, до Кузьминок, пока вот дела, то, другое… А звоню вот зачем, Ольга Васильевна. Всеволод Борисович вас, наверное, кассой взаимопомощи пугал, долгом Сергея Афанасьевича, а вы не пугайтесь — долг будет списан. Это, можно сказать, уже решено. Понимаете? И вы, пожалуйста, ни одной папочки, ни одного листочка не отдавайте. То, что я вам сейчас звоню, это, конечно, к моей невыгоде, но просто я уж очень Сергея Афанасьевича уважала. Извините, милая Ольга Васильевна, что побеспокоила вас на ночь глядя. Будьте!
Этот странный разговор, это «будьте!» озадачили Ольгу Васильевну, но не настолько, чтобы придать ее мыслям другое течение. Ночью она могла думать только о прошлом, но не о будущем.
Давно надо было взяться. Но не хватало духу. Все его папки, блокноты, тетради толстые и тонкие, вырезки из газет, аляповато расклеенные по альбомам, выдранные из журналов страницы, кипы исписанной бумаги, рассованные по разным местам — часть находилась в ящиках стола, часть на нижних полках в шкафах, какие-то папки пылились на самом верху шкафов, под потолком, куда месяцами не достигала тряпка, и Ольга Васильевна сердилась и во время каждой уборки требовала, чтобы он куда-нибудь пристроил «свой хлам», лучше всего в мусорный бак, именно «хлам», потому что, будь это ценное, он не держал бы на верхотуре, в пыли, а еще какие-то бумаги в дни ремонта попали на антресоли, — все это еще было его плотью, несло в себе его запах, эманацию его существа, поэтому притрагиваться было страшно. Она знала, что рано или поздно это пройдет, но пока она не могла. И так же не могла видеть и трогать его вещи в гардеробе. Фаина сказала, что надо продать. Говорила, что так делают все вдовы, чтобы не травить душу. Обещала найти покупателя. Жена Феди Праскухина Луиза, овдовевшая восемь лет назад, сказала, что продала Федины вещи тотчас, единым духом, но Ольга Васильевна никак не могла решиться.
Да и времени не было на такие дела. Луиза не работала — это сейчас, кажется, пошла работать страховым агентом, — а то сидела дома с детьми. У нее и нянька была и бабушка, ее мать. Сидеть дома — с ума сойти.
И еще непереносимое: фотографии. На стене висела одна очень хорошая, юных лет, он улыбался мягко и задумчиво, с травинкой во рту, Ольга Васильевна любила эту фотографию, повесила ее давно, при Сережиной жизни, и привыкла к ней. Но даже на нее Ольга Васильевна, когда входила в комнату, старалась не смотреть или — как-то бегло, секундно. Про альбом говорить нечего. Спрятала его подальше. Всякое прикосновение — боль. А жизнь состоит из прикосновений, потому что — тысячи нитей и каждая выдирается из живого, из раны. Вначале думала: когда все нити, самые крохотные и тончайшие, перервутся, тогда наступит покой. Но теперь казалось, что этого никогда не будет, потому что нитей — бессчетно. Каждый предмет, каждый знакомый человек, каждая мысль и даже каждое слово, все, все, что есть в мире, нитью связано с ним. Разве хватит жизни? Вчера ездила по делам на Ново-Басманную, вышла из метро «Лермонтовская», и сразу — укол в сердце, вспомнила, как зимою, в сильный мороз, бежали отсюда по Садовой вниз, в гости к кому-то. Седьмой месяц, но легче не делается. Люди говорят, что должно пройти пять лет, но Луиза сказала: что-то непохоже, она бы почувствовала, ведь у нее прошло уже больше.
Видела Луизу недавно на улице, случайно. Так обрадовались друг другу, так много хотелось сказать, спросить: ну как ты? что ты чувствуешь? что происходит с тобой? Стало ли… вот хоть на столько, хоть на крупицу?
Луиза смотрела серыми, вымершими глазами:
— Я не знаю, чем измерять. Нет инструмента…
Ольга Васильевна еще хотела спросить: «Есть у тебя кто-нибудь?» — но не осмелилась. В этой битве все сражаются в одиночку. Выглядела Луиза хорошо в своей старой дубленке, но уже чищенной, отчего коричневый цвет посветлел и приобрел пошлый розоватый оттенок. Ольга Васильевна спросила: как дети?
— Очень хорошо, — ответила Луиза. На все вопросы она отвечала: «Очень хорошо».
Восемь лет назад в сентябре ранним утром — Иринка еще не ушла в школу — трезвонили в дверь. Ольга Васильевна поразилась, увидев Гену Климука — тогда еще Гену, старого приятеля, — который обязан был в этот час делать утреннюю гимнастику на каменистом коктебельском пляже перед завтраком. Лицо Климука было в багровых пятнах. Не здороваясь, он спросил: «Где Сергей?» — шагнул в прихожую и привалился плечом к стене. Сережа вышел из ванной, намыленный для бритья.
— Сережа, ты должен ей все рассказать… Я не могу… У меня нет, нет… — И этот гигантский мальчик со старообразным круглым лицом качнулся, ноги его согнулись, и он легко сполз по стене на пол. Он не упал, а как-то вдруг оказался на корточках и сидел так секунды две или три, тяжело дыша.
Два дня назад Климук и Федя поехали вдвоем на юг на неделю. Федя только что купил нового «Москвича». Они иногда устраивали холостяцкие побеги, или, как Климук любил выражаться в старославянском стиле, «убеги», заманивали и Сережу, но она делала все возможное, чтобы его от этих вылазок отклонять. Не то чтобы ревновала к мужской дружбе, не то чтобы беспокоилась о его нравственности в компании старых приятелей, еще не утративших навыков студенческой вольницы, — когда собирались втроем, эти навыки как бы гальванизировались, они начинали чудить, хорохориться и бог знает о чем мечтать, — и не то чтобы заботилась о его здоровье: ведь там, где Климук, там выпивка. Она просто не любила, когда он исчезал из поля ее зрения. Он должен быть всегда рядом, поблизости, лучше всего в одной комнате с нею. Это было, наверно, большой неправильностью в ее жизни, но переделать себя она не могла, да и не пыталась.
Всегда противодействовала Климуку, Феде и кому бы то ни было в их кознях отнять у нее Сережу! Иногда ловко находила причины, удачно присочиняла, — например, ссылалась на недомогание, требовавшее его неотлучного присутствия, — а иногда грубо и прямолинейно взывала к его совести, великодушию. Собственно говоря, тут сталкивались два эгоизма. Он любил эти «убеги», отрыв от ежедневной мороки, от дел, от дома, особенно любил «убеги» к «музейному другу» Федорову или куда-нибудь с Федей Праскухиным на машине, даже просто в «Севан», и она знала, что он это любит, что ему это, может быть, необходимо по многим причинам, но ничего не могла поделать с собой: когда он исчезал, она становилась как больная. Иногда даже начиналась крапивница. Но он был непримирим в своей борьбе за независимость и уступал редко. Этот редкий случай был в сентябре. В институте заканчивался ремонт, занятия прекратились, все торчали по домам, и Федя с Климуком замыслили проветриться недельку у моря и подбивали Сережу. Была такая неразбериха, что никто бы не хватился. Кому хвататься? Федя Праскухин сам хозяин, ученый секретарь.
Сережа очень хотел поехать. А ей чутье подсказывало: не пускай ни за что! Ах, никакого чутья, просто обидно было, что покатит на юг один, станет там веселиться, хорохориться и пить, конечно. Она ссылалась на отсутствие денег, на то, что у него ничего не двигается — ни диссертация, ни книга с тем жуликом Ильей Владимировичем, — и что хорошо прожигать жизнь Феде Праскухину и Гене Климуку, у них прочное положение, а куда он-то, как рак с клешней?
— Тридцать рублей, которые я тебе могу дать на дорогу, — говорила она, — сделают тебя прихлебателем. Тебя это не пугает?
Он сказал: не пугает. Сказал, что у них здоровые мужские отношения, не то что жалкая дамская дружба, когда считаются друг с дружкой копейками. Он даже позволил себе этак высокомерно:
— Ты этого не поймешь!
Бедный, как он ошибался. Ольга Васильевна сказала, что если он поедет с ними, тогда — развод. Кто-то звонил, то ли Луиза, то ли эта дурочка Мара Климук, но наущению мужиков, уговаривали ее смягчиться и разрешить. Но она была непреклонна. Если уедет — развод. Пожалуйста, уезжай, тебя не держат, но когда вернешься, ее здесь не будет: она переедет на Сущевскую. Неужели было подсказано провидческим голосом из тех неземных пространств, куда Сережа углубился потом и где ждала его гибель? Сережа рассвирепел, не разговаривал с нею несколько дней, но поехать все же не осмелился. На рассвете на Симферопольском шоссе, южнее Харькова, старик переходил дорогу, не слышал сигналов, а Федя не мог погасить скорость и выскочил на левую сторону, где его ударил «МАЗ». Федя умер в сельской больнице, не приходя в сознание, а Климук отделался ссадинами. Он как-то уперся руками в стенки кабины — руки у него сильные — и, хотя машина два раза перевернулась, остался цел.
Теперь он едва шевелил белыми губами:
— Тело везут автобусом… Я дал сто двадцать рублей…
Он умолял Сережу пойти к Луизе. Сережа пошел. Он умел быть другом. Поэтому его многие любили, и кидались к нему, когда им было плохо, и, пожалуй, эксплуатировали это его уменье.
Ночью она не выдержала — этого ни в коем случае не следовало говорить, но ее распирало — и сказала ему тихо на ухо:
— Сережа, ведь я тебя спасла… Ты видишь, какая я пророчица?
Он, ни слова не говоря, отодвинул ее и повернулся к стене.
И она сразу почувствовала, что сказала нехорошее. Но уж очень сильно ее распирало: и страх, и жалость к Феде, которого она любила, и какое-то странное, непобедимое внутри себя чувство тайного самодовольства. Наверное, думала она, похожее испытывали люди на войне, когда рядом убивали товарищей, а они почему-то оставались живы и невредимы. Говорить не нужно было. Как раз та минута, когда мысль изреченная неминуемо оказывалась ложью.
Он, помолчав, сказал:
— Я все-таки надеялся, что ты прикусишь язык… Нет, сказала…
Конечно, не следовало говорить. Но и ему не следовало быть с нею таким злым. Ведь и в самом деле: спасла жизнь. Он говорил о Феде, о том, что другого такого товарища в его жизни не будет. Верно, они были приятели, учились все трое на одном курсе — когда-то, страшно давно, — Сережа, Федя и Гена Климук. Ну и что? Ее удивляла эта наивная привязанность к старым друзьям, то ли школьным, то ли институтским. Старался не замечать их недостатков, не видеть их смешного, неприятного. «Парень из нашей школы» или «парень с нашего курса» — для него это звучало высшей аттестацией, включало в себя все добродетели. Дружба не по выбору, а по воле обстоятельств: с кем оказался за партой, с тем и дружу. Впрочем, у всех мужчин эта странность. Не могут жить без старых дружков. А Ольга Васильевна отлично обходилась без подруг и, когда был Сережа, могла месяцами не видеть ни Фаинку, никого. Ей нужен был он один. Ну, и с Луизой, с Марой виделась по необходимости, потому что мужики очень любили «обща»: «Давайте обща!», «Что-то мы давно не обща!»
Теперь их объединяли одни интересы: институт и все, что там творилось. Гена Климук шутил, подмигивал.
— Давайте сколотим свою группку, свою кликочку, свою маленькую, уютную бандочку!
А Федя не болтал, он делал. Он помогал по-настоящему: втащил Сережу в институт, всячески продвигал, добился повышения оклада, переубедил пучеглазого Ивана Евдокимовича Демченко, директора, насчет перемены темы диссертации и умаслил Сережиного руководителя, профессора Вяткина, который был вовсе не рад этой перемене. Все было нелегко. Но Федя сделал. Если бы Федя был жив и оставался ученым секретарем, он, конечно, никогда бы не допустил всей этой пакости, что повалилась на Сережу год назад по вине старого друга Климука и его «маленькой бандочки».
Гена впрыгнул в кресло ученого секретаря так быстро и с такой готовностью, что можно было подумать, будто он, подобно булгаковскому Воланду, подстроил катастрофу нарочно.
С его приходом на должность что-то неуловимо нарушилось. Она долго не замечала. Когда Гена звонил, он был так же бодро-шутливо приветлив с нею, как раньше, иногда и Мара звонила, делилась с Ольгой Васильевной новостями по части трикотажа и косметики — она работала в золотом месте, на Петровке, рядом с Пассажем, — но прошло несколько месяцев, прежде чем Ольга Васильевна сообразила, что она совсем не видит ни Гену, ни Мару, общение ограничивалось звонками. Давно не раздавался радостный Генкин клич: «Будем обща!» Сообразивши, она отнесла этот факт на счет Фединой смерти. Все-таки чаще собирались у Феди. Кроме них троих там бывали еще Федины друзья — физик Щупаков с женой-болгаркой по имени Красина и чета врачей Лужских, она рентгенолог, он психиатр, из-за Лужских Ольга Васильевна, собственно, и ходила к Феде и Луизе, потому что медицина очень интересовала ее и она любила разговаривать с врачами.
Но Луиза после смерти Феди не собирала друзей, были у нее лишь однажды на поминках и потом еще раз в шестилетие Фединой гибели. Гена Климук и раньше-то не особенно звал к себе, вечно он что-то перестраивал, ремонтировал или же менял квартиры, неуклонно расширяя площадь и переезжая во все более фешенебельные районы. Теперь, кажется, обосновался на новом Арбате, в небоскребе, где магазин «Мелодия».
Сережа как-то сказал, посмеиваясь:
— А наш Гена действительно стал важной птицей. Даже бросается в глаза. Когда Федя был на этом месте, я почему-то не замечал…
Она спросила: что именно важное и птичье проявилось в Гене? Сережа похмыкивал, отмалчивался. Она знала, что рано или поздно не выдержит и расскажет. Так и вышло: через несколько дней «раскололся». В профкоме возникли туристские путевки во Францию, одиннадцать дней, шесть дней Париж, пять — Марсель, Ницца и прочее, мечта жизни стоимостью в кругленькую сумму. Так как путевок было всего четыре, в профкоме решили не рекламировать, а распределить, что называется, втихаря. Сережа узнал случайно, и вовсе не от друга Гены, а от секретарши Ивана Евдокимовича, которая к Сереже благоволила. Желающих поехать было много. Сначала профком нацелился кинуть жребий, но затем тот же Климук проявил осмотрительность, сказав, что жребий внесет ажиотаж и опасную бесконтрольность, выдав путевки тем, кому вовсе не нужно ехать во Францию, и обойдя тех, кому это настоятельно нужно. Собственно, тут была разумная логика, как во всем, что отстаивал Климук. Но вот загвоздка: кто будет решать, кому нужно и кому не нужно? Сережа как-то прямо сказал Климуку, что Париж ему необходим не для прогулок и развлечений — тут была капля лицемерия, конечно, — а для того, чтобы порыскать там за материалами, нужными для работы. Всякий знает — и Климук знал прекрасно, — что, изучая русскую охранку, историк непременно сталкивается с Францией, с эмиграцией, русскими агентами. Можно было все это внятно объяснить, потому что Сережа был прав, имел полнейшее законное основание претендовать на поездку, но Климук как-то кряхтел, переспрашивал, уточнял — хотя чего было кряхтеть, когда дело абсолютно правое? — и Сережа, потеряв терпение, сказал ему что-то грубое, по-свойски. Что-то вроде: «Брось занудствовать!» или «Брось пыжиться, Генка!»
Климук пожал плечами и холодновато ответил:
— Ты изложи свои доводы, треугольник будет решать. Пойми, вопрос этот не такой простой, как кажется.
Слово «пойми» было единственным прежним и человеческим во всем разговоре.
Сережа был подавлен, рассказывая про Климука.
Она решила, что Сережа, может быть, преувеличил, уязвлен мелочами, и в особенности главной мелочью: тем, что Климук разговаривал с ним как начальство. А что делать? С этим надо смиряться. Он начальство, ты подчиненный. С этим надо жить. Втайне от него, когда он ушел куда-то из дому, она позвонила Маре просто как приятельница. Почему не звоните, куда пропали, что у вас слышно и так далее. Она поняла, что надо действовать. Сережа был удручен, хотя ничего еще не случилось, а что же будет, когда на самом деле откажут? Ей хотелось, чтоб он поехал. «Убег» в Париж мог бы дать ему силы и стать поворотом. Когда на человека обрушиваются одна за другой неудачи, даже не обрушиваются, а просто мягко и привычно садятся на него, как птицы садятся на дерево, человек начинает цепенеть душой, становится бесчувственным и сам постепенно превращается в дерево. Уйма денег нужна, денег не было. Решили так: половину он достанет сам, продаст знакомому книжнику восьмитомник Стефана Цвейга, издательство «Время», великолепный экземпляр в любительских переплетах с красной кожей на корешке, когда-то заплатил за него полторы тысячи старых рублей, а другую половину достанет она, попросит у матери.
И вот позвонила Маре и фальшиво-веселым, приятельским тоном болтала с нею, еще не зная, что из этой болтовни выйдет. Хотелось прощупать, но ничего не прощупывалось, Мара разговаривала таким же манерным и якобы приветливым голосом, как обычно, сообщала глупости, хохотала некстати, была, в сущности, невыносима, но все это было не ново, и Ольга Васильевна слегка успокоилась и решила, что ничего не изменилось и он напрасно впал в панику. Однако Мара была слишком тяжеловесной и не тонкой организацией, чтобы реагировать чутко, следовало поговорить с Климуком, и Ольга Васильевна вовсе неожиданно для себя стала зазывать Мару и Гену в гости. На дачу, в Васильково. Было лето в начале, прекрасная пора, покупаться, позагорать, пошататься в лесу… А? Почему бы не собраться без долгих размышлений — хоть в субботу, хоть в пятницу, когда угодно. Мара сказала, что она лично согласна, но не знает, как Гена. Он ужасно много работает, они никуда не ходят, совсем одичали. Гена был в другой комнате, просил передать привет и сказать, что как-нибудь приедут непременно.
Сережа ворчал:
— Получается нелепо: я вижу его чуть ли не каждый день и не зову, а ты не видишь никогда — и зовешь…
Но, в общем, кажется, был доволен. Нет ничего болезненней треснувшей дружбы. Каждый вечер она спрашивала:
— Ты видел Климука? Они собираются к нам?
— Видел, но не спросил… Навязываться не хочу…
То, что было раньше естественно и легко, превратилось в проблему. У него язык не поворачивался задать простой вопрос: «Гена, когда вы к нам приедете?» Но однажды вернулся из института возбужденный и сообщил, что Климук сам зашел к нему в комнату и сказал, что если приглашение в Васильково остается в силе, то в субботу они заедут ненадолго.
— Ненадолго? — спросила Ольга Васильевна.
— Ну, не знаю. Он так сказал.
В пятницу купили продуктов, две бутылки водки, две сухого, несколько бутылок пива и на такси поехали в Васильково. Всю неделю там жили Иринка и свекровь одни, с тетей Пашей. Приезжать на дачу в будни было тяжело: далеко от станции, рано вставать, электричкою почти час. И все же, когда выбиралась порой после работы, выходила на платформу, как бы ни была замучена долгим путем, толкотнею в очередях, по магазинам, какой бы лошадиный воз свертков, кульков, батонов, банок и книг, набитых в сетки и сумки, ни тащила, — сразу орошал ее прохладный лесной воздух, она вздыхала глубоко-глубоко, как ни разу за целый день не могла вздохнуть в городе, и с наслаждением ощущала, как медленно выходит из нее усталость и все ее существо полнится новой силой. Было так здорово! Откуда она бралась, эта сила, после изнурительного дня, дробившего без пощады, без роздыху? От неба, леса? Оттого, что он шел рядом и мурлыкал что-то задумчиво, таща сумки, или рассказывал, покуривая, о деревенских новостях? Тетя Паша принесла сметаны из сельпо, Рыжик опять гонял курей у соседей…
У него были присутственные дни в институте, остальные дни — иногда три-четыре кряду — он мог сидеть на даче. Встречал ее на платформе, забирал сумки, и они шли сначала в толпе дачников по дороге, вдоль зеленой ограды, потом сворачивали к дубовому леску, дачники рассеивались, и когда, миновав лесок, выходили к полю, на васильковский большак, они обыкновенно оказывались одни. Дачники селились в домах вблизи станции, а те люди, что жили в Василькове, не приезжали поздно из Москвы. Поле было огромное и выпуклое. Деревня лежала внизу, за увалом, казалась провалившейся, закатившейся как бы за край поля, кое-где торчали из провала крыши изб с высоко вскинутыми телевизионными антеннами, туманными грудами серебрились ивы вдоль невидимой речки, мальчик в красной рубахе ехал тропою поперек поля на велосипеде, и где-то стрекотал в тишине трактор. Небо было светлое и такое, что хотелось смотреть вверх. А в городе неба не замечали и никогда не хотелось смотреть вверх.
До деревни было версты три, и еще в городе мечталось: лишь бы доплестись, дотащить, поесть наскоро, напиться чаю — и на боковую, в большую тети Пашину комнату с запахом свежего сена и чебреца, растыканных пучочками по углам для «духа», потому что никаких сил не было. А получалось каждый раз так: после чаю шли с Иринкою в рощу, в десять укладывали ее и потом еще долго гуляли вдвоем, — если привязывалась Александра Прокофьевна, то ходили недалеко и возвращались скоро, но свекровь осмеливалась на этакое не часто, все же соображала, что мужу и жене надо побыть вдвоем, — а то и купались в омуте, сидели на берегу, болтали с соседями, и все откуда-то брались силы и не хотелось спать.
Но были, конечно, и дожди, холода, дорога через поле превращалась в непролазную топь, и наступала великая деревенская скука. Александра Прокофьевна писала кому-то бесконечные письма, Иринка ныла и жаловалась то на ухо, то на животик, и Сережа бегал под дождем за медсестрой Агнией…
Климук приехал на своей старой «Победе» и привез гостя, замдиректора института Кисловского. Этого Кисловского никто не ждал. Ольга Васильевна заметила, как Сережа, увидев выходящего из машины Кисловского, съежился на секунду и сделал губами хорошо ей знакомую гримасу, означавшую: «Вот те на!» С Климуком была Мара в сногсшибательном темно-зеленом брючном костюме — тогда они только входили в моду, привозили их из-за границы, — в белых босоножках, с белой сумочкой, с белыми клипсами, ослепительная модница, превратившаяся с помощью хны в ярко-рыжую. Все в Маре с головы до ног было ново и неузнаваемо и поразило Ольгу Васильевну. Приятного мало: сидишь дома в фартуке, в затрапезном — и вдруг является твоя, скажем, добрая знакомая в этаких перьях… Но дело было не в Маре. Ничто ее не спасало. Глупость из нее так и сочилась. Если бы она, бедная, сидела молча, задумчиво улыбалась, держа в тонких пальцах сигарету, она была бы неотразима, но ей хотелось непременно высказываться. Она даже пыталась спорить с Ольгой Васильевной по проблемам биологии. Нет, Мара не могла испортить Ольге Васильевне настроение.
Испортила другая. Та, что приехала с Кисловским. Имя ее теперь забылось. Эта молодая особа, какая-то развинченная, цыганистая смуглянка, худая и ломаная, сразу не понравилась Ольге Васильевне. Она была вся в бренчащем серебре, в браслетах, бусах, дорогих и красивых. Но нелепо было надевать эту сбрую для поездки в деревню и говорило, конечно, о дурном вкусе.
Ольга Васильевна сразу же, улучив минуту, спросила у Мары тихонько: чем занимается жена Кисловского? На что Мара, как и предполагала Ольга Васильевна, сказала, что она такая же его жена, как «я твоя бабушка».
Словом, очередная климуковская наглость. Однажды он привел каких-то сомнительного качества девиц будто бы с телевидения, причем без звонка, без спроса, на городскую квартиру, и Сережа, слегка спятивший на долге товарищества, уже готовился поить их остатками французского коньяка и угощать печеньем, но Ольга Васильевна, вернувшись с работы и быстро разобравшись в ситуации, твердой рукою все это пресекла и незваных спровадила. Климук был тогда очень зол. Но теперь чувствовал себя хозяином: ведь его так зазывали! И кроме того, теперь он явился с Марой.
— Мы на одну минуту… Мы по дороге на водохранилище… Просто секунду передохнем… — говорили они, как бы прося извинения за свой налет, за чужих людей, которых привезли, и одновременно выказывая легкое пренебрежение, ибо визит, стало быть, случаен, мимоездом, и не следует принимать его всерьез.
Ольга Васильевна сбивалась с ног, Иринка помогала, тетя Паша содействовала, таскала из погреба то капусту, то огурцы, то грибков соленых, гоняла сына Кольку в сельпо за хлебом — тот мчался на мотоцикле, радостно всполошенный от предвкушения выпивки, — и только Александра Прокофьевна не подходила к плите, не притрагивалась к посуде и занималась на терраске, разгороженной куском холстины надвое, своей писаниной. Она отвечала на письма читателей для какой-то газеты, где вела в общественном порядке рубрику «Наша юрконсультация». Ведь когда-то работала в судах, была адвокатом. Ольге Васильевне не верилось, что она могла быть хорошим и справедливым адвокатом. Нет, не верилось нипочем, но с Сережей она об этом не говорила.
Обедали в садике за домом. День был жаркий, под яблонями душил зной. Больше всего пили ледяную колодезную воду, Колька носил ведрами, бегал к колодцу — а вода в Василькове была в самом деле удивительная! Нигде слаще и холодней Ольга Васильевна не пивала… В Ереване хуже, там они хвалятся, что у них какая-то особенно замечательная… Ах, что вспоминать! Томило что-то, раздражала та девица, что приехала с Кисловским, задевали ее поглядыванья на Сергея, и кокетливые переспросы, и то, что он глупо хмурился и отвечал неловко, и болтовня Мары, и беспокоило то, что не хватит еды, вина и Сережа не успеет поговорить с Климуком насчет Франции, и как себя вести с этим Кисловским, прилизанным, каучуковым, похожим на циркового артиста, — а все-таки было такое истинное, летнее, молодое, неповторимое — ну, ну, что же? — счастье, наверно… Тогда оно и было, на деревенском дворике, где пахло землей, навозцем, сладким духом июньской пылающей зелени, где за спиной что-то хрюкало, а впереди что-то ломилось с мыком и топом узкой улочкой — Матильда, умница, сама, треща воротами, заваливалась в свой загон, а пьяненькая тетя Паша махала задорно коричневым кулачком: «А ну ее к богу в рай, шалопутку!» — потому что их «секунда» давно отлетела, и день отлетел, и настал вечер, а они все сидели, пили, бубнили, болтали, давно уж опорожнились бутылки, и Колька на мотоцикле гонял к какой-то бабке Кренделихе на другой край деревни за самогоном.
Ольга Васильевна зашла в горницу и увидела, как Кисловский, обхватив свою спутницу за талию, норовил опрокинуть ее на высокую хозяйскую кровать. Спутница, бренча серебром, сопротивлялась.
Ольга Васильевна вернулась во двор и, подойдя к Сереже, который беседовал с Климуком о чем-то совершенно пустом и несущественном, сказала ему на ухо, что видела сейчас в горнице нечто маловысокохудожественное.
— А если это любовь? — спросил он, глядя осоловелым взором. Он не был так пьян, как прикидывался. В его взгляде была покорность судьбе.
— Ну, для такой любви есть определенные заведения, — сказала она, — а не изба тети Паши.
Тетя Паша, не поняв, о чем речь, но уловив свое имя, воинственно ерепенилась:
— Чего тетя Паша? Ты тетю Пашу не трог! Тетя Паша — я те дам! Я вас, ребяты, всех тут раскурочу… — И трясла пальцем. — Все ваши тайности разберу… Коль, ты там этого, скажи…
Колька был бригадмилом, чем немало чванился, всем об этом сообщал под секретом. Вообще-то он работал плотником в совхозе. Был невысок, худощав, с чахловатой бледностью на мягком, девическом лице, волосы носил длинные, как семинаристы в Загорске, играл посредственно на гитаре, и, помнится, девушки его осаждали вечерами. Тетя Паша огорчалась, что вот, черт такой, не женится и «только силу свою переводит». А в армию Кольку не брали по здоровью, из-за слабого сердца, пить ему было запрещено — не больше стопки в день, как он рассказывал со слов врача, сокрушаясь и в то же время не без некоторой гордости, как о необычной особенности своего организма, — но запрет, разумеется, нарушался, и чуть ли не ежедневно.
Александра Прокофьевна очень следила за здоровьем Кольки, всегда его корила, когда видела пьяным, и, надо сказать, ее одну он выслушивал. Странное свойство у старухи! Близкие люди ее в грош не ставят, — да и не за что ставить, близким людям ее качества хорошо ведомы, — а вот посторонние уважают и даже побаиваются. По-видимому, там есть неодолимая потребность властвовать, чему люди простые, невысокого интеллекта, сразу подчиняются, а люди мыслящие органически этому противятся.
И в тот вечер, когда после затянувшегося обеда в сумерках пошли гулять в рощу — Кисловского едва выманили из горницы, — Александра Прокофьевна завела придирчивый, похожий на судебное разбирательство разговор с Климуком, с которым вообще была крайне непочтительна. Она его помнила совсем юным, по студенческим временам, когда он приходил, драный, тощий и голодный, из общежития («Всегда был голоден, когда бы ни пришел, и всегда мог съесть столько, сколько было, и еще сверх того, пять котлет, восемь котлет, двенадцать котлет, что-то фантастическое») и Сережа оставлял его ночевать, они играли в шахматы до полуночи, дымили папиросами, вместе готовились к экзаменам, ссорились, мирились, она называла его Гешей, считала добрым малым, но несколько лопухом, Сережа натаскивал его по диамату и языку, и вот он так выдвинулся, стал Сережиным начальником. Она замечала, как отношения сына с Геннадием переменились незаметно ни для кого, и для Ольги Васильевны тоже, но она-то застала все это вначале, когда мальчики в ковбойках пили чай на кухне, намазывая огромные куски хлеба яблочным джемом, и был еще третий мальчик в ковбойке, говоривший баском, раньше всех обзаведшийся женой и сыном, несчастный Федя, которого она любила. А теперь, замечала она, сын держится с этим дубоватым Гешей как-то скованно и даже немного стеснительно, как положено держаться подчиненному в присутствии начальника, и это было несносно, за Сережу обидно. Если Климук важничает, превратился в надутого совбюрократа из тех, над которыми смеялись еще в двадцатые годы, то Сереже ни в коем случае нельзя поддерживать этот стиль, надо сшибать с него спесь, учить его уму-разуму, этакого дурачка долговязого! И Александра Прокофьевна подчеркнуто говорила Климуку «ты», называла его Гешей, как в старину, всячески сшибала с него спесь.
— Что-то я позабыла, память стала изменять, — говорила она. — Кстати, странно, памятью я всегда гордилась, с гимназических лет… В каком году, Геша, приезжал твой брат из Кременчуга? Он у нас жил, я ему адвоката нашла… Какое-то дело, связанное с хищением…
— Александра Прокофьевна, что за охота вспоминать допотопные истории? — вступила Ольга Васильевна, догадавшись, что Климук надулся и раздражен, что, конечно, не поможет предстоящему разговору.
— Нет, я хорошо помню, что звонила Елизавете Марковне в городскую коллегию, а если Елизавете Марковне — это значит дело хозяйственное, она такие дела любит, не то что любит, а разбирается в них, знает бухгалтерию… Ведь там что важно? Сумма хищения. Надо каждую копейку отбивать…
Сила старухи была такова, что пьяный люд как-то притих и несколько протрезвел, прислушиваясь к рассказу, который она завела на правах старшинства. Напрасно жаловалась на память, все помнила отлично. Климук мрачнел, напрягался, вдруг стал хохотать:
— Слушайте, это же театр абсурда! Какой-то гиньоль! Бог мой, зачем все это помнить — мне, вам, кому бы то ни было?.. Есть такое понятие: историческая целесообразность… Вы знаете, кто сейчас мой брат?
Хохоча и хвастаясь, рассказывал что-то о своем брате. Все стали почему-то смеяться. И так, беспричинно смеясь, подошли к излучине реки, где был песчаный бережок, место купанья. Днем тут бултыхалась детвора, загорали дачники, деревенские мальчишки прыгали солдатиком с железной стойки, а теперь было пустынно, белели в сумерках газеты на сером песке. Вода была холодная и пахла тиной. Мужчины купались, женщины сидели на травяном склоне и разговаривали, но для Александры Прокофьевны такое занятие — сидеть на траве и разговаривать — было чересчур женским и мещанистым, и она сообщила, что тоже будет купаться, в стороне от мужчин и вдали от женщин, и просила за ольху не заходить. Минут через двадцать из-за ольхи раздался зов о помощи: Александра Прокофьевна не могла выбраться из воды на глинистый скат и просила, чтоб Сережа подал руку.
Мара, при всей ее недалекости, кое-что поняла и шепнула Ольге Васильевне:
— Я тебе сочувствую!
Тот вечер запомнился другим. Сережа прицепился к климуковским словам насчет исторической целесообразности. Тут было что-то больное. Сначала они мирно перебранивались в воде, дурачились и брызгали друг в друга, как мальчишки, потом спор стал тяжелеть, и на обратном пути в деревню спорили вовсю, хмель после холодной воды исчез, они начали говорить резкости, в спор впутался Кисловский. Это было связано с работой Сережи, с какими-то другими работами, вообще со взглядом на историю.
Может, с того пьяного вечера в Василькове, — на самом деле, наверное, раньше, но в сознании Ольги Васильевны тот вечер отпечатался началом — затеялась долгая распря между Сережей, Климуком и всеми остальными, которая так мучила его и кончилась печально. Когда пришли в тети Пашину избу, сели на терраске пить чай, Сережа и Климук уже кричали друг на друга в озлоблении. Она не думала, что Климук может быть таким злым.
Про Сережу-то знала: когда влезал в спор, его охватывала неистовость, он забывал о правилах приличия, о великодушии. Ему нужно было одно — доказать.
— Вот у тети Паши в горнице старинные часы в деревянном футляре! Откуда они у вас, тетя Паша? — кричал Климук, выбрасывая правую руку, как на трибуне.
— А я знай! Отец откель приволок, наменял, говорит, в голодные года…
— Наменял, приволок — все едино. И все не важно, а важно лишь то, что время показывают верно и каждые полчаса играют Штрауса. Правильно я говорю, тетя Паша?
Тетя Паша чопорно поджимала губы:
— Мне ни к чему, милый человек, только я вам не дозволяла меня тетей Пашей звать…
— Правильно, руби меня сплеча! Все не важно и не имеет значения, кроме исторической целесообразности, — запомни это, тетя Паша, и плесни, пожалуйста, еще чайку. Моя мать, кстати, такая же тетя Паша, вроде вас, только зовут ее тетя Павлина и живет она в Белгородской области, Шебекинском районе…
— Историческая целесообразность, о которой ты толкуешь, — говорил Сережа, — это нечто расплывчатое и коварное, наподобие болота…
— Это единственно прочная нить, за которую стоит держаться!
— Интересно, кто будет определять, что целесообразно и что нет? Ученый совет большинством голосов?
Он настолько зарвался, что забыл о том, что Кисловский как раз председатель ученого совета. Ольга Васильевна надеялась, что люди, пившие целый день и моловшие ерунду, позабудут, кто, что и зачем говорил всерьез, но, как оказалось, те запомнили Сережины выкрики хорошо. Люди обижаются не на смысл, а на интонацию, потому что интонация обнаруживает другой смысл, скрытый и главный.
Когда Сережа браво шутил: «Ученый совет, что ли, большинством голосов?» — и презрительно усмехался, эта усмешка оскорбляла сильней, чем слова. И уж Кисловский вряд ли ее забудет. Сережа был болтлив, неосторожен и сеял себе врагов. Скольких он наплодил — шуточками, спорами, ядовитостями, неумением вовремя сдержаться и сообразить. Чего стоит кличка, которую он налепил Климуку в ту пору, когда они еще не стали окончательно врагами, но к этому шло: Геннадия Витальевича прозвал Генитальич. В институте подхватили с восторгом. А зачем это нужно — так озлоблять? Было поздно. Они все сидели и сидели. Мужчины спорили, галдели, дымили, допивали остатки — Кольку опять гоняли к Кренделихе, — женщины клевали носом, Иринку давно уложили спать, Ольга Васильевна зевала и всем видом показывала, что смертельно устала, и в открытые окна глядел из темной синевы высокий месяц.
Нет, не уезжали! Тоже зевали, потягивались и тоже всем видом выражали смертельную усталость и желание где-нибудь прикорнуть до утра. Потом был разговор между Сережей и Климуком — мужчины ходили в домик на другой конец двора и когда вернулись, гости сразу стали прощаться. Ольга Васильевна поняла, что между мужчинами что-то произошло: после нового вечернего хмеля оба как-то угрюмо протрезвели. Кисловского втащили в машину в летаргическом состоянии. Мара села за руль, она нарочно не пила, чтобы дать возможность гульнуть мужчинам. Странно: глупенькая Мара показалась Ольге Васильевне единственным нормальным человеком среди этой четверки. Чмокнув Ольгу Васильевну в щеку, она шептала, довольная:
— Правильно, что он их не оставил! Ну их… Подумаешь, персоны граты!
Колька свистел в бригадмильский свисток и, размахивая руками перед фарами машины, орал:
— Эт-та почему такое — выпимшие за рулем? Кто разрешил? А ну, вылазть, машина не пойдет!
Сережа рассказал, что Климук просил оставить на ночь Кисловского со спутницей. Собственно, ради этого они и приехали. Он разозлился и отказал. Климук уговаривал, убеждал всячески:
— Ты меня приглашал с ночевкой, я имею право на два койко-места на твоей даче, ну, так я уступаю эти места своим друзьям… — Потом стал угрожать: — Старик, ты поступаешь опрометчиво. Пеняй на себя… — И, наконец, едва не со слезами в голосе умолял: — Старик, сделай это ради меня! Я твердо обещал! С твоих слов! Как я буду выглядеть после такого обмана?
Сережа сказал, что почувствовал внезапное и непреодолимое отвращение.
— Я вдруг догадался, что передо мною торгаш. Наша дачка была товаром в каких-то его операциях. Ему он обещал это, а тот обещал ему что-то другое, и вот вся сделка рушилась… Какую он мне закатил истерику! Как шипел, как клокотал в ярости! «Ты негодный товарищ, на тебя нельзя положиться. Ты ненавидишь людей». И этот неподдельный гнев не оттого, что он сочувствовал приятелю, а оттого, что у самого что-то отнимали. Я его ограбил, понимаешь?
А почему нельзя было оставить парочку ночевать? Цыганистая девушка была, конечно, мерзка, но если Кисловский столь важная фигура и Климук просил… Уложить их в комнате, самим на терраске… Но у Сережи было несуразное, вкусовое отношение ко всему, даже к серьезным делам и к собственной судьбе. Он делал то, что ему нравилось, и не делал того, что не нравилось. Кстати, тут крылись причины его вечных недоразумений.
— Вдруг чувствую, что я тоже торгаш и принимаю участие в какой-то длинной и скучной сделке. Стало тошно, и я отказал. Сославшись на тебя. Дескать, ты у меня строгих правил… Да ну его к бесу!
Боже мой, теперь очевидно, какая это была цепь глупостей и жалких изобретений! Не надо было зазывать их на дачу. Не надо было, коль уж зазвали, фордыбачить и обижать. И не надо было так уж рваться в прекрасную Францию…
Разумеется, в Василькове Сережа не сказал ему ни слова, и правильно поступил, но — зачем тогда это судорожное гостеприимство? Прошло два дня. Он поехал в институт. Вернувшись вечером домой, на Шаболовку, в радостном возбуждении рассказал: Генка был очень приветлив, дружелюбен, расспрашивал, как самочувствие Ольги Васильевны, свекрови, Иринки, тети Паши и бригадмила Коли и не набедокурили ли гости в пьяном угаре. Сережа отвечал, что все было высокохудожественно, претензий у хозяйки нет. И в том же полушутливом тоне:
— А Эдуард Николаевич не говорил каких-нибудь слов? В связи с нехваткою мест в гостинице?
Нет, никаких слов, потому что говорить было нечем: до самой Москвы язык у Эдуарда Николаевича не шевелился. А лишь только въехали в Москву, он произнес хриплым голосом первое слово. Это был почему-то вопрос: «Принесли?» Так никто и не понял, что это значило.
Постояли, похохотали в коридоре и разошлись. А что насчет Франции? Пока ничего. Полная неясность. Вообще-то Климук поговорит с кем нужно, он обещал.
— Старуха, не суетись! Генка сделает, это не проблема…
В ту минуту он, кажется, искренне в это верил.
Проблема была — добыть деньги. Сначала Ольга Васильевна втайне поговорила с матерью, которая часто выручала ее, давая небольшие суммы взаймы и просто так, без отдачи, но тут мать заколебалась: сумма ошеломила ее. Таких денег у матери не было, Георгий Максимович давал ей на расходы помесячно.
— Неужели этот вояж так уж необходим? — Мать слабо пыталась сопротивляться. — В вашем доме столько дыр. Тебе нужна шуба, Иринка из всего выросла… И потом: если бы уж вдвоем!
Ольга Васильевна объяснила, что вдвоем совсем невозможно, да и никто не предлагает вдвоем, а ему такая поездка была бы полезна во всех смыслах. Мать не вполне понимала, о каких смыслах речь, растолковать было трудно, речь шла о понятиях таинственных, — например, о присутствии духа, о самоутверждении, — но она поверила Ольге Васильевне. Мать всегда верила ей в конце концов. Обещала поговорить с Георгием Максимовичем. На другой день позвонила и сказала, что Георгий Максимович просил Сережу зайти.
Были уверены, что «зайти» значило просто зайти, чтобы взять деньги. В субботу поехали втроем. Мать и Георгий Максимович уже три года жили на новой квартире, недалеко от прежнего дома на Сущевской, где осталась мастерская. Дела у Георгия Максимовича шли теперь очень хорошо, он занимал какие-то выборные должности, чем-то распоряжался, где-то преподавал и работал слегка. Много работать запрещали врачи. Но он все равно любил уходить с утра в мастерскую, и если не писал и не рисовал, то потихоньку возился с картинами, маленьким молоточком вбивал в багеты гвоздики, укрепляя картон, перебирал листы, кое-что поправлял, не напрягая зрения, или же приглашал какого-нибудь приятеля со второго или первого этажа, и они согревали чай на плитке, обсуждали дела, вспоминали прошлое и одновременно рассматривали репродукции, богатейшую коллекцию Георгия Максимовича, разложенную по громадным папкам.
Сережа относился к Георгию Максимовичу неплохо, считал его порядочным человеком и даже испытывал к нему нечто вроде благодарности: не за то, что тот творил на полотне и бумаге, а за то, как вел себя в качестве отчима Ольги Васильевны. Но однажды он сказал Ольге Васильевне:
— Есть такие детские картинки: смотреть на них сквозь розовую пленку — видишь одно, сквозь голубую — совсем другое. Вот твой отчим, прости меня, напоминает такую картинку. То вижу его художником, настоящим, жертвующим ради искусства всем, а то дельцом, гребущим заказы…
Ольге Васильевне не понравилось, ей показалось, тут унижение матери. Она не могла бы полюбить дельца. В том-то и дело: она полюбила несчастного, неустроенного, голодного и нищего, но чистого человека… А кто процветал в эвакуации? Если б он был дельцом, он бы процветал. Он не умел зарабатывать на хлеб. Не умел ничего, кроме мазюканья кисточкой по бумаге. Единственную пару ботинок, высоких, черных, с тупыми, расплющенными носами, — они хорошо ей запомнились, — он утром обвязывал шнурком, потому что отлетала подошва. Это потом, спустя годы, десятилетия, дела его изменились и он стал легко зарабатывать деньги.
Мать как-то шепнула ей, что денег у Георгия Максимовича на книжке довольно много. Конечно, это было хорошо. Ольга Васильевна могла быть спокойна за мать, да и ей самой в худую минуту было куда ткнуться…
Но Сереже не хотелось в ту субботу идти к тестю. Он как будто чуял неприятное.
— Пойди одна. Я тебя прошу…
— Нет, Сережа, неудобно. Деньги просишь ты для своей поездки. Если ты не пойдешь, это будет воспринято как барство. Ты и так ходишь к ним редко.
— Скажи, что я заболел. Я действительно плоховато себя чувствую.
— Нет, если не пойдешь, я не пойду тоже. Тогда все отменяется.
Его нежелание идти к родственникам показалось ей чрезвычайно обидным. Те делали благородный жест — у кого бы он занял такую сумму? у дружков-приятелей? черта с два! — а от него требовался минимум внимания; посидеть, выпить чайку, поговорить со стариками. Ну, и, конечно, сказать «спасибо» или «я вам благодарен», два слова в знак признательности. Неужто трудно? Нет, не трудно, даже приятно поболтать с Георгием Максимовичем, который столько знает и жил в том же Париже, на рю де Муфтар, о чем мы много наслышаны, но… Э, да что говорить! Если непонятно сразу, тогда нечего объяснять. Тошнотворная невыносимость — вот что такое просьбы, и это делает все разговоры, чаепития и родственные встречи фальшивыми.
— Поэтому я тебя просил, — видишь, опять просьба, опять невыносимость! — если можно, избавь меня от этого испытания. А если нет — пожалуйста, идем…
Она должна была понять его, но — не поняла, потому что мысли ее были заняты матерью, которой тоже было непросто и, может быть, невыносимо, но она пересилила себя и попросила.
— Приходится иногда делать неприятное, — сказала она непреклонно. — Ты этого не любишь, я знаю. Теперь решай: пойдем или останемся дома?