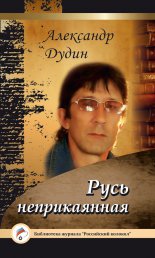Убежище Булычев Кир

Пролог
«Дом рождений» Инчантмент,[1] Нью-Мексико Июнь 1993 г
У Лидии Кейн был умный и проницательный взгляд. Хоуп Теннер смотрела в ее глаза, черпая в них силы, когда накатывал очередной приступ боли. Схватки шли почти непрерывно и с каждым разом становились сильнее, а ноги вздрагивали – то ли от боли, то ли от страха. Она сама толком не понимала. Ей было всего семнадцать.
– Вот оно, – сказала Лидия от изножья кровати. – Ты почти у цели, милая. Просто расслабься и дыши.
– Я хочу тужиться, – с трудом выговорила Хоуп. Она не перенашивала, но все равно очень беспокоилась за исход родов. Лидия смазала ей шейку матки гормональной мазью и сказала, что это должно запустить процесс родов. Но ребенок оказался упрямым. Схватки начались на исходе дня и только сейчас, в четыре часа утра, они наконец стали по-настоящему сильными.
«Еще одно наказание Божье», – решила Хоуп. Она сбежала от братьев,[2] отказываясь делать то, что ее отец называл желанием Бога, и теперь расплачивалась за это.
– Пока еще рано тужиться, – твердо сказала Лидия. – Матка полностью не раскрылась, и могут быть разрывы. А мы этого не хотим. Постарайся отдохнуть, пока я оценю результаты последних схваток.
Лидия стала проверять, насколько продвинулся вперед ребенок, и Хоуп уставилась в потолок. Она очень устала оттого, что ее щупают внутри и снаружи, но никогда бы в этом не призналась. Лидия может счесть ее неблагодарной. Почти всю беременность она провела в полном одиночестве, бесцельно мотаясь из города в город. И не собиралась сейчас злить единственного человека, который взял ее к себе жить. Лидия была такой решительной, такой сильной. И как Хоуп ни любила ее и как ею ни восхищалась, все равно немного ее побаивалась. Лидии было около шестидесяти, и она владела родильным центром. Но при этом она не была этакой доброй бабушкой и ничем не напоминала терпеливую мать Хоуп. Высокая и угловатая, с пронизывающим взглядом серых глаз и седыми волосами. Она часто бывала резка. Казалось, знала все на свете и могла заставить людей – а может, даже события – подчиняться ее желаниям. Лидия раздавала приказы, как и отец Хоуп, и последнюю это безмерно удивляло. Она не подозревала, что женщины могут обладать такой властью.
– Все в порядке? – спросила Хоуп, слабая, дрожащая и измотанная.
– Просто прекрасно.
Лидия стала водить по ее лицу ледяными кубиками. Кулон, который она всегда носила на шее, – мать, укачивающая младенца, – закачался и привлек внимание Хоуп. Она уже давно с жадностью смотрела на него. Она тосковала по любви, поддержке и защите, которые тот символизировал. Но Хоуп знала, что не сможет так прижать к себе своего ребенка. Этого, во всяком случае.
Закончив протирать ее лоб, Лидия снова стала массировать ей ногу. Она утверждала, что, нажимая на определенные точки, можно ослабить боль – и назвала это рефлексологией. Но Хоуп не была уверена, что это помогает. С ее точки зрения, единственное, что давал этот массаж, – возможность немного отвлечься.
– Теперь уже недолго осталось, – заверила ее Лидия, поглядывая на часы, словно куда-то опаздывала. Казалось, она тоже хочет, чтобы ребенок Хоуп родился поскорее. – Я бы перевела тебя в больницу, если бы было о чем волноваться, – продолжала она все тем же непререкаемым тоном. – Время тянется медленно, я знаю. Но сердцебиение ребенка сильное и ровное, он продвигается вперед. Первые роды часто бывают долгими.
Лидия как-то упомянула, что работает домашней акушеркой[3] уже больше тридцати лет. Конечно, она знает, о чем говорит. Но Хоуп доверяла ей независимо от профессионального опыта. Именно мужчины всегда подводили ее…
Подкатила очередная схватка. Подавив мучительный стон, Хоуп сжала руки в кулаки и стиснула зубы. Она не знала, сколько еще сможет выдержать. Казалось, кто-то раз за разом всаживает ей в живот нож.
Вокруг было тихо, только где-то неподалеку играла негромкая музыка. Не было ни Паркера Рейнольдса, администратора родильного центра, ни остальных акушерок, ни клерков. Все они ушли задолго до того, как Лидия разбудила Хоуп. В «Доме рождений» они были одни. С ароматными свечами, неярким светом и умиротворяющей музыкой ее палата была призвана стать уютной, как родной дом. Но желто-бирюзовые обои, покрытый испанской плиткой пол и деревянные ставни на окнах совсем не походили на тот дом, что был у Хоуп. В детстве она спала в одной спальне с тремя, а то и четырьмя сестрами. А свечи зажигали, только когда электричество отключали за неуплату. И слушать ей разрешали только классическую музыку и церковные гимны.
– Хорошая девочка, – сказала Лидия, когда Хоуп справилась со схваткой.
В данный момент Хоуп мало волновало, что у нее могут быть разрывы. Ей и так казалось, что, продвигаясь к выходу, ребенок делает в ее внутренностях дыру. Она просто не хотела вызвать недовольство Лидии. Несколько недель назад ультразвук показал, что у нее родится девочка, и Лидия обещала, что подыщет ей хороший дом. Хоуп не хотелось давать ей хоть малейшую причину нарушить свое обещание. В основном потому, что Лидия нарисовала поистине идиллическую картинку будущего ее ребенка. У ее малышки будет своя кроватка и одеяльце ей под цвет, и подушечки-бамперы, и игрушки, висящие над ней. Любящие родители будут возить ее на уроки танцев, помогать с домашними заданиями и потом отдадут учиться в колледж. А когда придет время, они оплатят для нее прекрасную свадьбу. Ее дочь выйдет замуж за доброго и сильного мужчину, у нее будет нормальная семья, и в конце концов она даже станет бабушкой. Она будет носить магазинную одежду и слушать любую музыку, какую захочет. Ей будет приятно ощущать себя женщиной. И что самое хорошее, она никогда не узнает, какой судьбы избежала.
Хоуп больше всего на свете хотелось такой жизни для своего ребенка. Когда ее дочь появится на свет и начнет свою жизнь, похожую на сказку, будет уже не важно, что случится с самой Хоуп.
Она уже подарила дочке единственное, что могла.
Шанс на лучшую жизнь. Она спасла ее от братьев.
– Сделка отменяется, – категорично заявила Лидия, заходя к себе в кабинет с новорожденным ребенком на руках. Ребенком Хоуп.
Страх забил глотку Паркеру Рейнольдсу. Он быстро глянул на своего тестя, конгрессмена Джона Барлоу, который ждал вместе с ним. Потом он перевел взгляд на ребенка, за которым они пришли.
– Что-то не так? – спросил он. – Что-то с Хоуп?
– И мать и ребенок в полном порядке, но… – она посмотрела на мужчин, – это – мальчик.
Мальчик… Сердце Паркера глухо забилось. Мальчик мог все изменить.
– Хоуп уже знает?
– Я еще не сказала ей, но…
– Отлично! – прервал Лидию конгрессмен. – Вы переживали, что будет выглядеть подозрительно, если Паркер и Ванесса получат новорожденного сразу после того, как Хоуп родит. Теперь им не придется переезжать, и вам не нужно будет искать нового администратора. Никто ни о чем не догадается.
Разрывающийся от сомнений Паркер сунул руки в карманы и отвернулся к окну. После двух выкидышей его жена так и не смогла больше забеременеть. А сейчас состояние ее здоровья не позволяет даже пытаться. Она больна, несчастна и в такой депрессии, что не встает с постели даже в «хорошие» дни. Она говорила, что ребенок все изменил бы, что он дал бы ей желание жить.
Паркер верил, что так и будет. Он верил, что, как муж, обязан сделать все, чтобы спасти ее. Но из-за болезни Ванессы с ними не соглашалось работать ни одно агентство по усыновлению. Так что это был его единственный шанс.
– Пол ребенка играл большую роль в ее решении отдать его на усыновление, – объяснила Лидия.
– Я бы не был в этом так уверен, – ответил Джон. – Прокормить мальчика ей будет не легче, чем прокормить девочку. Давайте называть вещи своими именами – она семнадцатилетняя девчонка, сбежавшая из дома. Что она может дать этому ребенку?
Паркер почувствовал, что его решимость заколебалась еще сильнее. Все казалось таким простым, когда он пришел к тестю с этой идеей две недели тому назад. Ванессе нужен ребенок. Ребенку Хоуп нужна семья. Лидии нужны деньги, чтобы держать на плаву родильный центр. Но сейчас простым это уже не казалось. Это казалось практически нереальным.
– Хоуп заслуживает права принимать решение, имея полную информацию, – сказал он.
– Ни черта подобного, – возразил Джон. – Не заслуживает она такого. Из твоих слов я понял, что миссис Кейн поселила ее у себя и целых два месяца заботилась о ней.
– У меня не было скрытых мотивов, когда я принимала ее к себе, – сказала Лидия.
– Не собираюсь заводить спор о чистоте ваших помыслов, – сказал Джон. – Просто выполните условия сделки. Я уже заплатил вам требуемую сумму.
Лидия прижала к себе ребенка.
– Я верну вам деньги.
– Когда?
Паркер знал, что ей будет трудно ответить на этот вопрос. Последние полгода родильный центр находился на грани закрытия. Деньги были уже потрачены на оплату счетов, зарплату сотрудников и оборудование.
– Как только смогу, – резко ответила Лидия.
– Принимая во внимание, что вы вкладываете в центр каждый цент, который получаете, не думаю, что было бы очень умно давать вам кредит, – сказал Джон. – Кроме того, мне не нужно, чтобы вы возвращали мне деньги. Я хочу получить обещанного вами ребенка.
Лидия подавленно оглядела кабинет.
– Этот центр – вся моя жизнь, – сказала она. – Я люблю его и сражаюсь за него больше тридцати лет. Но на этот раз я зашла слишком далеко. То, что мы делаем, противоречит моим убеждениям.
– Что мы делаем? – повторил Джон. – Вы уже сделали это, миссис Кейн. Вы сделали, когда взяли у меня деньги. – Он нетерпеливо махнул рукой. – Но сейчас вы пытаетесь сделать из мухи слона. Вы ничем не навредите матери этого ребенка. Так что пойдите и скажите ей, что отдаете ее ребенка на усыновление. В определенном смысле, конечно. Оно не будет оформлено законно, но какое это имеет значение? Вы…
– Какое значение? Как вы можете! – прервала его Лидия. – Мы нарушаем закон, конгрессмен. Вы-то уж должны понимать это лучше других.
Тесть Паркера умело натянул маску политика.
– Закон тут ни при чем. Главное, что ребенку ничего не угрожает. Он попадет в хороший дом, и нам обоим это известно.
Лидия долго смотрела на малыша, потом встретилась взглядом с Джоном.
– Ваша дочь тяжело больна. И как ни больно мне это говорить, я все равно скажу. Хоть никто из вас не хочет этого признавать, но есть шанс… – она бросила на Паркера извиняющийся взгляд, – что она не выкарабкается. Именно поэтому ей сейчас не получить ребенка законным путем.
– Вы думаете, я этого не знаю?! – загремел тесть Паркера, забыв про свое обычное «давайте поговорим об этом спокойно». – Я знаю, что моя дочь нездорова. И именно поэтому я не пойду объяснять ей, что она не сможет получить этого ребенка!
Паркер смотрел на их лица, отражающиеся в оконном стекле, и периодически переводил взгляд на лесной пейзаж. Он испытывал сильное желание встать и высказать свое мнение по некоторым пунктам. Хотя и не был уверен, что полностью на стороне Джона или самой Лидии. Он знал, как сильно жена хотела ребенка. И он хотел, чтобы она его получила. Но сейчас появился крошечный малыш, которого он должен привезти домой. И Паркера беспокоило совсем не то, что у него не было никаких прав забирать его – ни юридических, ни кровных, – его беспокоила необходимость лгать юной Хоуп. В этой девочке была какая-то хрупкость. И невинность. Ее симпатичное личико вспыхивало от радости всякий раз, когда кто-то по-доброму обращался к ней, даже по самому ничтожному поводу. И хотя отчасти он верил, что ребенок поможет жене выздороветь, чувствовал себя последним подонком, который использует отчаяние и доверие беззащитной девочки ради того, чтобы его тесть купил нечто, что он не имеет право покупать. Они с Лидией всю жизнь жили на соседних улицах, и она взяла его на работу в родильный центр сразу после окончания колледжа. Ему было противно, что он использует ее отчаянные попытки спасти центр.
– Какая разница, где будет расти ребенок, если о нем станут хорошо заботиться? – спросил Джон у Лидии. – Если вы отдадите ребенка на усыновление, нет гарантии, что он попадет в лучшие условия. Так вы по крайней мере знаете, что Паркер и Ванесса будут любить ребенка и заботиться о нем, как о своем собственном.
– И все равно это остается продажей, – сказала Лидия и ссутулилась.
– Верните мне потом эти деньги, если от этого вам станет легче, но Ванесса должна получить ребенка.
Паркер обернулся к ним и все-таки заговорил. Он понимал боль Лидии и чувствовал за это ответственность. Но они зашли слишком далеко, чтобы повернуть назад.
– Лидия, вы ведь знаете, что я дам этому ребенку все, что смогу. И он может все изменить для Ванессы.
Несколько секунд она не отрываясь смотрела на него, потом медленно подошла.
– Тогда тебе лучше отвезти его домой, – сказала она. – И ни слова больше об этом. Пока это зависит от меня.
С этими словами она быстро вышла из комнаты, а Паркер впервые взял на руки своего сына.
Глава 1
Десять лет спустя
Стиснув руль так, что побелели костяшки пальцев, Хоуп Теннер въехала туда, где хотела бы сейчас оказаться в последнюю очередь: в город Супериор,[4] штат Юта, население 1517 человек. Город тут же вызвал в ее памяти лавину воспоминаний – продуктовый магазин Брата Петерсена, который частенько угощал ее лакричными сладостями; начальная школа, куда ей разрешали ходить целых два года, – место, где она открыла для себя искусство и научилась творчеству; ратуша с башенкой и часами на четыре стороны, которые всегда наполняли гордостью ее детское сердечко.
Но еще был молитвенный дом с твердыми скамейками, на которых она сидела по многу часов со своими братьями и сестрами (коих было двадцать девять) каждое воскресенье и слушала, как святые братья восхваляют достоинства многоженства, общинной жизни и «принципа», как они его называли; пекарня тети Тельмы, где они заказывали торты на каждую свадьбу ее отца; старый амбар, где…
Хоуп на мгновение зажмурилась. «Не вспоминай про это, – приказала она себе. – Не вспоминай, и все».
С тех пор, как она сбежала из Супериора, прошло одиннадцать лет. Это были очень трудные одиннадцать лет, но она их пережила. Сейчас у нее было образование, стабильная работа медсестры и съемный домик в трех часах езды от городка под названием Сент-Джордж. И как бы Хоуп ни скучала по матери, она не собиралась сюда возвращаться. Но она вернулась – ради своих сестер.
На старом «шеви-импала», купленном у одного из соседей, Хоуп доехала до перекрестка в центре города. Она свернула налево к парку, восточная часть которого служила кладбищем, и влетела на покрытую гравием парковку. Был только полдень, и большая часть прихожан Предвечной апостольской церкви все еще находились на церковной службе. Парк был практически пуст. Но совсем скоро его заполнят женщины и дети. Может, будет и несколько мужчин. Тех, кто не уединился в молитвенном доме, где решали, кто будет говорить проповедь на следующей неделе, чья дочь станет очередной женой старейшины, какая семья требует больше денег на продукты по нужде, а какая по жадности. Сегодня День матери, а в День матери практически все устраивали в парке пикники после богослужения. И если ей повезет, она сможет увидеть своих сестер, а если очень повезет – возможно, даже улучит момент и поговорит с кем-нибудь из них, пока отец и остальные братья еще в церкви.
Руки у Хоуп стали липкими от пота, сердце бешено билось. Она вышла из машины и под защитой тополей пошла по парку. Она надеялась, что никто не заметит ее раньше, чем она будет готова показаться. В воздухе витали запахи скошенной травы и нагретой земли, бабочки – в основном черные – перелетали с нарцисса на нарцисс. Поблескивающие неподалеку надгробия, казалось, наблюдали за ней, как притихшие зрители в ожидании главной драмы.
«Поверни назад и поезжай домой! – кричал ее разум. – Что ты такое творишь? Ты одиннадцать лет приходила в себя после того, что здесь произошло. Бога ради, целых одиннадцать лет! Тебе что, этого мало?»
Нет, ей было больше чем достаточно. Но Хоуп не могла позволить себе повернуться и уйти. Может быть, Черити, Фейт,[5] Сара или Лари захотят уехать с ней.
И может, несмотря на свои скудные средства, она сумеет им помочь.
К счастью, ей не пришлось долго ждать. Она увидела женщин и детей, идущих по направлению к парку. У них в руках были миски, корзины и пакеты с едой. Они вошли в парк в дальней его части, рядом с детской площадкой. Дети тут же разбежались, смеясь и перекликаясь, а женщины продолжали путь к столикам для пикника. Они были одеты в некрасивые, вручную сшитые платья, ниспадающие до лодыжек и закрывающие руки до запястий, – и чем-то напоминали женщин-первопоселенцев. Волосы высоко зачесаны и заплетены в длинные косы. Никакой косметики.
Святые братья осуждали любой намек на тщеславие или недостаток скромности. Кроме того, они выступали против любого влияния современности, которое могло отвлечь от церкви женщин и детей. Например, образование или телевидение. Поэтому очень немногие женщины – если таковые вообще были – получали возможность окончить колледж. Основная масса не оканчивала даже среднюю школу. Чужим людям женщины представлялись сестрами или кузинами своих мужей, они вели уединенный образ жизни, выполняя строго определенные обязанности. Мужчины работали и отдавали все заработанное церкви, их слово было законом во всем, и они имели столько жен, сколько хотели. Женщины же были низведены до готовки и уборки, а также вынашивания и воспитания детей; им постоянно угрожало вечное проклятие, если они были «слишком эгоистичны» или «нечестны» в борьбе за внимание своих мужей.
Хоуп же была бунтаркой. Она не могла заставить себя подчиниться диктату отца, не могла жить по «принципу». Даже ради Господа. Даже ради любимой матери. И уж конечно, не ради отца. В понимании ее родных Хоуп потеряла свою душу. Возможно, так и было. Хоуп не была уверена, что не окажется в итоге в аду, но она совершенно точно знала, что уже была в подобном ему месте.
Оставаясь за деревьями, она осторожно подошла ближе и стала узнавать лица. Крепко сбитая женщина в синем в цветочек платье напоминала старшую из сестер Кеннон, а высокая старуха, скорее всего, была одной из жен Гарта Хантингтона. Райлин Пу Теннер, самая младшая из жен ее отца – во всяком случае, так было одиннадцать лет тому назад, – стояла посреди этой суматохи. Она не была красавицей, но очки в металлической оправе и стянутые в пучок жидковатые волосы ее просто уродовали. На ней было настолько свободное платье, что Хоуп подумала, что она или беременна, или недавно родила. Райлин давала указания гибкой девочке, которую Хоуп сначала даже не узнала.
– Не ставь пока десерты, Мелани! – крикнула она. – Разве ты не видишь, что мы еще не застелили столы?
Мелани? Хоуп схватилась за дерево, которое было для нее одновременно укрытием и опорой. Когда она убежала, Мелани была совсем малышкой, ей и года не исполнилось. А теперь только взгляните на нее! Сколько еще детей появилось у отца? И сколько еще жен?
Когда она сбежала, у Джедидая Теннера было шесть жен. Сестра Джослин – от Хоуп всегда требовали, чтобы она называла жен своего отца сестрами, поскольку они были дочерьми Бога и сестрами в Его царстве, – была первой женой и родила ему четырех мальчиков и пять девочек. За сестрой Джослин шла сестра Силия, несмотря на то что Силия была на несколько лет старше Джослин. Хоуп как-то раз слышала, что у Силии были проблемы с зачатием. А может, после того как новизна брака потускнела, отец просто перестал приходить к ней в постель. Они никогда не казались ей подходящими друг другу, и в этом смысле многоженство было очень удобным для мужчины. Джедидай мог просто пойти в другую часть обветшалого дома к Силии или в трейлер через улицу. Остаться на ночь с кем-то из других жен. Во всяком случае, у Силии было только двое детей, две девочки. У сестры Флоренс, третьей жены отца, было шестеро мальчиков и две девочки. Мэрианн, мать Хоуп, родила пять девочек и, к невысказанному разочарованию отца, ни единого мальчика.
У сестры Хелен было четыре мальчика и девочка, а Райлин, шестая и последняя жена – на момент отъезда Хоуп, – родила только Мелани. Несмотря на то, что Райлин была всего на два года ее старше, Хоуп она никогда не нравилась. Она была очень властной и шумной женщиной и практически с самого начала заняла в доме место Мэрианн. По крайней мере, когда рядом не было Джеда. Женщины редко имели в распоряжении целый дом, даже если это был трейлер, поэтому, когда Райлин переехала в дом Мэрианн, Хоуп получила хорошую возможность ее узнать.
Сдержанная и утонченная, Хелен была другой. Она жила в том же квартале в старом кирпичном доме, построенном еще во время основания города в начале 1900-х. Хоуп любила ее. К сожалению, Хелен всегда была любимицей Джеда, чем завоевала стойкую неприязнь других его жен и детей. Хоуп с матерью никогда не могли вменять ей в вину предпочтение Джедидая. Хелен была слишком милой, слишком одинокой и почти незаметной для окружающих. Даже сейчас Хоуп видела, что она держится в стороне. И как часто бывало в детстве, ей подумалось о том, что скрывается за безмятежным выражением лица сестры Хелен.
Однако, увидев мать, Хоуп забыла о сестре Хелен. Мэрианн опаздывала на празднование и с трудом пробиралась по неровной местности. На ней было платье, очень похожее на то, что Хоуп видела у нее одиннадцать лет тому назад, но Хоуп не была уверена, что это именно оно. Две девочки, лет двенадцати и четырнадцати, тащились за ней по пятам, неся в руках булочки и ветчину, и Хоуп осознала, что это ее младшие сестры.
Они так выросли; она даже не была уверена, что узнала бы их, если бы они были без матери. И даже Мэрианн изменилась. Одежда болталась на ней, как на старой вешалке, а волосы совсем поседели. Она выглядела старше по крайней мере лет на двадцать, никак не на прошедшие десять.
Горечь за отца и вина за то, что бросила мать, всколыхнулись в Хоуп. Она всегда была правой рукой матери и ее единственным близким человеком.
«Из всех мест в мире моя семья выбрала для жизни именно это», – подумала Хоуп, глядя, как ее сестры складывают на ближайший к ним столик булочки и ветчину. По некоторым подсчетам, в Юте, северной Аризоне, Айдахо, Монтане и отдельных районах Мексики и Канады проживало около 60 тысяч приверженцев многоженства. Так что Супериор был не единственным местом, где практиковались множественные браки. В основном эти люди жили маленькими общинами и объединялись по несколько семей, придерживавшихся одинаковых доктрин. Но доктрины могли различаться от общины к общине и иногда уходили достаточно далеко от первоначальных мормоновских верований, что породило огромное количество отколовшихся от истоков сект. Самые консервативные общины настаивали, что секс может служить только способом размножения. Другие же – как церковь ее семьи, к примеру, – считали, что мужчина имеет право заниматься сексом с женщиной в любое время и столько, сколько захочет, поскольку она ему «принадлежит».
Тем не менее в Супериоре жило 1517 душ, и только половина из них была прихожанами Предвечной апостольской церкви. Шанс родиться здесь, в таком крошечном обществе, наверняка был один на миллиард.
К сожалению, шансов выбраться отсюда было примерно столько же.
Под гнетом цели своего приезда Хоуп вернулась к машине и вытащила цветы, которые срезала в своем саду для матери. Ей надо было как можно скорее показать свое присутствие. Откровенно поговорить с матерью и сестрами будет проще, когда поблизости нет отца. Учитывая ее внезапный побег и то, сколько лет прошло с тех пор, как она с ними виделась, не приходилось рассчитывать на взаимопонимание даже без вмешательства отца. Мать Хоуп считала, что ее вера в Бога требует полного подчинения мужу. Поэтому было очень сложно заставить ее услышать то, что шло не от отца или с кафедры проповедника.
Хоуп глубоко вздохнула и решительно двинулась к поляне для пикника.
Сестра Райлин своим орлиным глазом первой заметила ее и прикрыта рукой глаза от солнца, чтобы лучше видеть. На какой-то миг у нее просто отвисла челюсть, и Хоуп почувствовала, как к ней возвращаются давно забытые страх и смущение. Строгое воспитание, эмоциональный шантаж родителей и настоятелей церкви, которые управляли ее жизнью, всепоглощающее состязание за малейшее внимание отца и проповеди о судьбе грешника, сгорающего в аду, – чувства и воспоминания об этом нахлынули на нее, не давая дышать. Она почти чувствовала, как ее ноги лижут языки адского пламени…
Но потом она увидела своих сестер, тех, кто были ближе ей по возрасту. Черити было двадцать два – на пять лет меньше, чем Хоуп, – она держала на руках одного ребенка, а у ее ног бродил другой, полутора-двух лет от роду. Фейт скоро должно было исполниться девятнадцать, и она была беременна.
Райлин что-то произнесла и показала на Хоуп. Ее мать оторвалась от вытирания личика малыша на руках у Черити, и они повернулись к Хоуп. Она не могла точно сказать, удивление на их лицах или тревога.
У Хоуп тут же перехватило горло. Как же она соскучилась по ним. Кажется, с тех пор, как она в последний раз видела своих родных, прошла уже целая вечность. Однако в своем сердце она пронесла их в мир, который имел очень смутное представление о многоженстве и жизни в общине, а в особенности о тех странных вещах, которыми там занимались люди.
Из-за своего прошлого и принадлежности к общине Хоуп всегда приходилось держаться в стороне. Одной. Это болезненно переживаемое одиночество иногда подталкивало ее вернуться. Но она никогда этого не сделает. Если она не смогла жить по «принципу» в шестнадцать, сейчас она и подавно не сможет.
– Хоуп, это ты? – спросила Мэрианн и запнулась, когда Хоуп подошла ближе.
Она остановилась в нескольких футах и с робкой улыбкой протянула матери цветы.
– Это я, – сказала она. – С Днем матери!
Ее мать прижала к худой груди одну трясущуюся руку и вытянула другую – то ли чтобы взять букет, то ли чтобы коснуться щеки Хоуп. Но вмешалась Райлин.
– Он уже идет сюда, – сказала она. – Все в порядке, Мэрианн. Тебе нет необходимости разбираться с плохими новостями. Джед уже здесь.
Мать уронила руку, и Хоуп увидела, что в парк входит ее отец. В животе у нее угнездился страх. Угрюмое выражение лица было для него обычным – что-то иное могли принять за фривольность… Но его лицо просто потемнело, когда маленькая девочка подбежала к нему и затараторила:
– Ее зовут Хоуп, папочка. Я слышала, как она сказала, что это ее имя. Правда, она симпатичная? И у нее симпатичное имя, правда, папочка?
Отец прошел мимо девочки, даже не показав, что знает ее. Он был высоким и импозантным, как Авраам Линкольн, и по-прежнему носил длинную бороду. По обе стороны рта шли полосы проседи, что только подчеркивало хмурое выражение лица. Волосы его заметно поредели, но на лице возраст совсем не отразился. Время не смогло смягчить его каменные черты, как не смогло смягчить каменное сердце.
– В чем дело? Что тут происходит? – закричал он и на длинных ногах быстро преодолел расстояние между ними.
За ним торопливо шли два его брата – дяди Хоуп. Рулон представлял собой копию отца, только был немного выше ростом, по последним подсчетам Хоуп, у него было восемь жен. А Эрвин был в семье самым низкорослым – это за него Хоуп отказалась выйти замуж. Он был очень худым. Под мятой белой рубашкой его грудь казалась впалой, а живот был так туго перетянут ремнем, что бедренные кости резко выступали. Но в свои пятьдесят шесть он еще не растерял волосы, и черные пряди свисали ему почти до плеч. Он был старше отца на год, и Хоуп должна была стать его десятой женой.
Хоуп инстинктивно сжала в руках букет. Ей хотелось убежать, вот только ноги отказывались ее нести. Не сейчас, когда Черити в свои двадцать три года стоит перед ней с таким измученным и замотанным видом. За кого, интересно, отец выдал ее замуж?
– Хоуп вернулась, – умиротворяющим тоном сообщила ее мать, когда Джед к ним приблизился.
Взгляд отца скользнул по тонкой фигурке Хоуп, фигурке, которую она унаследовала от него. Она знала, что он сейчас собирает воедино все произошедшие в ней перемены, особо отмечая ее шорты хаки и белую хлопковую блузку. Она была одета как язычница, как чужая, и ему это нравилось не больше, чем тот факт, что она ходит с открытыми ногами. Она думала, не надеть ли ей длинное платье, но это сочла уж слишком большой уступкой. Хоуп была одной из них и одновременно не была. Она была изгоем. И как бы она ни скучала по сестрам и матери, годы, которые она провела здесь, сейчас казались словно из другой жизни. Она познала свободу передвижения на собственной машине и свободу в принятии решений, силу образования и радость оттого, что она может быть самостоятельной. Она жила в мире, где женщины равноправны с мужчинами. Она могла говорить и быть услышанной и имела перспективы что-то изменить.
Ей хотелось открыть своим сестрам именно это. Дать шанс узнать то, что узнала она сама, – что в мире есть люди, которые думают не так, как их отец. Шанс взять больше от этой жизни.
– Отец, – пробормотала Хоуп, хотя давняя обида вернулась к ней и придала горечь этому слову. Если бы не его окончательное предательство, если бы не его потакание похотливому интересу Эрвина, возможно, она бы не сделала в амбаре того, что сделала. И ей бы не пришлось платить ту ужасную цену, которую она заплатила.
– И как у тебя только хватило наглости появиться здесь в день, когда все почитают своих матерей, хотя ты делала ровно противоположное! – рявкнул отец.
– Я никогда не выказывала непочтение матери. – Хоуп многозначительно глянула на Эрвина. – Я навлекла бы на себя позор, если бы сделала что-то подобное.
– Ты попрала закон Божий! – крикнул Эрвин. Одного брошенного взгляда оказалось достаточно, чтобы он завелся.
– Закон Божий? Или твой собственный? – парировала она.
– Твои слова греховны, – сказал отец. – Я не позволю тебе говорить с Эрвином в таком тоне. Он всегда любил тебя и не сделал тебе ничего плохого. Это ты обманула его.
На мгновение Хоуп вспомнила торопливые прикосновения своего дяди во время, когда была еще ребенком. Его длинные прохладные пальцы использовали любую возможность, чтобы коснуться ее, он всегда вызывался отвести ее на горшок или полечить содранную коленку. Он едва дождался, когда она вошла в детородный возраст, и сразу же попросил у брата ее руки.
– Он не имел права настаивать, раз я ему отказала. Мне было всего шестнадцать, – сказала она.
Отец отмахнулся от ее слов:
– Твоей матери было пятнадцать, когда она вышла за меня.
– Не имеет значения. Я была бы очень несчастлива.
– Избави меня бог сделать то, что вызовет твое недовольство! Надо же, какая принцесса! – взревел Джед. – Разве я воспитывал тебя в мысли, что ты слишком хороша для достойного мужчины? Разве я потакал твоему тщеславию? Бог накажет тебя за твою гордость, Хоуп.
– Ему и не придется ничего делать, – сказала она. – Ты уже сам сделал достаточно.
– Хоуп, не говори так, – умоляюще сказала ее мать.
Но в Хоуп кипятком взбурлила обида, и ей было уже не остановиться.
– Сделанное тобой во имя религии хуже всего, о чем я могла только подумать, не то что сделать, – сказала она отцу. – Ты используешь Бога, чтобы манипулировать и подавлять. И чтобы казаться себе значительней, чем ты есть на самом деле.
Джед замахнулся, словно хотел ее ударить. В прошлом он несколько раз поднимал на нее руку – например, в ту ночь, когда она сбежала из Супериора, – но Хоуп знала, что сейчас он не станет ее бить. Не на глазах у всех. Если он ударит ее, она может обратиться в полицию, а Предвечная апостольская церковь не любит этого. И хотя было практически нереально доказать, что многоженство незаконно, было несколько случаев, когда члены общины действительно попадали в тюрьму, хотя в основном за совершенные ими преступления, а не за многоженство per se.[6]
Однако, судя по ропоту в быстро собирающейся толпе, Хоуп осознала, что зашла слишком далеко. Она приехала с намерением быть дипломатичной, убеждая себя, что у родных все хорошо. Она только хотела посмотреть, не может ли она чем-то помочь своим сестрам. Но вместо этого она оскорбляет своего отца и церковь. Но она ничего не могла с собой поделать. Она смотрела на их жизнь другими глазами, а та слишком мало изменилась.
– Я вынужден просить тебя уйти, – сказал ей отец.
В общем-то это был общественный парк, но Хоуп не стала ему на это указывать. Отец всегда верил, что его власть распространяется за пределы привычной области, поскольку, пока дело касалось его семьи и церкви, так и было. Для него просто не существовало всего остального мира, так что, оставшись в парке, она только навредила бы остальным.
Хоуп глянула на Фейт и Черити:
– Кто-нибудь из вас хочет поехать со мной?
Сестры уставились в пол. Мать открыла рот, словно собираясь что-то сказать, но потом крепко сжала губы.
– Хорошо, тогда я ухожу, – сказала Хоуп, когда никто не проронил ни слова.
Но Фейт схватила ее за руку.
– Сегодня День матери, – сказала она, не отпуская сестру и обращаясь к отцу. – Может, Хоуп побудет здесь час или два?
– Мы так давно ее не видели, – добавила Мэрианн. – Она не имела в виду то, что сказала. Она на самом деле так не думает, я знаю.
– Зачем ей вообще уезжать? Мне кажется, мы должны отпраздновать ее возвращение, – сказала Фейт. – Ты же помнишь историю о возвращении блудного сына. Сейчас время для радости. – Она заколебалась. – Даже если она не собирается здесь надолго задерживаться. Мы должны, по крайней мере…
– Держись подальше от нее, маленькая мисс. Я не позволю ей отравить тебе душу, – сказал Эрвин, и собственнические нотки в его голосе сообщили Хоуп, что Фейт ему больше чем просто племянница. Сестра носит его ребенка?
От этой мысли Хоуп сделалось дурно. Она приехала за Черити и Фейт слишком поздно. Она посмотрела на свою восемнадцатилетнюю красавицу сестру с глубокой печалью.
И Фейт снова отвела взгляд.
– Я имела в виду именно то, что сказала. Каждое слово, – сказала отцу Хоуп.
– Тогда уходи и не трудись возвращаться, – отрезал он.
Хоуп посмотрела на обступивших их женщин и детей – взрослых, подростков, малышей и всех остальных.
– Я больше не вернусь. У тебя столько детей, что одной дочерью меньше, одной больше… Какая разница?
Уронив цветы на землю, она повернулась и побрела к своей машине, не разбирая дороги. Она поняла, что не сможет спасти никого, и по ее щекам покатились слезы. Они слишком сильно вросли в свой образ жизни, и ими слишком легко манипулировали при помощи видений, которые, по его утверждениям, были у отца.
Раньше она сама была такой же.
Но когда Хоуп вошла на парковочную площадку, из кустов к ней выбежала та самая маленькая девочка, которая всего несколько минут назад назвала ее симпатичной. Девочка перехватила ее у самой машины, когда Хоуп уже собиралась открыть дверцу. Она явно бежала со всех ног и совсем запыхалась.
– Фейт просила… передать тебе… что хочет встретиться с тобой на кладбище… вечером в одиннадцать часов.
Глава 2
Хоуп сидела в парке на качелях. Было уже темно, и единственный свет давала луна да фонарь на другой стороне улицы. Она ждала Фейт. Сестра попросила о встрече на кладбище, но она все равно бы не прошла мимо качелей, а у Хоуп не было никакого желания заходить на кладбищенскую территорию. И совсем не из-за боязни привидений. Она не любила Супериорское кладбище, потому что старые и покосившиеся надгробия напоминали о тех, кто так и не смог вырваться из рабства Предвечной апостольской церкви. Здесь похоронят ее мать и сестер, хотя они никогда по-настоящему не жили…
– Хоуп, это ты? – послышался сзади из темноты голос Фейт, и Хоуп обернулась.
– Я. Иди сюда и садись рядом.
Сестра вошла в полосу лунного света, защищающим жестом придерживая раздувшийся живот, и Хоуп поразилась его размерам. Сколько же у нее месяцев? Восемь?
Фейт внимательно огляделась, словно боясь, что кто-то их увидит.
– Спасибо, что пришла.
– Хочешь, поговорим где-нибудь в другом месте? – спросила Хоуп. – Мы можем сесть в машину и куда-нибудь поехать.
– Нет. Если я сяду с тобой в машину… – Фейт не закончила предложение. Она села на качели рядом с Хоуп и стала медленно раскачиваться, отталкиваясь ногами.
«Что будет, если ты сядешь со мной в машину?» – чуть не спросила Хоуп, но ей не хотелось давить на сестру. Хоуп хотела дать ей возможность сказать то, ради чего она сюда пришла.
По Мейн-стрит прогрохотал старый грузовик. Хоуп видела, как он остановился на красный свет на перекрестке у парка и потом тронулся с места, когда на светофоре зажегся зеленый. В Супериоре было не слишком плотное движение, особенно поздно вечером. Предвечная апостольская церковь не поощряла хождение по магазинам и посещение кафе с ресторанами в Священную субботу, поэтому то немногое, что вообще открывалось, работало только до пяти. Даже бензоколонка.
– Значит, ты умеешь водить машину? – спросила Фейт, когда грохотание грузовика стихло и единственным нарушавшим тишину звуком стал скрип качелей.
Хоуп кивнула:
– Да, с девятнадцати лет.
– И куда ты поехала сегодня? После того как ушла из парка.
– В Прово. Я подумала, что будет интересно пройтись по незнакомому моллу.
– Прово же очень далеко отсюда.
– У меня было время. – Глубоко вздохнув, Хоуп посмотрела на сестру. – Это ведь Эрвин, не так ли? – спросила она. – Отец твоего ребенка – Эрвин.
Лицо Фейт неприязненно исказилось.
– Да. Как ты узнала?
– Нетрудно было предположить.
Наступило молчание.
– Но если ты беременна от Эрвина, значит, вышла за него замуж?
– А как ты думаешь? Он притворяется, что живет по Евангелию, хотя на самом деле он высокомерный, злобный и скупой.
Даже когда она была ребенком, а Эрвин угощал ее сладостями, которые всегда таскал в карманах, шестое чувство подсказывало Хоуп, что у его нетерпеливой улыбки есть темная сторона. Хоуп делала все возможное, чтобы держаться от него на расстоянии, и в конце концов это привело ее к открытому неповиновению. У Фейт же был более спокойный и терпеливый характер. Ей было всего восемь лет, когда Хоуп видела ее в последний раз, но даже тогда сестра всегда стремилась к миру и спокойствию. Типичный средний ребенок, она напоминала котенка, который при малейшем намеке на похвалу или внимание сворачивается клубочком и начинает мурлыкать, – самая терпеливая и послушная из пяти дочерей Мэрианн.
«И вот что принесла ей эта покладистая натура», – горько подумала Хоуп, глядя на округлившийся живот сестры. Принесла ребенка Эрвина.
– А что, Черити тоже отказалась выходить за Эрвина? – спросила она. – Почему выбор пал на тебя?
Фейт нахмурилась и искоса глянула на Хоуп:
– Ты сделала именно это одиннадцать лет назад и опозорила папу перед всей церковью. Думаю, он не хотел побуждать Черити сделать то же самое.
– Думаешь, она бы отказалась?
Фейт пожала плечами:
– Черити больше похожа на тебя, чем я.
– А ты считаешь, что женщина должна выходить замуж за человека, которого терпеть не может, чтобы потешить гордость отца?
– Нет. – Фейт поерзала, и качели скрипнули. – Эрвин всегда восхищался тобой. Он просил папу отдать ему тебя, когда ты была еще маленькая, и папа ему пообещал, вот и все. Я просто пытаюсь объяснить, почему папа сделал то, что сделал.
– Фейт, я понимаю, почему он так поступил. Но это не значит, что это правильно. Я любила другого.
Фейт затормозила качели мыском теннисной туфли. Казалось, она только что заметила, что длинный подол ее хлопкового цветастого платья волочится по земле.
– У Черити тоже были причины не выходить за Эрвина, – сказала она.
– Что ты имеешь в виду?
– Я говорю о Боннере.
При упоминании его имени по позвоночнику Хоуп прокатился озноб.
– При чем тут он?
– Через пару лет после твоего отъезда его родители пришли к отцу, чтобы сказать, что они молились о будущем для Боннера и Бог сказал им, что Черити должна стать его первой женой. И еще сказали, что Бог хочет наградить его за то, что он не сбежал с тобой.
Наградить его? За то, что он цеплялся за безопасность, которую давали родители и их традиции, даже если сам в них не верил? За то, что разбил ей сердце?
Хоуп заставила себя выровнять дыхание, набрать воздух и потом выдохнуть. Тогда боль стихнет…
– Так Черити вышла за Боннера? – спросила она. Собственный голос показался ей тихим и дребезжащим. – И именно их детей я видела сегодня с Черити?
– На самом деле у них трое детей, – сказала Фейт. – Старшую ты, наверное, не видела. Перл, Ладонна и Адам.
Хоуп хотелось пригнуть голову к коленям, чтобы прекратить нахлынувшее на нее головокружение, но она сказала себе, что после одиннадцати лет отсутствия переживет эти новости. Ее чувства к Боннеру давно уже превратились в полное разочарование, так ведь? Она могла бы предположить, что произойдет нечто подобное.
– У него есть еще жены?
– Ему пришлось жениться на вдове Филдс.
– Потому что…
– Потому что никто больше не хотел этого делать, я думаю. Она подала прошение святым братьям, и они так решили. Это было что-то вроде соглашения.
Хоуп не знала, что и сказать. Несмотря на то что Боннер был восемнадцатилетним мальчишкой, когда они клялись друг другу в вечной любви, она ожидала много большего. Казалось, он никогда не шептал ей во тьме тех слов и никогда не вынашивал планы, которые в итоге привели к страданиям.