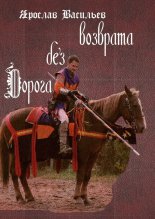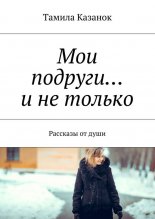Дочери Евы Арутюнова Каринэ

Голоса. Они все еще звучат.
– Не забудь купить хлеба. И яблок каких-нибудь. И вина.
Там шепот, смех, плач. Угрозы. Кто звонил? Какой-то маньяк. Тебе тоже звонил?
Какой-то маньяк присосался к линии. Ему позарез нужно знать цвет моего белья.
«Скажи, – умоляет он, – скажи мне», – голос у него сладкий, хрипловатый. Он звонит каждый день. «Скажи, что ты делаешь сейчас», – стонет он, и я, поражаясь себе, подробно объясняю – стою у окна, сижу на диване. Ем яблоко. Срезаю кожуру и кладу ломтик в рот. «О, – произносит он, потрясенный, – о, как ты это делаешь – ты великолепна!» Мой маньяк щедр, он не скупится на комплименты – он рассыпает их, разбрасывает к моим ногам, голос у него сладкий, молодой, – пожалуй, он готов на все, только чтобы выманить меня за дверь. Ему нужны подробности. Мельчайшие подробности разрастаются, обретают смысл, цвет, плоть, вкус. Подробности, неинтересные даже мне, – они необычайно волнуют и воодушевляют его.
«Подойди к окну, я хочу видеть тебя», – просит он, и я подхожу, поднимаю жалюзи, и бессмысленное солнце освещает бессмысленный двор с урчащими кошками и голубями. Колодец двора серый, там никого нет.
Звонок. Еще звонок. Мой голос становится низким, бархатным, грудным. Я дышу в трубку. «Это опять ты?» Мы уже на «ты».
«Я один, – взволнованно сообщает он, – я совершенно один, делай со мной что-нибудь, делай. Все, что ты хочешь», – стонет он, и испарина выступает у него на лбу.
Мне совсем не хочется что-то делать, но я включаюсь. Еще, просит он, требует невозможного. Каков наглец, смеюсь я, но меня несет. Моя телефонная линия вибрирует, искрится, рассыпается смехом, шорохом, воркованием. Смесь ужасающего бесстыдства и почти детской наивности.
Похоже, он сидит в подвале, несчастный, одинокий, ласкающий самого себя, задыхающийся от нешуточной страсти.
Мне жаль его.
Мы идем по улице, жадно разглядываем друг друга. Так вот он какой. Совсем не бледный, напротив, смуглый, с жаркими, будто нарисованными, коровьими глазами. Очень нежными. Нежными до какого-то ошеломительного бесстыдства. Он молод. Влажные глаза, узкий лоб, жадная линия губ – вспухших, как будто даже покрытых коричневатой коркой. Странно, в этих глазах так мало человеческого – природа не поскупилась на длинные загнутые ресницы, густые, почти сросшиеся брови. Мужественная линия бритого затылка. Стройная шея, развернутые плечи. Слабый, скошенный подбородок.
Мы поднимаемся по лестнице. Я будто издалека вижу себя, плывущую в пролете третьего этажа. Здесь тусклый свет, и комнаты похожи на камеры. Звякает ключ.
Он шепчет непристойности, довольно неловкие непристойности. Что-то не так. Он робеет. Руки его горячи и влажны. Сколько влаги. Там, за стенами, чьи-то приглушенные голоса, вскрики, смех. Что я здесь делаю? Таинственная жизнь двухэтажного здания с расплывшейся консьержкой, запахом нечистого ворса на полу, дезинфекции, дешевой туалетной воды.
Он медленно подталкивает меня к зеркалу. Зеркало с потугами на роскошь – рама в нелепых золоченых завитушках. Многозначительно откинутое покрывало цвета гнилой вишни.
– Смотри, – хрипит он, не отворачивайся, смотри.
Разве не этого я хотела? Разве не это было в моем сне?
Чужая комната в казенном доме, незнакомый мужчина касается меня чужими руками. Телефон настойчиво звонит, подпрыгивает, взрывается смешной избитой мелодией.
Мужчина хватает трубку и тут же съеживается, становится похожим на загнанного в капкан зверя. Да, дорогая, – кивает он, – конечно, дорогая, не забуду, огурцы, да-да, огурцы. Молоко, да, и молоко.
После темной комнаты улица кажется непривычно оживленной. Пахнет морем. Повсюду пары, идущие в обнимку, смеющиеся, молчаливые. Звонят телефоны. Але, да, – уже иду, – еще иду, – иду, иду, иду.
Моя линия молчит.
Она напряженно молчит. Как будто перед грозой. Однако грозы не будет. Красное солнце плавится, выпускает слепящие лучи, соединяется с морем. Море шипит, дышит, желтоватая пена подкатывается к ногам.
Маньяк торопится в овощную лавку. Прижимая к груди пакет с огурцами и бутылкой молока, он поднимается по бесконечным ступенькам, утирает пот с низкого лба. Его коровьи ресницы часто и виновато моргают. Влажные пальцы нащупывают сдачу в кармане слишком тесных брюк.
Чей-то телефонный аппарат взрывается оглушительной трелью: это актуально? Скажите, актуально? С какого числа?
Заходится плачем ребенок, кашляет старик. Окно напротив всегда распахнуто. Там движутся полуодетые люди – им жарко, жарко. Они свешиваются вниз, зовут детей, гремят посудой.
Мои щеки горят, все еще горят от внезапного приключения. Завтра все встанет на места. Я подхожу к зеркалу, прижимаюсь к нему щекой. Касаюсь щек, губ, ключиц. Все мое – и будто чужое, горит, саднит, пылает.
Под окном выгружают случайную мебель – тумбочки, шкаф, перекошенный трельяж, старое кресло. Возле огромного пакета с игрушками мальчик лет четырех. Молодой мужчина и темноволосая женщина.
Теперь у них есть все. Стены, стол, стулья, телефон – все, что нужно для жизни.
Разжимаю ладонь, и скомканная бумажка летит вниз. Тот самый набор случайных цифр. Его так легко запомнить и так легко забыть. Серый комок совершает пируэт в воздухе, плавно опускается к ногам мальчика.
Телефон, будто спохватившись, разражается гневной трелью, сотрясается пластмассовым корпусом. Решительно выдергиваю шнур, затыкаю уши.
Звонки несутся за мной, ударяют в спину, напоминая о правах и обязанностях.
Невидимые провода натягиваются, прогибаются под тяжестью слов.
Провисают в бездонности пауз.
Шепчут, стонут, заклинают.
Гудят, плачут, смеются.
Поют.
Птички небесные
Это как если вы были на луне и вернулись, а здесь все по-прежнему, но это вам так кажется, что по-прежнему, – на самом деле многое изменилось, – дети выросли, родители постарели, одноклассники стали окончательно и бесповоротно неузнаваемы.
Вы были на луне, и все в вас стало лунным, – мысли, движения, чувства, – привыкли к лунным цветам и лунным оттенкам, а о лунной музыке и говорить нечего, и потому непринужденная и вполне добродушная разборка у местного супермаркета может стать последней… не для них, – для вас, потому что слух ваш истончился, и настроен только на тонкие, нежные вибрации, – нить, которая соединяла вас с луной, с ее зыбким светом, провисает, волочится, а луна становится недостижимой, немыслимой, невозможной, хотя вы были на ней, вот только что, – повторяете вы, но как-то неуверенно, – да и кому повторять, – пока вас не было, пришли те, другие, – им плевать на луну, да и нет никакой такой луны, нет и никогда не было.
Казнить нельзя помиловать
Привычка говорить правду, привычка лгать.
Привычка пить кофе. Привычка бороться с привычкой. Потакать. Привычка быть счастливым. Привычка страдать.
***
Он такой – необыкновенный, он меня так…
Да? – ревниво настораживается она, увлеченная, я не замечаю многозначительного молчания, – вообще-то, он негодяй, – опомнившись, добавляю я, – то-то, – с облегчением произносит она, и, удовлетворенные, мы раскланиваемся.
***
Прости, мне было так одиноко, – стонет она, – прости, ты же знаешь, я не владею собой, – и я подумала, нет, я не подумала, его телефон – он подвернулся, и знаешь, он, и правда, необыкновенный, вначале мы говорили о тебе, а потом он утешал меня, часа два, не меньше, – сегодня ей явно лучше, глаза блестят, улыбка неровная, мерцающая.
***
Учти, твоя подруга – она звонит мне каждый вечер, – ты сама виновата, нечего было оставлять номер на столе, – глупости, ну как она может нравиться мне, она несчастна и одинока, – а я? – почти срывается с моих губ, но пристыженная, я умолкаю.
***
Ты знаешь, я никогда не скрывала от тебя – в общем, кажется, я люблю его. Ты не сердишься? ведь не сердишься, верно? – она заглядывает мне в глаза и ластится, как кошка.
Нет, конечно же, я не сержусь.
Конечно же, я не сержусь, только ты не звони мне больше, ладно? И ты тоже. Не звони.
Она плачет. Она так несчастна. Она как загнанный зверек, мечется по квартире, с прижатой к груди телефонной трубкой, жалуется и плачет, а после срывается и едет к нему, бродит вокруг дома, они говорят обо мне, понизив голоса на полтона, будто я могу их слышать, а потом он кладет руку ей на плечо. Бедная, ей так недоставало любви. Родительской, мужской, любой.
Нам всем недостает любви.
Привычка говорить правду, привычка лгать.
Неужели мы все погибнем?
***
Знаешь, нужно просто сменить декорации. Стоит только выйти из дому, сесть в маршрутку и оказаться на окраине города, а еще можно заказать еду в горячей картонке, китайскую или таиландскую, и ковырять ее палочкой, обжигаясь, глотать, поглядывая на целующихся подростков за столиком напротив, – они целуются демонстративно, взахлеб, а потом смеются и вырывают друг у друга палочки, шлепают по рукам. Можно шататься по торговому центру, сверкающему металлом и пластиком, разглядывать себя в огромном зеркале, прикладывая к груди свитера, а потом вновь очутиться в автобусе и слушать, как мужчина на заднем сидении, средних лет, ничем не примечательный, признается в любви: прости, я так люблю тебя, – мобильный плотно прижат к уху, вечерний автобус переполнен и плывет, как большой корабль посреди огней, – моя любовь, – повторяет он по-французски, много раз, все громче и громче и плачет некрасиво, утирается мятым носовым платком, – Мари, – говорит он, – не покидай меня, о, Мари…
Неужели мы все погибнем?
***
А, знаешь, ведь я уснуть не могу… от любви? Нет, ведь мы незнакомы, виделись только раз, но я не могу уснуть. Наверное, что-то удивительное произойдет в моей жизни. Или уже происходит.
***
Говорят, что любви не существует. Все выдумано. Зато вороны реальны. Они так кричат за окном, что у меня разрывается сердце.
Неужели мы все погибнем?
***
Я притворяюсь взрослой. Мы все играем в эту игру. Вчера ты бежал за маршрутным такси, а я оборачивалась, пока ты не исчез. Это было вчера. Я ехала в пустой маршрутке, в полной тишине, абсолютно счастливая.
Номер маршрутного такси. Стоит вскочить на подножку и позволить себе быть пассажиром.
Четвертый этаж. Дверь направо.
***
Я живу в другой стране. На другой планете. Но ключ, боже мой, что мне делать с ключом…
Commedia dell’arte
Некоторые из них уходили, а редкие – оставались на ночь и плакали на его груди – вначале от счастья, потом – от невозможности счастья, после – от быстротечности всего сущего. Они плакали на его груди оттого, что приближался рассвет – тот таинственный час, когда случаются стихи – не пишутся, а случаются, как неизбежное, а уже после наступало утро – время не поэзии, но прозы. Прозы опасливо приоткрытых форточек, пригорающей яичницы, надсадного кашля и струйки сизого дыма.
Время одиночества.
Он не помнил их ухода, а только торопливые обмирающие поцелуи – их жаркие слезы, их сдержанную готовность к разлуке, привычку быстро одеваться, обдавать волной острых духов и терпкой печали, о, женщины, похожие на мальчиков, с глазами сухими, однажды выплаканными, они ироничны и беспощадны, их кредо – стиль, умелое балансирование на сколе женственности и мальчишеской отваги, пляшущий огонек у горьких губ и поднятый ворот плаща – гвардия стареющих гаврошей, заложников пульсирующего надрыва Пиаф, смертоносного шарма Дитрих и Мистингет.
Или женщины-дети – опасно-требовательные, сметающие все на своем пути, как эта башкирская девочка – с телом узким, подобным восковой свече, о, если бы была она безмолвной красавицей с Японских островов, с подвернутыми ступнями маленьких ног, с цветной открытки из далекого прошлого – юная поэтесса смотрела на мир из-под косо срезанной челки, она знала такие слова как «концептуально», «постмодернизм», лишь на несколько блаженных мгновений клубочком сворачивалась на постели, умиротворенная, надышавшаяся, разглаженная, пока вновь не распахивала тревожную бездну глаз, вытягиваясь отполированным желтоватым телом, пахнущим степью, желанием, горячим потом. Где начинались желания маленькой башкирской поэтессы, заканчивалась поэзия, – опустошенный, он выпроваживал ее и выдергивал телефонный шнур, чтобы не слышать угроз, мольбы, чтобы не видеть как раскачивается она горестно у телефона-автомата, а потом вновь скользит детскими пальцами, отсвечивающей розовым смуглой ладонью по его лицу, бродит вокруг дома, молится и проклинает, стонет и чертыхается всеми словами, которые способна произносить русская башкирская поэтесса, живущая в Нью-Йорке.
А в прошлой жизни я была китаянка – такая не вполне обычная китаянка, не говорящая по-китайски, то есть совершенно русскоязычная, впервые попавшая на родину предков, а там, о ужас, все по-китайски лопочут и к тому же не воспринимают меня как иностранку, о чем-то спрашивают и не получают ответа, – говорит она и плачет, вначале жалобно, а потом зло, – у тебя аура фиолетовая, с оранжевым свечением по краям, – она вскидывается посреди ночи, юная, полная жара и тоски, и сидит у кухонного стола, поджав узкие ступни, кутаясь в его рубашку, – одержимая стихами, она напевает вполголоса странные песенки, чуждые европейскому уху.
Была женщина-актриса, известная актриса, подрабатывающая в ночном клубе, девушка из его прошлой жизни, не его девушка, чужая, но мечта многих, кумир – белоголовый ангел, кричащий о любви, каково быть ангелом с металлокерамической челюстью и двумя небольшими подтяжками – одной в области глаз, где раскинулась сеть тревожных морщинок, и еще на трепетной груди, уставшей от ожидания, опавшей, разуверившейся, – в объятиях актрисы было суетно и печально, почти безгрешно – не было утешительной влаги в ее сердце, в уголках ее подтянутых глаз, в ее холеном изношенном лоне.
В женщину нужно входить, как в Лету, познавать ее неспешно, впадать в устья, растекаясь по протокам, – эта, последняя, назовем ее Анной, либо Марией, можно Бьянкой, станет последней и единственной – лишенная суетности, расчета, эгоизма – само безмолвие, стоящее на страже его сновидений, оберегающее его откровения, не позволяющее праздному любопытству завладеть его страхами, воспоминаниями – зимой его осени, весной его зимы, его расцветом, его Ренессансом и его упадком, его бессилием – его печальным знанием, как все прекрасное, она придет слишком поздно, как все прекрасное, она явится вовремя, как предчувствие конца, как голуби на площади святого Марка, как вытесанные из камня ступени, ведущие в прохладную часовню, как промозглый ветер на набережной и ранний завтрак в пустынном «Макдоналдсе», как последняя строка, созвучная разве что пению ангелов, – непроизносимая, запретная, страшная, подмигивающая раскосым глазом, будто загадочное обещание маленькой японки из зазеркалья детских грез, как последний акт «Божественной комедии» – плывущая в сонме искаженных лиц пьянящая улыбка Беатриче.
***
Тем летом было плохо ему, и он с готовностью ухватился, втянулся в эту самую увлекательную на свете игру. Воодушевления, как это водится в самом начале, хватило на двоих, на все пасмурные и солнечные дни, что выпали обоим.
Прошло лето, и осень, и зима, – они выстояли. Проваливаясь в сугробы, падая, поднимаясь, карабкаясь по огромным, уплывающим в неизвестное льдинам, – мокли в дожди, хватали воздух в жару, – и вот снова – осень…
Настал её черед. Плохие дни, говорила она, прислушиваясь к падающим стрелкам настенных часов. Стрелки падали, бессильно свешивались, – пугаясь темноты и тишины, такой оглушительной, внезапной, она хватала маленькие наручные часики, но и они показывали ушедшее время.
Она покинула их там же, где настигла год назад, – весной, на пересечении центральных улиц, – весь ужас заключался в том, что никто никого не предавал, никто никого не бросал, – они ещё шли рядом, и даже держались за руки, – вернее, касались один другого, но как это касание отличалось от того, прежнего, – они шли рядом и внезапно остановились, пронзённые, – она ещё говорила, с жаром, жестикулируя чуть более обычного, – похорошевшая за год любви, осмелевшая, отогретая, – он ещё внимал, любуясь, отстраняясь и отдаляясь, как любуются выросшим ребёнком, уходящим в собственную жизнь, – что это было? – весна, головокружение, головокрушение, – что это было? – а было всё, – они ещё держались за руки, пробираясь наощупь между могилами убитых и воскресших любовей, разочарований, потерь, – между бесчисленными тенями покинутых и обнадёженных, – потрясённые надвигающейся потерей, опустошенные, они так и не смогли найти повод для разлуки, – и долго прощались, сжимая и разжимая пальцы, шутя и посмеиваясь, и, уходя, обернулись почти одновременно, с нескрываемым отчаяньем…
***
А, если в глазах его она не находит собственного отражения, – единственно верного, зыбкого, чарующего, – то зачем он ей такой нужен?
Разве мне нужен тот, в глазах которого нет меня?
Если она не видит его, своего отражения, то непременно уходит на поиски его, – неважно где и как.
Без этого отображения они стареют, скучнеют, теряют остатки воодушевления. Либо ищут его во всем, что не они.
Теряя отражение, она не находит места и покоя. С тревогой вглядывается она в окна, витрины, зеркала, людей.
Я есть? Я еще отражаюсь? Найдите меня, пожалуйста, найдите, – смеется, будто девочка, нашалившее дитя, – выглядывая из-за створок шкафа.
А, если она перестает видеть себя и любить то, что она видит…
То вряд ли она полюбит вас.
***
Во-первых, она без конца улыбается, как будто улыбка ее приклеена скотчем. Поводов для улыбки почти нет, давно нет, но не улыбаться она не может.
Ничего не случилось, все хорошо, будь добрым, и тебе воздастся – уверенность перерастает в навязчивую идею, и потому все блудные и приблудные оказываются в радиусе ее внимания – собаки, кошки, бомжи.
Вот семенит она по дорожке, прижав к впалой груди целлофановый пакет с косточками и требухой. Над головой ее нимб. Пальтишко ветхое, насквозь продуваемое, зато боты вполне ничего – им явно сносу нет, сейчас таких не купишь.
– От вас, мамаша, за километр псиной разит. – Племянник, поднося ложку с жидким супом ко рту, брезгливо поглядывает на суетливые локти, на тощую спину. Спина напрягается, будто в ожидании удара, но углы бескровного рта по-прежнему приподняты и растянуты в блаженной улыбке.
Не получив желаемого отпора, Антон доедает суп, сопя чуть более обычного, а потом долго, с ненавистью обгладывает куриную ножку.
***
Тогда и наступит тот день, когда она попытается выйти из рамы или все-таки войти в нее, тут уже не вспомнить точно, выйти или войти, – раздвинуть границы, разомкнуть сплетенные волокна, прорваться туда, в никуда, в такое, собственно, прельстительное и недостижимое, близкое и далекое, буквально вчерашнее, нет, кажется, позавчерашнее, с месяц тому, или два, или же скорое будущее, предвестники которого витают в воздухе, порхают, искрятся, подобно снежинкам в рождественский вечер, столь многообещающий в этом волшебном мерцании огней, свечей, лиц, которые говорят об одном – предвкушении, предтече, начале.
Тогда и настигнет тот день, или ночь, или утро, безжалостное, жестокое даже, когда истина открывается со столь невыгодной стороны, столь пугающе неотвратимой.
Она застынет у окна, жалкая, безучастная, смешная в своей готовности быть непременно высказанной, раскрытой, проявленной вопреки всему – неизбежному поражению, тотальной свободе и несвободе, провалу.
Где-то уже все это было, происходило, с ней ли, не с ней, а только оборотная сторона всего происходящего предстала во всей своей наготе, в клоунском снаряжении, в смехотворном гриме, из-под которого проступили искаженные страданием черты.
Будто после удачно сыгранного спектакля – вот и занавес обрушился, и зрители разошлись, а она все еще сидит в гримерной, сотрясаясь от недавнего смеха, плача, всего пережитого, от волнений, аплодисментов, поклонов, и вот уже на цыпочках, крадучись, пробирается к выходу, незамеченная никем.
***
Кто кого? Кто первый?
Кто первый прорвет нарисованный неизвестным мастером очаг и не побоится просунуть голову наружу, туда, где все настоящее, то, что манило, и обещало, и вот, поди ж ты, разверзлось во всей своей красе?
***
Собственно, ничего иного. Только это. Привстав на цыпочки, ждать.
Вытянув гофрированную шею. Наивность, боже, в её-то годы. Глаза сильно деформированы – близорукостью, дальнозоркостью, ночами, писаниной, ожиданием, слезами, смехом, смятением – фантазии вечно всякие. В её-то возрасте. Т-сс, об этом ни слова. Бестолковая, юбка шиворот-навыворот, пуговицы пришить не умеет, зато овощные супчики, я вам доложу, шедевральны – вот где фантазии разгул, а чай, вы пробовали её чай – щепотку того, щепотку этого, колдует над заварником – да, вот этот, один из любимых, синенький, с отбитым носиком, у неё коллекция заварничков, у каждого – своя история, вечно впроголодь – щёки запали, глаза блестят, – ветчинки там нарежешь, – она тут как тут, интеллигентно так шуршит, вся в себе, а крылышки носа трепещут, – предложенный кусочек деликатно так, пальчиками, мизинчик отставлен, – ах, пальчики, ничего-то вы не умеете, и ведь ни за что не съест сразу – на тарелочку, из старинного сервиза, с ободком золотистым, выложит и листиком каким-нибудь, петрушечкой украсит, задумается эдак на минутку, головку склонив и пощёлкает клювом, а ведь – натюрморт, ну да, ей же не кушать, побойтесь бога, как вы думать смели – у ней вон и гранат в вазе уже ворсом седым покрылся, она пылинки-то смахнёт и опять головку набок, любуется. Художник. Вам, простым смертным, не дано. Мясо – по праздникам. А так – ни-ни, хотя… курочки там… крылышко поджаренное… мда… а лучше – монпасье, на буфете, сосёшь и вроде ничего, печенюшки там, на рынок пустишь – идёт, ну, ей-богу, смех один, у каждой клумбы остановится, губами шевелит, не иначе как рифма какая, – ну да, муза – это такое дело, где угодно снизойти может, движется, будто тень, ручками взмахивает – всё невпопад, бумажки скомканные, мятые из карманов достаёт, вместе с крошками, нитками, роняет, монетки перебирает, к глазам подносит – ей уже и даром отдать готовы, а она всё считает, яблочко купит, лимон, травку какую – и домой, на блюдо выложит, композицией любуется – и счастлива.
Ничего иного, собственно – только это. На цыпочки привстать. Вытянув тонкую шею. И ждать. Костика из пятого «Б», учителя физики, Даниила Матвеича, потом соседа, того, синеглазого – он как-то так посмотрел, по-мужски, ну, потом еще… других… Всё фантазии.
То берет себе придумала. Свободный художник, мол. Шаль, независимость – пальцы краской вымазаны, скипидаром весь дом провоняла, голодная, а краски – тюбик двадцать рублей. Вдохновение. Пишет. День взаперти, всухомятку, только к ночи – мышью шмыгнёт – и корочки свои сушит, кофта задом наперёд. Волосы всклокочены, кожа в пятнах, на мольберт грудью бросается, точно раненая птица: нет, не готово еще, у меня там – еще чуточку, – так всю жизнь и подмазывает – там пятнышко, там точечку – ничего не готово, жизнь прошла – тсс, вот об этом ни слова – а она только собирается, только пробует, глаза наивные, детские – всё ждёт чего-то. На что-то надеется.
Что-то тут есть. Секрет какой-то. Или я чего-то не понимаю. Может, вы знаете?
***
Разве не для того явилась она на свет, чтобы вкладывать свою руку в чужую, незнакомую, идти следом, шаг в шаг, подниматься по ступенькам, входить в чужие дома, впитывать чуждые запахи.
Тот, кого называла отцом, остался в закоулках памяти колкой щетиной подбородка и шеи, свечением, струящимся из глаз.
Лучи. Те самые лучи – пылающая жаром радужка и уверенная сила рук.
Рук, которые приподнимали, подбрасывали, прижимали.
Те, другие, не меньшей силой обладали – подбрасывая, поднимая, разворачивая. Закрыв глаза, она двигалась на ощупь. Он, не он, не он. Со вздохом отделялась, будто почка от дерева. Дерево было чужим, плоды – горькими, мужчины – случайными.
Впрочем, некоторые становились им. На время, конечно же. Например, огромный детина, смеющийся, рыжеволосый, будто сошедший с полотен фламандских мастеров. С мохнатой грудью, лицом, руками, животом. Живот был белым, колышущимся, добрым. Она обнимала его, вплывая в сон. В животе у Ицхака36 (так она прозвала его) было сытно и тепло. Она бы и жила там, притворившись маленькой, беззащитной, слабой.
Но слабость была простительна до утра. Утром живот накрывал ее душной массой, из-под которой мечталось вырваться – туда, на волю, где свет и воздух.
От незнакомца пахло…
Собственно, незнакомцем он уже не казался – лучи, расходящиеся от уголков глаз, синева вокруг зрачка, с шаловливыми сполохами радужки, от тусклой ржавчины до умопомрачительной позолоты, – все было родным, любимым, узнаваемым – конечно же, это был он.
То-то и удивительно, что не пахло ничем. Привыкшая к обилию плотских запахов, свыкшаяся с ними, как с неизбежным, впечатывалась лицом во впадину груди, в каждое проступающее ребро – этот, другой, был тощ, бесплотен. Почти дух. Неистовый, жаркий, взмывающий над ней во тьме, парящий с распростертыми крыльями рук. Бесплотной становилась и она, обнимающая его шею.
Погоди, постой – дай отдышаться, – язык тяжело ворочался, прилипал к гортани, хрип вырывался из горла – хрип, стон, смех.
Она замерла, боясь пошевелиться. Собственно, ее уже не было.
Когда-то, в прошлых жизнях, он был… Главное, не проговориться, не дать ему почувствовать, что власть над нею беспредельна.
У нее было много жизней. О них она помнила смутно. Подробности. Иногда важные, чаще второстепенные, вплоть до смешных пустяков. Запахи, вкусы, пристрастия. Желания. Чужие, свои.
Они приходили и уходили, иногда оставались надолго, полагая, что навсегда.
Впрочем, что такое навсегда? Откуда было знать им, что дорога ее так длинна, почти бесконечна, и ни у кого из них не хватит жизни заполнить ее. Утолить жажду. Залить все впадины и выпуклости. Заполнить глубину пульсирующего дна, утихомирить ползущую по стенам магму.
Они засыпали уже посередине, пока она, преодолевая блаженное изнеможение, заставляла себя подняться и идти дальше.
Сколько их, таких, спящих, оставалось на ее пути. Они казались детьми. Похрапывающими, беззащитными, беспечно разметавшимися во сне.
С широко раскрытыми глазами вслушивалась она в громоздкую тишину чужих стен. Пресыщенный мужчина становился чужим, и дом его становился неуютным, даже враждебным.
И только этот, похоже, не собирался спать. А если и да, то даже во сне он цепко держал ее, сторожил каждый вдох и выдох.
На выдохе он открыл глаза.
Собственно, это и могло стать окончанием истории – нет, не конкретно этой, а вообще. Ведь где-то должна быть точка. С чего-то должна начаться обратная сторона блаженства. Допустим, с рассвета, будто ножом отсекающего плоть от плоти, с огненного зарева, проникающего сквозь ветхий полог.
Душа, блуждающая в пустынных пространствах. Пока не одинока. Еще здесь.
Благослови засыпающих на рассвете и бодрствующих, встречающих каждый рассвет как последний.
Дыхание его было ровным, лицо – безмятежным. Успеть, пока не стал бесповоротно чужим. Другим, неузнаваемым. Успеть, пока расходятся невидимые глазу лучи. Пока не потускнела синева, пока длится это мягкое свечение, тысячи нитей – от нее к нему, от него – к ней.
Надолго? Навсегда? До следующей встречи? Ночи? Жизни?
***
Отчего глаза у них, будто талые лужицы, в них проваливаешься и оказываешься в зябком апреле, в могильной птичьей зыбкости, несовместимой с эклектикой городских окраин, рядами девятиэтажек с чернеющими провалами подъездов и бесстыдно раскинувшейся черёмухой у входа в торговый комплекс «Родничок», отчего бредут они себе спозаранку по пыльной обочине, вечные христовы невесты с раздрызганными тележками, полными ненужного хлама и дикой черемши, – их дёсны живо перемалывают вымоченную в молоке чёрствую булку, разношенные ступни будто обуглены и навеки утратили чувствительность, напрасно отводишь ты взор от неровных ногтевых пластин на изувеченных артритом пальцах, – одну из них точно зовут Верой, а другую – Любовью, к ним тянутся бродячие псы и хромые кошки, – когда ты начинаешь свой день, они уже в пути, бредут к своему детскому богу, вцепившись намертво в обмотанные изолентой ручки, устремив молитвы в омытое дождями небо, бормоча заклинания и заговоры от сглаза и неурожая, – однажды на рассвете они сбросят дряхлую кожу и превратятся в птиц, зорко высматривающих заплесневелые корки и комки хлебного мякиша среди семечковой шелухи. Где же Надежда, спросите вы, – что ж, я отвечу, – надежда не умирает никогда.
Хоакин
Заклинаю вас, дщери Иерусалимские: если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? что я изнемогаю от любви.
Боже, прошу – дай ты мне, боже, одного, или двух, или трех, моих собственных. Помню как сейчас, побежали титры, погас экран, мы двинулись к выходу. Как будто все умерло вокруг – снаружи была темень, и только ветер выл. Не поднимая глаз, ледяными губами произнесла что-то – до завтра, мол, или – прощайте навсегда, – мне не хотелось быть одной из них. Хихикать, зажимая рот варежкой, болтать о всякой всячине – о том, например, какой Харитонов душка, или о том, отменят завтра зачет по химии или все же нет.
Не смотри так на мужчин, – бедная мама, едва ли она могла удержать меня, на запястьях моих позвякивали цыганские браслеты, а вокруг щиколоток разлетались просторные юбки. Каждый идущий мимо подвергался испытанию, – выпущенная исподлобья стрела достигала цели, – пронзённый, он останавливался посреди улицы и прижимал ладонь к груди, но танцующей походкой я устремлялась дальше. Жажда познания обременяла, а тугой ремень опоясывал хлипкую талию. Чем туже я затягивала его, тем ярче разгорались глаза идущих навстречу. Купленный после долгих колебаний флакончик морковного цвета помады разочаровал, – отчаявшись, я искусала собственные губы до крови, и вспухшая коричневая корка стала лучшим украшением моего лица, если не считать глаз, разумеется, дерзких и томных в то же время, и нескольких розоватых прыщиков на бледной коже.
Отныне у меня была цель. Я могла вырезать ее из цветной бумаги, и водрузить на стену. Уже засыпая, помолилась как следует, – меня никто не учил, как никого из нас, собственно, – я воздвигла алтарь, и зажгла свечу, теперь у меня была тайна.
Моего первого мужчину звали… До Хоакина ему было далеко, но с чего-то надо было начинать, – я смотрела вслед, поражаясь, до чего же он маленький, старый и некрасивый, – с лысиной-яйцом и шаркающей походкой, – это было то, что видели остальные. Глаза его напоминали глаза бродячего пса, – умного, все понимающего и преданного, – жене и двум некрасивым девочкам – Соне и Вавочке. Меня срезали на математике, как раз на проклятых синусах-косинусах, – с геометрий я разобралась, а на алгебре зависла, – от услуг репетитора пришлось отказаться, зато на проходной был вечный сквозняк, и тетка с отмороженным носом, шмыгая и сморкаясь, вглядывалась в удостоверение, – новенькое, со штампом и фотографией, – каким счастьем был этот сквозняк, – это был ветер свободы.
Водоворот новых ощущений увлёк меня. Светлому времени суток я предпочитала сумерки, – раздувая ноздри и уподобившись звенящей от напряжения струне, кружила я по городу в поисках того, кто даст мне это.
Мои мужчины были невероятно щедры. Коротконогий жилистый татарин подарил мне это в пролёте тринадцатого этажа. Раскинув юбки, я приняла его дар, – вполне достаточно было руки, властно завладевшей моим коленом, и горящих в полутьме глаз, – всё последующее не разочаровало.
За считанные секунды горечь разрыва с предыдущим бой-френдом, юношей-поэтом, мнительным и самовлюблённым, утонула в облаке наслаждения. Теряя сознание, я проваливалась всё глубже, а взмывающее надо мной пятно чужого лица расплывалось, превращаясь в гипсовую маску со сведёнными на переносице бровями и тёмным оскалом рта.
Темноглазый попутчик в вагоне метро, томный бисексуал в шёлковом белье, страстный поклонник Рудольфа Нуриева, пожилой эльф в широкополой шляпе, сочиняющий хокку, полубезумный коллекционер-фетишист, обладатель подвязки непревзойдённой Марики Рёкк, а также просто одинокий мужчина за столиком напротив в кондитерской, – поедание миндального пирожного превратилось в своеобразный мини-спектакль, разыгрываемый для единственного зрителя. Глаза его напряжённо следили за моими движениями, а ложечка без устали вращалась в кофейной чашке. Одёрнув юбку, я встала и прошлась к стойке, а, возвращаясь, напоролась на его взгляд, безусловно, волчий, – всё последующее напоминало стремительное бегство и преследование одновременно, – торопливо вышагивая по направлению к его берлоге, мы боролись с внезапно налетевшим шквальным ветром. Я пыталась удержать разлетающийся подол юбки, а он сражался с зонтом. Я шла на подгибающихся ногах, распознав в идущем рядом того, кто заставит меня познать это.
Несостоявшийся писатель и вечно голодный художник, безнадёжно и бесконечно женатый еврейский юноша с пропорциями микеланджеловского Давида, – больше неги, нежели страсти испытали мы в нежилых коммунальных закутках, оставшихся любвеобильному наследнику после кончины очередной престарелой родственницы, – прощаясь, грели друг другу пальцы, соприкасаясь губами с губительной нежностью.
«О, живущий в изгнании, куда бы ты не подался, рано или поздно ты вернёшься туда, откуда начал», – тягучая мелодия в стиле раи ранила моё сердце, – под музыку эту можно было танцевать и печалиться одновременно, от голоса Шебб Халеда сердце моё проваливалось, а температура тела повышалась вдвое, – Аиша, Аиша, – повторяла я вполголоса, растворяясь в монотонном волнообразном движении, – Кямал казался мне настоящим суфием, смуглый и голубоглазый, он восседал на ковре у низкого столика над дымящимся блюдом с пловом. Мы поедали виртуозно приготовленный им рис, от аромата специй кружилась голова, белые одежды струились и ниспадали, юноша был благороден и умён, в его жилах текла, несомненно, голубая кровь, не феллахов и не бедуинов.
Я очарованно наблюдала за движениями тонких смуглых рук, но «тысяча и одна ночь» закончилась внезапно, не подарив и сотой доли ожидаемых чудес. Мои еврейские корни смутили прекрасного принца, – лицо его приняло надменное и несколько обиженное выражение.
Завершив трапезу в напряжённом молчании, мы с облегчением распрощались, будто дальние родственники, сведённые неким печальным ритуалом, но песнопения Дахмана эль-Харраши ещё долго преследовали меня.
Он шел за мной квартал или два, а я и вправду не боялась – куда страшней было там, откуда я вышла. Три грымзы в теплых кофтах гоняли чаи, и пахло котлетами, сплетнями и зеленой тоской, – двадцать пять лет, – квакала одна из них, чугунная бабища с блином на голове, – двадцать пять лет я сижу здесь, за этим столом, и просижу еще, – пока не вынесут, – подумала я, но вслух ничего не сказала, потому что за окном падал снег, бесшумно ложился на землю, близился вечер.
Расправив плечи, я шла по мосту – он шел за мной, его звали Мишка Тартар, он сбежал из тюрьмы, и я была первой на его пути, а дальше был частный сектор, затхлая вонь притона, портвейн, чужая старуха в окне – уж лучше остаться, чем умереть, это я сразу поняла, ведь Мишка Тартар слов на ветер не бросал – я сбежала ночью, никто меня не провожал, я долго стояла под душем, пыталась согреться, татарин пропал, но тень его еще мерещилась за углом.
Мой Хоакин был рядом, я слышала голос, я шла на звук и на шорох – их было много в этот раз, меня не нужно было спаивать, как прочих, – я вся была молодое вино, я пьянела от мысли, что один из них окажется им.
Они засыпали первыми, невинные, точно младенцы.
Они были разными, и некоторые из них думали, что умеют любить, счастье брезжило, точно полоска рассвета, там, в глубокой ночи, – моя цель вела меня дальше, я верила, он сразу узнает меня, и я узнаю его, и мы всегда будем вместе, неразлучны и неотделимы, как плоть и дух, день и ночь, зима и лето, – с работы я ушла, содрогаясь от злословия грымз – одна из них видела меня с негром, другая – с арабом, мне было начхать – это была моя жизнь, от Кямаля я родила девочку, прекрасную, точно луна, – живот был огромным, я несла его, как подарок, ведь я знала, что после всего, что мужчины творят с женщинами, – после переулков, чужих домов, кроватей, стен, после шороха ступней по липкому линолеуму – после всего…
После запахов дезинфекции, ржавчины, сыворотки, зеленки, йода, подступающего молока, после пятен на холодной больничной клеенке, после всей этой грубости и неведомой силы, вынуждающей рвать прутья больничной койки, скрипеть зубами, сквозь туман всматриваясь в минутную, а потом часовую стрелку, ползущую так медленно, так бесконечно, туда, в страшащую неизвестность, в обрыв, в пропасть, в которой тонут крики из соседней палаты – мольбы, вой, стоны – олицетворение животного, смертного ужаса, прерываемого понуканиями – тужься, держи, дыши, толкай, – дыши, дыши, дыши.
Держи, – туго спеленутая, лежала она на плоской подушке и чуть кряхтела, пытаясь, видимо, упереться во что-то ножками. Я проводила пальцем по прорисованным тонкой кисточкой бровям – Айша, кроткая и нежная, точно солнечный луч ранней весной.
Вскоре Кямаль отбыл на родину – она отчаянно нуждалась в молодых специалистах и защитниках, один из его многочисленных братьев собирался посвятить себя джихаду – священной войне, с фотокарточки смотрело отважное лицо усатого подростка, я же жила надеждой, прикладывая отпечаток крошечных пальчиков к разлинованному листу.
Пахло весной.
Со сладким треском лопались почки, цвела сирень, – перевяжи трубы, – в консультации гинекологиня-удав, мужеподобная, широкоплечая – аборты она делала виртуозно, – перевяжи трубы, – скользнула колючим глазом женщины, обделенной в главном.
Я слышала, как стучит его сердце, – он выстрелил, точно пробка от шампанского, ровно в полночь.
Казалось, весь мир празднует этот день, я назвала его Саед, что означает счастливый. Все дети рождены для счастья, но этот, похожий на кофейное зерно, – он не издал и звука, только улыбка витала – светилась из глубины коляски, в этой стране редко встретишь такую улыбку.
Мое сердце вновь просило любви. Куда столько любви – о, эти соседские «благословления» в спину, дружный женский хор, в конце концов, это была моя жизнь – единственное, что принадлежало мне с рождения.
Юлий Семенович навещал нас и втайне от семьи купил коляску, столик для пеленания, спринцовку, пеленки. печень трески, мандарины, – ты, малая, на рыбий жир налегай, на витамины.
Мамочка, да у вас молоко пропало, – угрюмо констатировала патронажная сестра.
– Не дрейфь, малая, не журысь, – смущаясь, он выгружал из безразмерного видавшего виды портфеля редкостные по тем временам жестянки с импортной молочной смесью.
Два килограмма гречки, килограмм апельсин, банку сгущенки, учебу я забросила еще зимой, когда с температурой под сорок слегла Айша, а за ней Саед, врач по скорой, бесформенная тетка с отекшими щиколотками, склонилась над кроваткой – оттуда исходило сияние, – ботымой, – только и успела выдохнуть, – это когда ж ты успела, девочка?
Уже и не помню, как успевала, – больше всего мне хотелось спать.
Саед был странным ребенком.
Лежал себе, только глазищами сверкал. Не плакал, не кричал, вертел проволочной своей головой, насаженной на гуттаперчевое тельце. Я по десять раз вставала – проверить, жив ли. А он улыбался. Сжимал темные кулачки, пускал слюни, икал, какал…
Если бы я успела поближе узнать Самуэля Мбонго, то, скорей всего, он поведал бы мне о племени, в котором мужчины испокон веков не спят. Нюхают табак, выпускают кольца голубоватого дыма и танцуют, танцуют без передышки, если можно назвать танцем эти плавные движения гибких глянцевых тел.
Долгий сон, вялость, депрессия, ипохондрия – привилегия белых, которые кичатся тем, что являются зачинщиками бессмысленных войн – миссионерами, благодетелями и убийцами.
Они гордятся тем, что изобрели телефон, водородную бомбу и женские прокладки. Таблетки от бессонницы и старения. Микстуры, стимулирующие влечение, таблетки от бессилия и немощи. Их тоже придумали они, белые люди.
Мужчинам из племени Ньяма ни к чему телефон – слух у них обострен, точно жало осы, и, если за десятки километров надвигается облако саранчи, а в саванне просыпаются шакалы, к чему телефон, к чему все эти смешные провода и глупые, к тому же ненадежные приспособления?
Мужчине из племени Ньяма достаточно послюнить указательный палец и посмотреть на восток или приложить ухо к земле…
А женские прокладки выдумали те, кто боится женщин.
Боится их запаха, слишком сильного, слишком острого, когда те кровоточат.
Не стоит бояться женщин, – учит вождь племени, он собирает вокруг себя девятилетних мальчиков, будущих мужчин, и учит их уму-разуму, – настоящий мужчина распознает самку по запаху, который не спутаешь ни с чем на свете, любой мужчина, вскормленный молоком матери, помнит этот вязкий, теплый, глубокий запах – чуть сладковатый, душный, терпкий, а иногда с привкусом полыни и диких трав, густой, точно сыворотка из буйволиного молока.
Если бы я узнала Самуэля поближе, то поняла бы и то, что мужчины из племени Ньяма никогда не покидают своих первенцев.
Первенец – дар небес, благословление свыше.
Первенец – глава рода. С него, первого, начинается семья. И сколько бы братьев и сестер ни родились вслед за ним, именно первому сыну мужчина отдает свое сердце.
Кто эта белая женщина, которая растит твоего сына, Мбонго? – наверняка спросил старейшина рода. – Кто она? Кто ее родители, кто мать и отец? Чему научит она его? Разве научит его идти по следам дикой антилопы или неслышно двигаться в сторону оазиса?
Опустив проволочную свою, колючую голову, стоял Самуэль Мбонго перед старейшинами рода. Стоял, точно нашкодивший мальчишка, – наследный принц, выпускник института международных отношений.
Весть о том, что Саеда похитили инопланетяне, никому не показалась странной.
Оказывается, кто-то видел, как огромный то ли дирижабль, то ли летающая тарелка – в общем, огромное нечто опустилось аккурат между детской площадкой и гаражами – летом там горячо пахло мочой, но дети носились с воплями, а громче всех Саед, он перепрыгивал через клумбы, пока не очутился рядом с темнокожим господином, одетым прилично, как и подобает инопланетянину и выпускнику факультета международных отношений, благоухающему недоступными ароматами из «Березки», в длинной смуглой ладони господина оказалась россыпь орешков кешью – разинув рты, смотрели вослед загадочному чужеземцу, ведущему за руку нашего Саеда, – мужчина был строг и строен, осторожно ступал он узкими лакированными штиблетами, распространяя запах импортного одеколона и цветущей маниоки.
История обросла душераздирающими подробностями.
Мужчина был инопланетянин. Он был лиловым, шестипалым, двухметровым. Негр украл нашего ребенка. А чьего же еще?
Нагулянного беспутной матерью-одиночкой от неизвестно кого, но ведь нашего.
Куда же вы смотрели? – кричала я, – куда смотрели, кошелки старые, – пока захлопывалась дверь (мерседеса, лексуса, волги), задвигался люк корабля, поднимался ветер, кричали обезумевшие от ужаса птицы.
Саед исчез вместе со своей нездешней улыбкой, красными ботиночками из кожзаменителя и джинсовым комбезом на помочах.
***
Конечно, Юлий Семеныч задействовал своего давнего приятеля, подполковника КГБ в отставке, но следы Самуэля Мбонго и его первого сына затерялись в глубокой саванне.
Соня с Вавочкой дежурили у моей постели, но Хоакин был уже близко, я слышала голос, я шла на шорох и звук.