Птица солнца Смит Уилбур
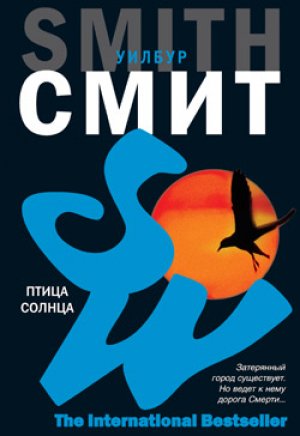
В пятидесяти ярдах от нее на краю откоса прижалась к земле львица. Она снова предостерегающе зарычала.
Марион увидела только ее глаза. Сверкающе-желтые, свирепо, ужасающе желтые. Она закричала — истошно, в ужасе.
Этот звук сорвал львицу с места, она приближалась невероятно быстрыми гибкими движениями, превратившись в расплывчатое желтое пятно, летела, низко приседая, взрывая лапами песок, выпустив когти, растянув губы в беззвучном рычании, оскалив длинные, белые, острые зубы.
Марион повернулась и побежала; она сделала пять шагов, и львица догнала ее. Ударила лапами в спину, глубоко вонзив кривые когти.
Такой удар убивает даже взрослого быка, и он швырнул Марион на двадцать футов вперед, но когда она упала на спину, львица уже была над ней.
Ее пасть была широко раскрыта, длинные желтые клыки обрамляли глубокую влажную розовую пещеру горла и язык. Невероятно обострившееся на мгновение восприятие позволило Марион увидеть гладкие бороздки твердой розовой плоти, правильным рисунком покрывающие изогнутое небо пасти, и почувствовать мясной запах дыхания.
Марион, дергаясь и крича, лежала под большой желтой кошкой, нижняя часть ее тела была повернута под неестественным углом на перебитом позвоночнике, но она подняла руки, пытаясь защитить лицо.
Львица впилась ей в предплечье сразу за локтем, и кость громко хрустнула, дробясь на осколки; обе руки были почти мгновенно оторваны.
Потом львица схватила Марион за плечо и принялась рвать его, распарывая длинными клыками кости, жир и ткани, а Марион кричала и билась под кошкой.
Львице потребовалось время, чтобы убить ее, потому что ей мешали собственный гнев, незнакомый вкус и форма тела жертвы.
Она рвала и кусала почти минуту, прежде чем добралась до горла.
Когда львица наконец встала, ее голова и шея превратились в кровавую маску, а шерсть промокла и стала липкой от крови.
Ее гнев отступал; она била хвостом по бокам и длинным гибким языком облизывала морду, морщась от непривычного сладкого вкуса. Она тщательно облизала морду и передние лапы, прежде чем подойти к львенку и покровительственно облизать и его длинными движениями розового языка.
Разорванное тело Марион лежало там, где его бросила львица, до самого заката, пока не пришли жены Пунгуше.
* * *
Марк и Пунгуше переправились через реку в темноте. Лунный свет делал песчаные берега призрачно-серыми, в зеркальной поверхности водоема под главным лагерем отражалась круглая луна. Переходя через этот водоем, они разбили отражение на тысячи светлых точек, как бьется хрусталь, брошенный на каменный пол.
Поднимаясь на берег, они услышали в ночи крик смерти, страшный траурный плач зулусских женщин. Мужчины невольно остановились — этот звук привел обоих в ужас.
— Пошли! — крикнул Марк и пришпорил сула. Пунгуше схватился за ремень, и Марк пустил Троянца галопом. Они ринулись вверх по холму.
Костер, разведенный женщинами, давал желтый дрожащий свет, который отбрасывал причудливые танцующие тени.
Четыре женщины сидели вокруг обернутого в каросс тела.
Ни одна не посмотрела на мужчин, подбежавших к костру.
— Кто это? — спросил Марк. — Что случилось?
Пунгуше схватил старшую жену за плечи и затряс, пытаясь прервать похоронную истерию, но Марк нетерпеливо прошел вперед и поднял край каросса.
Он мгновение смотрел, не понимая, не узнавая, потом неожиданно вся краска сошла с его лица, он повернулся и метнулся во тьму. Упал на колени, наклонился, и его вырвало.
* * *
Марк отвез Марион в Ледибург, завернув тело в брезент и привязав в коляске мотоцикла.
Он присутствовал на похоронах и на семейных поминках.
— Если бы ты не забрал ее в буш, если бы только она оставалась с нами. Если бы только…
На третий день он вернулся к Воротам Чаки. Пунгуше ждал его у излучины реки.
Они сидели на солнце под утесами, и когда Марк дал Пунгуше папиросу, тот тщательно отломил ее кончик; они курили молча, пока Марк не спросил:
— Ты прочел следы, Пунгуше?
— Прочел, Джамела.
— Расскажи мне, что случилось.
— Львица переводила детенышей через реку, перетаскивая их по одному из логова в кустах.
Пунгуше неторопливо и тщательно восстанавливал разыгравшуюся трагедию по следам, которые изучал в отсутствие Марка, а когда договорил, они снова долго молчали.
— Где она сейчас? — негромко спросил Марк.
— Повела детенышей на север, но медленно, и три дня назад, через день после… — Пунгуше поколебался, — после сделанного убила самца импалы. Львята немного поели с нею. Она начала отлучать их от груди.
Марк встал, они перешли реку и медленно начали подниматься лесом к дому.
Пока Пунгуше ждал на передней веранде, Марк вошел в маленький покинутый дом. Дикие цветы в вазах завяли, они придавали комнате печальный, заброшенный вид. Марк начал собирать личные вещи Марион, ее одежду, дешевые, но дорогие ей украшения, ее расчески и щетки, несколько флаконов с косметикой. Все это он уложил в самую большую сумку, чтобы отправить сестре Марион, а когда закончил, вынес сумку и закрыл в пристройке для инструментов. Оставлять все это в доме было слишком больно.
Потом он вернулся в дом и сменил городскую одежду.
Взял со стойки «манлихер» и зарядил его медными патронами из свежей пачки. Гильзы желто блестели под слоем воска, пули были с мягкими головками — такие вызывают при ударе максимальный шок.
Когда он с ружьем в руках вышел на веранду, Пунгуше по-прежнему ждал его.
— Пунгуше, — сказал Марк, — есть работа.
Зулус медленно встал. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Потом Пунгуше опустил глаза и кивнул.
— Возьми след, — негромко приказал Марк.
Они нашли место, где львица убила импалу; стервятники буша успешно очистили всю территорию.
Осталось несколько осколков костей, выпавших из пасти гиены, немного шерсти, вырванной пучками, кусок засохшей шкуры и часть черепа с изогнутыми черными рогами, все еще целыми. Но след давно остыл.
Ветер и лапы стервятников: шакалов, гиен, грифов и журавлей марабу — стерли с земли все.
— Она пойдет дальше на север, — сказал Пунгуше, и Марк не спросил, откуда он это знает, потому что зулус не смог бы ответить. Он просто знал.
Они медленно двинулись вверх по долине, Пунгуше шел перед мулом, далеко отклоняясь в стороны; он внимательно искал признаки пребывания львов и на второй день взял след.
— Теперь она повернула. — Пунгуше сидел на корточках над следом: отпечатками больших, размером с блюдце, лап и множеством меньших следов львят. — Думаю, она возвращается к Усути. — Он кивком указал на след, коснувшись его стеблем тростника — своей палочкой следопыта. — Она вела детенышей обратно, но потом изменила намерение. Повернула на юг; должно быть, прошла недалеко от того места, где мы вчера заночевали. Она остается в долине. Теперь это ее долина, и она из нее не уйдет.
— Да, — мрачно кивнул Марк. — Больше она не уйдет из долины. Иди по ее следу, Пунгуше.
Львица двигалась не спеша, и след с каждым часом становился все горячее. Они нашли место, где она неудачно охотилась. Пунгуше показал, где она затаилась, показал глубокие царапины в земле — следы, оставленные когтями задних лап, когда львица прыгнула на спину взрослой зебре. В двадцати шагах она тяжело упала, сброшенная диким прыжком зебры. Она ударилась плечом, — сказал Пунгуше, — а зебра убежала, но теряла кровь из-за ран на боку. Львица ушла хромая и долго лежала под колючим деревом, потом встала и медленно вернулась туда, где она оставила львят. Вероятно, падая, она порвала мышцу или жилу.
— Когда мы ее найдем? — спросил Марк. Его лицо превратилось в каменную маску мести.
— Может быть, до заката.
Но они потеряли на каменистом хребте два часа, и Пунгуше пришлось далеко уходить в стороны и приложить все свое умение, чтобы найти след там, где он был сдвоен, а потом резко повернул на запад, к откосу.
Пунгуше и Марк заночевали у маленького костра, прямо на земле.
Марк не спал. Он лежал и смотрел на медленно восходящую над вершинами деревьев убывающую луну, но только когда Пунгуше негромко заговорил, Марк понял, что зулус тоже не спит.
— Детеныши еще не отняты от груди, — сказал он. — Умирать они будут долго.
— Нет, — ответил Марк, — их я тоже застрелю.
Пунгуше приподнялся и взял понюшку, опираясь на локоть и глядя на угли костра.
— Она попробовала человеческую кровь, — сказал наконец Марк. Даже в своем горе и гневе он чувствовал неодобрение Пунгуше и хотел оправдать то, что собирался сделать.
— Она не кормилась, — заявил Пунгуше, и Марк снова ощутил горечь во рту, вспомнив искалеченное тело. Но Пунгуше прав: львица не стала есть разорванную плоть.
— Пунгуше, это моя жена.
— Да, — кивнул Пунгуше. — Это так. И ее детеныш.
Марк обдумал его слова и впервые заколебался. Львица действовала, подчиняясь одному из древнейших жизненных инстинктов — стремлению защитить своих детей. А что движет им?
— Я должен ее убить, Пунгуше, — сказал он ровно, и в животе у него шевельнулось что-то скользкое и недостойное: это произошло впервые, и он попытался отрицать его существование.
Марион мертва. Милая, верная, послушная Марион. Мужчина может только мечтать о такой жене. Умерла страшной смертью, и теперь Марк один. Или на ум ему слишком легко пришло слово «свободен»?
Неожиданно он увидел стройную смуглую женщину и маленького голого мальчика, идущих вдоль края моря.
Вина — эта скользкая тварь — снова шевельнулась в животе и начала извиваться, как змея, а он не мог ее раздавить.
— Она должна умереть, — повторил Марк; возможно, с этой очистительной смертью умрет и его вина.
— Хорошо, — согласился Пунгуше. — Мы найдем ее завтра до полудня. А теперь поспешим к великой пустоте.
* * *
Львицу они нашли на следующий день рано утром. Она перебралась поближе к откосу, и когда детеныши, ослабев от начинающейся дневной жары, уже не шли, а мрачно плелись за ней, она выбрала дерево с плотной зонтикообразной кроной, с ветвями, отходящими от прямого ствола, и легла в тени на бок, показав мягкую кремовую шерсть на брюхе и двойной ряд плоских черных сосков.
Львята были сыты, и только два самых алчных принялись сосать; их животы раздулись, и они пыжились, стараясь проглотить лишку.
Неутомимый охотник за хвостами сейчас сосредоточился на длинном материнском хвосте; в последний миг каждого его нападения она отдергивала черную кисточку, которой заканчивался хвост.
Трое других доблестно боролись со сном яростными взрывами ни на что не направленной энергии, но все же медленно сдавались слипающимся глазам и набитым животам, пока не улеглись неаккуратной грудой меха и лап.
Марк находился в ста двадцати ярдах по ветру. Он лежал за маленьким муравейником, и ему потребовался почти час, чтобы подобраться так близко. Дерево с кроной зонтиком росло на открытой, заросшей травой площадке, и Марку пришлось ползти по-черепашьи, держа ружье на сгибе локтя.
— Можно подобраться ближе? — спросил он; его шепот был еле слышен. Короткая желтая трава едва скрывала лежащую на боку львицу.
— Джамела, я могу подобраться так близко, что сумею ее коснуться.
Пунгуше подчеркнул слово «я», оставив остальное невысказанным.
Они лежали на солнце еще двадцать минут, пока львица не подняла голову.
Может быть, какое-то глубинное чутье, инстинкт выживания предупредили ее о появлении охотников. Голова ее поднялась стремительным желтым движением — с тем невероятным проворством, что свойственно всем большим кошкам; львица пристально посмотрела туда, куда дул ветер, в сторону наибольшей опасности.
Она смотрела несколько долгих секунд, ее широко расставленные желтые глаза не двигались и не мигали. Чувствуя ее тревогу, два львенка сонно сели ждать вместе с ней.
Марк чувствовал, что львица смотрит прямо на него, но подчинился закону полной неподвижности. Если он попытается поднять «манлихер», первое же движение заставит львицу исчезнуть с невероятной скоростью. Поэтому Марк ждал. Медленно проходили секунды. Неожиданно львица опустила голову и снова вытянулась.
— Она беспокоится, — предупредил Пунгуше. — Подойти ближе нельзя.
— Я не могу стрелять отсюда.
— Подождем, — сказал Пунгуше.
Все львята теперь спали, львица дремала, но оставалась настороже: раздув ноздри, она в поисках опасности старательно принюхивалась к каждому порыву ветра, большие круглые уши не останавливались — при малейшем шорохе ветра, треске ветки, в ответ на голос птицы или животного они дергались.
Марк лежал под прямыми лучами солнца, пот пропитал его рубашку. За его ухом села муха цеце и вонзила жало в мягкую плоть, но он не попытался согнать ее. Прошел час, прежде чем представилась такая возможность.
Львица неожиданно встала, хвост хлестал по бокам. Она слишком тревожилась, чтобы дольше лежать под деревом. Львята сонно сели и удивленно повернули к ней мохнатые мордочки.
Львица стояла боком к тому месту, где лежал Марк.
Голову она держала низко, пасть была раскрыта, львица тяжело дышала на жаре. Марк был так близко к ней, что видел темные точки мух цеце у нее на боках.
Она была в тени, но солнце, отражаясь от травы за ней, освещало ее. Идеальные условия для выстрела в точку, отделенную от локтя расстоянием в ладонь; пуля разорвет оба легких, а если попасть чуть ниже, угодит прямо в сердце.
В легкие вернее, в сердце быстрее. Марк выбрал сердце и поднес ружье к плечу. Предохранитель давно был в положении для стрельбы.
Марк выбрал свободный ход спускового крючка и почувствовал его сопротивление, предшествующее срабатыванию механизма.
Пуля весит 230 гран, ее бронзовая оболочка увенчана мягким свинцовым куполом; при ударе свинец расплющится и разворотит львице грудь.
Львица негромко созвала львят, они послушно встали, чуть пошатываясь спросонок.
Легкой кошачьей походкой она вышла на солнце, покачивая при каждом шаге головой, чуть изогнув длинную спину; обвислые соски делали изящные линии ее тела чуть более массивными. «Нет, — подумал Марк, — выстрелю в легкие». Он немного приподнял руку, устойчиво держа ружье в четырех дюймах от локтя, и поворачивал его вслед за пустившейся коротким тревожным шагом львицы.
Львята гурьбой побежали за ней.
Марк держал львицу на прицеле, пока она не добралась до края буша; затем она мгновенно исчезла, как облачко дыма под порывом ветра.
Когда она исчезла, он опустил ружье и посмотрел ей вслед.
Пунгуше увидел, что в нем наконец что-то сломалось. Сломался сплав холодной ненависти, вины и ужаса, и Марк заплакал; он плакал, сотрясаясь от этих целительных, очищающих слез.
Трудно смотреть на плачущего мужчину, особенно если это твой друг.
Пунгуше незаметно встал и отошел туда, где они оставили стреноженного мула. Здесь он одиноко сел на солнце, взял понюшку и принялся ждать Марка.
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОВОРИТ О ДОЛГЕ ПЕРЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ
Недавно назначенный заместитель министра земледелия мистер Дирк Кортни выразил сегодня озабоченность в связи с гибелью молодой женщины на закрытой территории Северного Зулуленда.
Женщину, миссис Марион Андерс, жену назначенного правительством хранителя этой территории, в прошлую пятницу насмерть искалечила львица.
Этот несчастный случай подчеркивает серьезную опасность, которую создает пребывание диких животных близ заселенных местностей.
Пока сохраняется такое положение, жителям этих местностей будет постоянно грозить опасность нападения хищников, порчи посевов и распространения переносимых дикими животными болезней скота.
Мистер Дирк Кортни напомнил, что эпидемия чумы на рубеже столетий привела к гибели свыше двух миллионов голов.
Чума — болезнь, передаваемая дикими животными. Министр заявил: «Мы не можем допустить повторения подобного несчастья. Заказники Северного Зулуленда примыкают и к высокоценным пахотным землям и к водным источникам, необходимым для сохранения национальных ресурсов. Если мы хотим плодотворно использовать свои ресурсы, эта территория должна развиваться под должным управлением». Министр продолжил: «Правительство придает этому вопросу важнейшее значение, и необходимый законопроект будет представлен парламенту на следующей сессии».
Марк внимательно читал статью. Она была помещена на видном месте — на первой полосе «Натальского очевидца».
— Есть еще много такого. — Генерал Шон Кортни похлопал по тонкой папке, в которой лежало больше десяти вырезок. — Возьми их с собой. Ты увидишь: смысл один и тот же. Боюсь, Дирк Кортни бьет в очень большой барабан. Теперь он важная птица.
— Я не думал, что он станет заместителем министра.
— Да, — кивнул Шон. — Он получил власть, но, с другой стороны, у нас тоже есть голос. Несколько наших, сторонников Янни Сматса, выиграли убедительно, даже мне предложили место от другого округа.
— Вы примете предложение, сэр?
Шон покачал серебряной бородой.
— Я слишком долго жил публичной жизнью, мой мальчик, а все слишком долгое в конце концов надоедает. — Он кивнул, думая над своими словами. — Конечно, это не совсем верно. Я устал, пусть берут бразды молодые, у них больше энергии. Янни Сматс постоянно поддерживает со мной связь, он знает, когда обращаться ко мне, но я чувствую себя как старый зулусский вождь. Хочу сидеть на солнце, пить пиво, толстеть и считать свой скот.
— А как же Ворота Чаки, сэр? — взмолился Марк.
— Я разговаривал с Янни Сматсом и кое с кем еще — из обеих группировок парламента. У нас и в новом правительстве хорошая поддержка. Не хочу превращать это в проблему партии. Мне бы хотелось, чтобы это было делом совести каждого человека.
Они разговаривали, пока неохотно не вмешалась Руфь.
— Уже заполночь, дорогой. Договорите завтра утром.
— Когда ты уезжаешь, Марк?
— Я должен быть у Ворот Чаки завтра к вечеру.
Марк почувствовал укол вины. Он хорошо знал, что еще какое-то время не вернется домой.
— Но ты позавтракаешь с нами?
— Да, с удовольствием. Спасибо.
Вставая, Марк взял со стола Шона газетные вырезки.
— Завтра я верну их вам, сэр.
Однако, оставшись в своей комнате один, Марк сел в кресло и занялся обратной стороной вырезки, которую принес с собой.
В присутствии генерала он не смел посмотреть на статью, которая привлекла его внимание заголовком, но теперь принялся читать и перечитывать ее, наслаждаясь.
ВЫДАЮЩАЯСЯ ВЫСТАВКА МОЛОДОЙ ХУДОЖНИЦЫ
В выставочном зале «Морского отеля» на Приморской набережной проходит выставка тридцати картин молодой художницы.
Для мисс Бури Кортни это первая публичная выставка, но даже гораздо более взрослые и опытные художники были бы довольны таким приемом со стороны любителей искусства нашего города. За первые пять дней уже нашла покупателей двадцать одна картина по цене от пяти до двадцати гиней. У мисс Кортни классическая концепция формы сочетается с необыкновенным чувством цвета и зрелым уверенным мастерством, редким у молодых.
Особого упоминания заслуживает картина № 16 — «Греческий атлет на отдыхе». Эта картина, собственность художницы, не предназначенная для продажи, представляет собой лирическую композицию, при виде которой, возможно, старомодные зрители поднимут бровь. Она необычайно чувственна…
Здесь ножницы обрезали текст, оставив Марка с тревожным чувством незавершенности. Он перечитал вырезку, очень довольный тем, что Буря вернулась к девичьей фамилии, которой подписывает работы. Он старательно спрятал вырезку в бумажник и долго сидел в кресле, глядя на стену, пока не уснул одетый.
* * *
Дверь открыла молодая зулусская девушка, не старше шестнадцати. Она была одета в традиционное белое хлопчатобумажное платье няни и держала на руках маленького Джона.
Няня и ребенок смотрели на Марка большими серьезными глазами, но няня испытала явное облегчение, когда Марк заговорил с ней на беглом зулусском.
При звуках голоса Марка Джон испустил восторженный вопль, который мог означать узнавание, но скорее всего был просто дружеским приветствием. Он с такой силой запрыгал на руках няньки, что ей пришлось перехватить его, чтобы он не взвился в небо, как ракета. Ребенок протянул обе руки к Марку, смеясь, гукая и издавая радостные вопли, и Марк взял его у няньки, теплого, вырывающегося, пахнущего по-детски. Джон немедленно схватил Марка за волосы и попытался с корнем вырвать прядь.
Полчаса спустя, когда Марк передал ребенка круглолицей няне и пошел по крутой тропинке к берегу, вслед ему неслись гневные протестующие вопли Джона, затихшие только на расстоянии.
Марк сбросил туфли и рубашку, оставил их выше линии прилива и пошел на север, босиком по заливаемому волнами песку, оставляя отпечатки на ровной влажной поверхности.
Он прошел около мили, но никого не увидел. Песок пляжа был волнистым от небольших волн; его испещряли следы морских птиц.
Справа от него длинными стеклянными стенами вздымался прибой, зеленые гребни завертывались внутрь и обрушивались потоком белой воды с такой силой, что песок под ногами дрожал. Слева выше белого пляжа стеной поднимался густой темно-зеленый буш, а за ним далекие голубые холмы и высокое синее небо.
Он был один, пока не увидел впереди, примерно в миле от себя, другую фигуру, тоже идущую вдоль моря, маленькую и одинокую; фигура двигалась к нему и была еще слишком далеко, чтобы понять, мужчина это или женщина, друг или незнакомец.
Марк пошел быстрее, и фигура приблизилась, стала видна отчетливее.
Марк побежал. Фигура перед ним внезапно остановилась и стояла неподвижно, как готовая взлететь птица.
Вдруг эта неподвижность взорвалась, фигура устремилась к нему.
Это была женщина — ветер развевал ее длинные темные волосы, босая загорелая женщина, белозубая, с синими, очень синими глазами, и она бежала к Марку, простирая к нему руки.
* * *
Они были в спальне одни. Кроватку маленького Джона перенесли в небольшую столовую за соседней дверью, потому что он начал проявлять интерес ко всякой возне, с громкими криками одобрения высовывался из кровати и пытался вырвать деревянные перила и присоединиться к веселью.
Сейчас они наслаждались минутами удовлетворения между любовью и сном, негромко разговаривали при свече, укрывшись одной простыней, лежа на боку лицом к лицу, прижимаясь друг к другу, почти соприкасаясь губами, когда шептались.
— Но, Марк, милый, все равно это хижина, крытая тростником, и все равно это дикий буш.
— Это большая крытая тростником хижина, — возразил он.
— Ну, не знаю. Я просто не знаю, настолько ли изменилась.
— Есть только один способ узнать. Поехали со мной.
— Но что скажут люди?
— То же самое, что скажут, если увидят нас сейчас.
Она легко усмехнулась и теснее прижалась к нему.
— Это был глупый вопрос. Говорила прежняя Буря. Люди уже сказали обо мне все, что могли, и все это не имело никакого значения. А там почти некому будет судить нас.
— Только Пунгуше, а он джентльмен широких взглядов.
Она снова сонно рассмеялась.
— Мне важно мнение только одного человека… Папа не должен знать. Я и так причинила ему достаточно боли.
* * *
Так Буря наконец приехала к Воротам Чаки. Она приехала на своем побитом, потрепанном «кадиллаке», Джон сидел рядом с ней. Все ее имущество было сложено в машине или привязано к ее крыше, а Марк, сопровождавший ее на мотоцикле, проезжал вперед на трудных и неровных участках дороги.
Там, где над рекой Бубези дорога обрывалась, Буря вышла и осмотрелась.
— Что ж, — сказала она наконец после того, как долго задумчиво разглядывала грандиозные утесы, и реку с зеленой водой и белыми берегами, обрамленными высокими качающимися тростниками, и большие, раскидистые дикие фиговые деревья, — по крайней мере здесь живописно.
Марк посадил Джона на плечо.
— Мы с Пунгуше вернемся за твоим багажом с мулами.
И он повел ее по тропе вниз к реке.
Пунгуше ждал их под деревом на противоположном берегу — высокий, черный, внушительный, в набедренной повязке из шкуры льва, украшенной бусами.
— Пунгуше, это моя женщина, ее зовут Вунгу Вунгу — Буря.
— Я вижу тебя, Вунгу Вунгу. Я вижу также, что тебя неправильно назвали, — спокойно сказал Пунгуше, — потому что буря убивает и уродует, она отвратительна. А ты красавица.
— Спасибо, Пунгуше, — улыбнулась Буря. — Но тебя тоже назвали неправильно, потому что шакал — маленькое и злобное существо.
— Но умное, — серьезно сказал Марк. Джон приветственно закричал и принялся прыгать на плече у Марка, протягивая обе руки к Пунгуше.
— А это мой сын. Пунгуше посмотрел на Джона.
— Есть две вещи, которые зулус любит больше всего: скот и дети. Из них предпочтительней дети, причем мальчики. А из мальчиков зулус больше всего любит крепких, здоровых, смелых и боевых. Джамела, я хотел бы подержать твоего сына, — сказал он, и Марк отдал ему Джона.
— Я вижу тебя, Фимбо, — поздоровался Пунгуше с ребенком. — Вижу маленького человека с большим голосом.
И Пунгуше улыбнулся широкой сверкающей улыбкой, а Джон снова радостно закричал и полез Пунгуше в рот, чтобы схватить большие белые зубы, но Пунгуше посадил его на плечо, громко рассмеялся и понес мальчика вверх по берегу.
Так они оказались у Ворот Чаки, и с самого первого дня никаких сомнений не было.
Через час в дверь кухни скромно постучали. Марк открыл и увидел на крытой веранде стоящих в ряд дочерей Пунгуше, от самой старшей, четырнадцати лет, до самой младшей — четырех.
— Мы пришли поздороваться с Фимбо, — заявила старшая.
Марк вопросительно взглянул на Бурю, и та кивнула. Старшая девочка привычным движением посадила Джона себе на спину и привязала полосками хлопчатобумажной ткани. Она была нянькой у всех своих братьев и сестер и, вероятно, знала о младенцах больше, чем Марк и Буря, вместе взятые. Джон лягушкой растопырился у нее на спине, словно чистокровный зулус. Девочка поклонилась Буре и ушла в сопровождении процессии сестер. Они унесли Джона в удивительный мир, населенный самыми разными играми.
На третий день Буря начала делать эскизы, а к концу первой недели взяла на себя управление домашним хозяйством по системе, которую Марк называл удобным хаосом, чередующимся с периодами дьявольщины.
Удобный хаос — значит, все едят что хотят: например, сегодня на ужин шоколадное печенье и кофе, а завтра жареное мясо. Ели там, где хотели, например, лежа в постели или на тряпке, разостланной на песчаном берегу реки. Ели когда хотели: завтракали в полдень, ужинали в полночь, если разговоры и смех надолго затягивались.
Удобный хаос — значит, забыть, что мебель полируют, а полы моют, и одежду, требующую глажки, комком отправляют в ящик комода, и разрешают волосам Марка расти так, что они спадают на воротник. Удобный хаос непредсказуемо и неожиданно заканчивался и сменялся адом.
Ад начинался, когда у Бури вдруг появлялся стальной блеск в глазах и она объявляла: «Да тут настоящий свинарник!» За этим следовали щелканье ножниц, ведра горячей воды, тучи летящей пыли, развешивание кастрюль и сверкание иглы. Марка стригли и переодевали в чистую одежду, дом сверкал чистотой, а Бурино «чувство гнезда» успокаивалось на новый неопределенный период.
На следующий день она садилась верхом на Спартанца, по-зулусски прицепив к спине Джона, и отправлялась с Марком объезжать долину.
Когда Джона в первый раз взяли в объезд, Марк с тревогой спросил:
— Думаешь, стоит брать его? Он ведь еще такой маленький.
Буря ответила:
— Я старше и важней мистера Джона. Он должен приспосабливаться к моей жизни, а не я к его.
И вот Джон ездил в патрули, спал по ночам в своей корзине из-под яблок и принимал дневные ванны в прохладной зеленой воде реки Бубези, быстро выработал невосприимчивость к укусам мухи цеце и процветал.
По крутой тропе они поднялись на вершину Ворот Чаки, сели, свесив ноги над страшной пропастью, и увидели всю долину, далекие голубые холмы, равнины, болота и извилистую реку.
— Когда я впервые тебя встретила, ты был беден, — негромко сказала Буря, прислонившись к плечу Марка; в ее взгляде светились покой и восхищение. — Но теперь ты самый богатый человек в мире, потому что тебе принадлежит рай.
Он отвел ее вверх по реке к одинокой могиле под откосом. Буря помогла воздвигнуть пирамиду из камней и поставила крест, который изготовил Марк. Он передал ей рассказ Пунгуше о том, как был убит старик, и, сидя на могильном камне, слушая и переживая каждое слово, она плакала откровенно и не стыдясь, держа Джона на коленях.
— Раньше я смотрела, но никогда не видела, — сказала она, когда Марк показал ей гнездо колибри, искусно сплетенное из лишайника и паутины; он осторожно повернул гнездо, чтобы она могла заглянуть в узкое отверстие и увидеть крошечные пятнистые яйца. — Я не знала истинного мира, пока не пришла сюда, — проговорила Буря, когда они сидели на берегу Бубези в желтом свете гаснущего дня и смотрели, как самец куду с длинными спиральными рогами и словно вымазанными мелом плечами ведет своих большеухих самок на водопой. — Раньше я не знала, что такое счастье, — шептала она, когда они без видимой причины просыпались за полночь и тянулись друг к другу.
Потом однажды утром она села на измятой постели, по которой беспрепятственно скакал Джон, разбрасывая крошки печенья, и серьезно посмотрела на Марка.
— Однажды ты попросил меня выйти за тебя замуж, — сказала она. — Не угодно ли повторить предложение, сэр?
В тот же день они услышали выше по долине топор дровосека.
Когда двуручный топор ударяет по стволу дерева с жесткой древесиной, звук напоминает ружейный выстрел; этот звук натолкнулся на утесы Ворот Чаки, отлетел назад и раскатился затихающим эхом по всей долине; звук каждого удара висел в воздухе, пока не раздавался следующий. Работало несколько дровосеков, и стук стоял непрерывный, словно там гремела битва.
Буря никогда не видела Марка в таком гневе. Кровь отхлынула от его лица, так что загорелая кожа стала лихорадочно-желтой, губы словно замерзли и гневно поджались. Но глаза сверкали, и ей пришлось бежать вверх по усеянному осыпью речному берегу под утесами, чтобы не отстать от Марка, который теперь шагал размашисто, подстегиваемый злостью, а наверху гремели топоры, и каждый новый удар становился таким же жестоким потрясением, как предыдущий.
Прямо над ними могучее дерево задрожало, словно в предсмертной муке, и пошатнулось на фоне неба. Марк остановился, глядя на него, запрокинув голову; та же боль искривила его губы. Дерево было удивительно соразмерное, правильной формы, серебряный ствол уходил к небу с такой грацией, что казался стройным, как девичий стан. Требовалось двести лет, чтобы дерево могло достичь такой высоты.
В семидесяти футах над землей темнел зеленый купол кроны.
У них на глазах дерево задрожало, и стук топоров смолк. Медленно, величественно дерево начало очерчивать нисходящую дугу, все быстрее, полуразрубленный ствол застонал, затрещали, разрываясь, тяжи древесины; дерево падало все быстрее и быстрее, круша вершины менее высоких деревьев; раздираемая древесина пронзительно стонала, как живое существо, пока наконец дерево не ударилось о землю с глухим стуком, который отозвался у Марка во всем теле.






