Хранитель понятий Логачев Александр
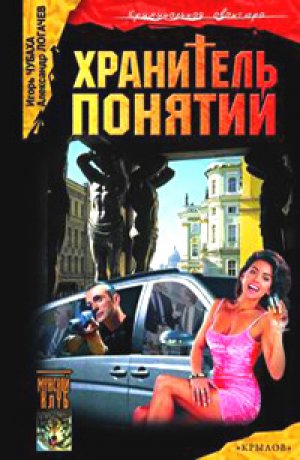
– Настоящая русская зима, – постановил Роберт Ливси, раскурив трубку и отфыркиваясь от снежинок. – Сибирская.
– Для англичан все, что гуще дождя – снег, а все, что холоднее чая – зима. Побывайте в Кембрийских горах, доктор, и вы узнаете настоящую зиму, – шотландец Мак-Набс насыпал на бумагу лучший из вирджинских табаков и ловко скрутил на машинке папиросу. И вряд ли понял, что по этому поводу прогнал один из тусующихся недалече пацанов другому, такому же правильному пацану:
– Глянь, Букса! Импорт косяк забил. Типа бурый, типа наши мусора по рогам. Может, развести фирмачей? Типа мы – менты по борьбе с марафетом.
– Ты забыл, сявка, зачем здесь? Шукай билеты!
Здесь – это в нише парадного подъезда Мариинки. Где, как в водопроводном кране, тепло смешивается с холодом. Где человеки в пальто и в шубах мирно сосуществуют с людьми в платьях и пиджаках. Скажем, в одних пиджаках вышли покурить на воздух британцы.
– Обратите внимание, Мак-Набс, на менеджеров по билетам, – сказал доктор Роберт Ливси. – Молодые крепкие львы. В прошлом году трудились исключительно пожилые леди. Видимо, эта работа стала престижной. Как быстро в России меняется конъюктура!
И хотя Мак-Набс обращал внимание на другое, на то, как мало женщин направляется в театр этим вечером, он счел невежливым не ответить коллеге по конгрессу эндокринологов:
– Для англичан любые перемены все равно что объявление войны. Вы, англичане, до сих пор не можете привыкнуть даже к смене времен года...
– А если баксами тройную цену? – звучало в тесном кольце.
– Отдай им, Федя, – сдалась дама. – За четыре номинала.
– Борзеешь, корова. Три номинала, или начинаем резать!
– Мне кажется, нас привезли не в театр, а на соревнования по боксу, – оглядываясь в теплом, как камин, фойе, поставил диагноз Роберт Льюис, и его чуть не унесло потоком граждан с футлярами контрабасов и скрипок в руках, и все равно на музыкантов не очень пожожих.
– Вы, англичане, готовы видеть бокс даже в черных граблях, наступая на них в черной комнате, – Мак-Набс хотел развить остроту, но внезапно был оттерт двумя русскими «мьюжиками», бросившихся навстречу друг другу.
– Леха!
– Жук!
Объятия и похлопывания.
– Когда откинулся?
– По первомайской амнухе. А ты, Леха, в Питере, значит, вкрутился?
– Ну! Костика, фельдшера при вошебойке, помнишь?
– В натуре, не забуду. А ты, Жук, чего в театр прихилял, ты ж больше по крокодилам (сиречь поездам)?
– Эту... пьесу, бляха, охота позырить. А ты чего, Леха?
– Да-а-а... типа... Короче, балерину одну склеить хочу...
– А это кто к зеркалу поковыляла?
– А это чувырла моя. Ленка. Хочешь подарю тебе, корешу лепшему?
То, что Вензель через подставных лошадок скупил добрую долю билетов, не ускользнуло от служб безопасности Махно и Киселя. Зафиксировав Вензелев кипеш, они и сами решили театр посетить, и массовку свою подогнали – не привыкли авторитеты посещать культурные мероприятия сами-бля без ансам-бля. Тем паче, отмечали службы безопасности разорительную суету Вензеля вокруг Шрама. Типа, Вензель попросил всех переждать, а сам за Эрмитажными списочками во все тяжкие пустился.
А об служебный вход бились снежинки. Монтер сцены Булгакин спешил на рабочее место в мир, где правит Мельпомена с Терпсихорой. Праздничный сверток под мышкой шуршал, попахивал колбасой, булькал, булькал и еще раз булькал.
Булгакин спешил, однако на капот самого выпендрючного джипаря плюнул. Езжай себе к баням и быкуй, но не у нашего родного Мариинского театра.
На служебном торчали два бугая. Булгакину они не понравились: тошными харями, понтами «Стой! Пропуск!», охлопыванием карманов и тем, что развернули сверток. Опять, что ли, Путин нагрянул? Вот некстати.
Откуда было знать простому честному монтеру, что это Волчок начал реализовывать утвержденный Вензелем план. По всем дверям театра, размахивая бадяжными ксивами и напирая на угрозу терроризма, заняли посты Вензелевские торпеды. Их задачей было не только под вохру косить и безбилетных отморозков заворачивать, но и старательно запоминать тех, кто входит.
У каждого бойца у сердца хранилась стопка фотографий с рожами прим, золотых глоток и верхушки театральной власти. Вензель должен был увериться, что вся театральная рать оказалась внутри Мариинских стен. Тогда можно будет перейти к следующей части убойного плана по овладению списками.
В монтерской же припозднившийся пролетарий оперного труда Булгакин вдруг напоролся на невозможно трезвые и невыносимо постные глаза друзей, монтеров сцены. Братцы-кролики сидели, как зрители на премьере, на стульях, в рядок.
– Да вкатывайся же ты! – забуксовавшего Булгакина за шкирку выцепили из проема дверей и запустили к свободному стулу, заставив сверток тревожно звякнуть.
Оказывается, не только друзья находились в монтерской. Едва не снеся стул, Булгакин обернулся, горя страстью заехать в хамское рыло, но у каждого из трех незнакомых парней, пришкерившихся в засаде за дверью, торчало в щупальцах совершенно не бутафорское оружие.
– Теперь все? – спросил у бригадира монтеров сцены самый плечистый хлопец с самым большим пистолетом и получил от бригадира ссыклиый кивок. – Тогда начнем, пожалуй.
И самый плечистый, в плаще до пола и широкополой шляпе, начал задумчиво прохаживаться вдоль стульев с сопящими в тряпочку монтерами. «Во урод, – наблюдал за ним благоразумно поджавший лапки Булгакин. – Шире в плечах, чем выше... Как же это сказать... Ширина больше роста. Вширь длиннее, чем ввысь. Короче, приплюсутый»...
– Он! – приплюснутый указал стволом на Булгакина с видом, будто Булгакину выпал выигрыш в спорт-лото.
– Да он же самый борзый, Тарзан! – аж присел от полного несогласия чувак с боксерским носом.
– Он, – приплюснутый по-хозяйски сплюнул на пол монтерской. – Я сказал!
Вензель прикинулся в сиреневый смокинг, в лакированные сиреневые штиблеты. Ворот белой, как из рекламы про прокладки, рубахи душил красный джазменовский кис-кис. Вензель прихватил с собой в театр любимого кота по кличке Филидор: помойной породы, жирного, черно-белой, как у старых телевизоров, раскраски, шерстистого, учесанного в умат и с понтами пантеры. Надежно зафиксировав откидное кресло рядом с Вензелем, на него пристроили любимую подушку кота, пуховую, с кисточками, которые в кайф потрепать лапами. Кот лежал на спине, предлагая чесать ему живот. Чем Вензель и занимался, прислушиваясь к разминке оркестра и оглядывая зал. Трость позолоченным набалдашником, будто алкоголик в салат, уткнулась в бархатную спинку барьера.
Вензель сидел согласно купленным билетам на галерке. Кто бы ляпнул типа «Что ж ты, папаша, не по чину уселся, в самый несолидняк?» – прожил не дольше бы, чем взводится курок.
Жора-Долото, усаженный за спиной Вензеля, водил биноклем по залу и докладывал:
– Харчо, харя черномазая, шестой ряд амфитеатра. Паленый, сука подлая, партер, четырнадцатый ряд. Театралы, бля.
Шрам, усаженный рядом с Вензелем, может, приклифтен был не так фаршировано, не в галстук с пиджаками, зато вел себя строго по театральным понятиям. Программка на колене, шея чистая, по фене в полный голос не ботает, полон трепетного ожидания, – короче, все пучком, никакого шухера.
– И нас во все бинокли цинкуют, Вензель, – с надрывом отрапортовал Долото. На что Вензель лишь неопределенно почмокал губами. Шрам мог бы приплюсовать к базару Долото известие, что и его, Шрамова, братва сечет толкучку, но зачем перегружать сявку костями, еще подавится.
Шрам застучал пальцами по программке на коленях – ни дать ни взять конкретный театролюб, изнывающий по третьему звонку.
Онбыл еще жив, поскольку мнительный Вензель подозревал, что покеда не до донышка выжал из Сереги известное тому за списки. И кроме того, на рождественские каникулы отвалили все нотариальные конторы. А передачу от Шрама к Вензелю собственности следовало запротоколировать юридически абсолютно легально. Типа, если все покатит по плану Вензеля, жить Сереге до третьего января.
– Позыркай, Чек, какие сыроежки! – пальцан, обхваченный золотой гайкой, провел потную дорожку по стеклу, за которым театральщики упрятали пожелтевшую фотографию. – Их бы к нам, чтоб на бильярде сплясали про лебедей.
– Ты на год глянь. И достал уже слушай, Арбуз. Хоре стены обходить. Почапали в буфет!
– Там давиловка, Чек. Черные засели. Ты сам слыхал, за разборки без команды, печень вырвут.
Чистая правда. Кисель с кривоносым Махно не шибко понадеялись, что если будут сидеть истуканами в зале, то Вензель сдрейфит и тормознет свои подлые амбиции. По этому Махно с Киселем сообща прикумекали кое-что позабористей: решили устроить старцу небольшой сюрприз со своей стороны. Как только потухнет безобразие на сцене, и финально опустится занавес, их самые доверенные люди с гранатометами... Молчу, молчу, молчу. Но если старик залупится и не капитулирует, одним Вензелем станет меньше на свете белом.
В гримерке балерин еще ни о чем не догадывались. Полураздетые барышни были такие хорошенькие, что не наглядеться на себя в зеркало.
– Зиночка, а ты где справляешь?
– Мы с Сереженькой справляем у Хабибулиных на даче. Будут Рогины, скрипачка Надя, и для нее позвали Куакина. Маша, завяжи мне сзади!
– Столько черненьких в зале, девочки! Так страшно! Вдруг взорвут!
– А сами?
– И сами взорвутся. Они же глупенькие. Каждый пронес по гранате, по команде дернут и взорвутся.
– Думаешь, они Новый год не справляют?
– У них же весной Новый год. Маша, поправь мне розочку!
– Нет, правда, девочки, зал сегодня какой-то странный. Почти одни мужчины.
– Наверное, Ленка своих хахалей провела.
– Ошибаешься, балаболка! Если б я всех своих позвала, стадион пришлось бы заказывать...
...Гайдук засел в сортире. Хорошо, пацаны на входе торчали незнакомые, а в хате с люстрами он вовремя срисовал Арбуза с Чеком, которые пялились на фотки, а потом узырил еще двух знакомых пацанов. Пришлось срочно шкериться в сортире.
Гайдук прихилял один. Уже вчера купонов в кассе не было. Пришлось тащиться за фраером, выкупившем броню, отоваривать по башне, а для ложного следа тырить еще и лопатник с кредитными карточками, часы и цепочку. Карточки Гайдук бросил нищему в шапку, а второй, лишний, купон сжег над газовой плитой.
– Занято! – отшил он очередного нетерпеливого театрала, глотая перекумаренный освежителем воздух. Будто в хвойном лесу, только рядышком мишка отстрадал медвежьей болезнью.
– Козел сраный, – двинул ногой по двери невидимый театрал.
Гайдук еле сдержался, чтобы не выхватить волыну. Нельзя, бляха-муха. Маслята заготовлены для Шрама. Гайдуку по помидору групповые разборки, ему нужен этот подлый крендель Шрам, а Шрам тут сегодня нарисуется в обязаловку. Наводка – точняк...
...Маргарита Алоизевна служила театру вот уже шестнадцатый год. Седьмой год ее пост был неизменен – у царской ложи. Пусть кто-то называет ложу правительственной, пусть кто-то на новый лад выражается ложа-вип, но ложа навечно останется царской, какой создана. В ней императоры восторгались легконогим балеринам, рукоплескали оперным примам и влюблялись в них без памяти. Николай Романов и Матильда Кшесинская – любовь в сиянии свечей и бриллиантов короны, под скрип каретных колес. Из этой ложи царевны и великие княжны украдкой рассматривали пышноусых гвардейцев и томно обмахивались веером. Какие были времена!
До сегодняшнего дня Маргарита Алоизевна никак не предполагала, что грядут совсем иные – погибельные времена. Что ложу осквернят люди, которых и дальше Лиговки не следовало бы пускать. А их пустили в святая святых. Губернаторы, послы, посланники, английская королева, Ким Ир Сен, Шеварднадзе, вы слышите, никогда, вы слышите, ни-ког-да еще царскую ложу не превращали в рынок!
– Э, женщина, иди сюда! Меню давай! – джигит выдернул программку из программного букета в руках старушки, сунул стольник и прогоняюще махнул рукой. – Сдачи не надо.
Коричневых и черных кожаных курток в ложе все прибывало, абреков набралось уже больше, чем царских мест, но шли и шли новые. Они целовались, обнимались, горланили, гомонили и горлопанили.
– Нельзя! – Маргарита Алоизевна раскинула руки перед галдящей отарой с шампанским, коньяком, фруктами и двумя крашеными блондинками. – Охрану позову!
– Э, что кричишь? На! – ей в программки сунули русский стольник. Сунули ей, той, которой целовал руку сам Михалков-Кончаловский, с которой поздоровался сам Путин, которой кивнула английская королева. Маргарита Алоизевна не могла никого позвать. Никто кроме нее не защитит ложу.
Маргарита Алоизевна припомнила своего мордатого зятя, их кухонную войну, его дробящие уши монологи. Маргарита Алоизевна едва удержала руку, чтоб не перекреститься. Господи, прости меня за грехи мои тяжкие, не корысти ради, а токмо во имя святости театральной!
– Короче, – пугаясь собственной смелости, она приставила к ближайшему щетинистому горлу край програмковой кипы, – звери, рюхай сюда! Мариинка – не фруктовый склад и не бордель, – зятевы слова почему-то без труда вылетали на язык. – Гони на девок ксивы! Нету ксив – заворачивай шмарам корму. Пузыри в буфете глушить будешь, да? Сечешь, баран? – Алоизевна расчехвостила программки веером. – Или расписать по белому, че пацаны из охраны вам вставят без резьбы. Или, – вдруг старушка вспомнила зятевы прогоны о том, чего черные боятся даже больше проклятья рода, кровной мести и закрытия рынков, – или ОМОН с площади пригласить?..
– ...Э! – в амфитеатре Харчо приставил к уху мобилу.
– Ты чего все землячество привел? – гоготнул в наушнике Палец.
– Это не мои, сами пришли, – Харчо забросил в пасть вяленый киш-миш. – Мои на первом ряду. А твои?
– Кто где. Ща буду кучковать вокруг себя, – веселость Пальца была показная.
На самом деле ничего общего с праздничным не имело его настроение. Если бы, как мечталось, у них с Харчо все срослось по спискам, то они бы стали в Питере центровыми. И тогда вплотную назревал вопрос: кто кого? Именно на этот зигзаг удачи Палец приглачил в Питер московского авторитета Шархана. Дескать, обоснуйся пока в СИЗО (нынешний хозяин СИЗО, типа, доживает последний четверг), а там и покруче дела завертятся. С Шарханом на пару Палец бы вытер ноги об Харчо в пять секунд. Но вот который день от Шархана ни привета, ни ответа.
– Давай, дорогой. – Харчо вновь прильнул к биноклю. Навел на самую среднюю трибуну. В ней земляки хлопали друг друга по плечам, веселились, размахивали руками, целовались, туда-сюда ходили. Вдруг, за их спинами заелозила туда-сюда старушка и мужчины враз затихли. Вах, молодцы, уважают старых людей, не то что русаки.
Зачем этому чурке Пальцу прогонять правду, а?! Кто он такой этот Палец? А тайна черного вора в том, что анашишник Хамид, который сейчас ковыряет обивку кресла позади Харчо, – верблюд и внебрачный сын ишака. Если б не просьба дяди Фазиля, клянусь матерью, выгнал бы Хамида из помощников.
Харчо приказал Хамиду купить билеты в театр на всех ребят. Ослу понятно, что ребята – это бойцы. А этот шакалий хвост, наверное, сосчитал жен, детей, братьев, сестер, родню по отцу, родню по матери. Этот павлиний зад мало того что, скупил полтеатра, он набрал самые дорогие билеты. «Э, – сказал Харчо Хамиду, когда тот принес полные руки синих картонок, – зачем принес?! За лишние из своего кармана платишь! Иди!»
Конечно, хитрый Хамид пошел по рынкам. Что он еще мог придумать? Только заставлять платить за свои ишачьи глупости земляков...
А вензель всей душой поверил, что списки заныканы где-то в театре, и через каких-то задрипанных полтора часика он станет их полноправным обладателем. Если выводы насчет внебрачных балетных детей верны, то где ж еще малявки могут прятать списки, как не в театре? В квартирах? Не смешите. Что такое приныкать вещь в маленькой квартире, и что такое – в большом театре? Где ее будет проще отрыть посторонним? То-то и оно. У тещи, и тещу не посвятить? А вдруг теща, не предупреждая, устроит генеральную уборку? То-то и оно. На даче, или закопать в лесу? Но списки всегда должны быть под рукой. То-то и оно! Посему так благосклонно Вензель подмечал подробности скрытной суеты Волчка.
Связанная и упрятанная в кладовку с реквизитом праздничная смена монтеров сцены не могла видеть того, что мог видеть прикрученный к стулу Булгакин: как в монтерскую парни с толстыми шеями вносили ящики. Приплюснутый распоряжался, помахивая стволом, куда чего ставить. Откуда они брали ящики, через какой вход вносили, по всему ли театру перли – Булгакин не знал. Как не знал и того, почему его не прибрали в кладовку вместе с бригадой, и в чем состоит вторая часть плана, реализуемого Волчком.
А идея акции была нагло стырена, иначе бы не были Вензель, Шрам и Волчок ворами. Причем стырена у самого англичаниа Шерлока Холмса. Типа, чтобы ханыга выдал, где прячет самое ценное, нужно заставить его это самое ценное спасать. А для этого не грех устроить маленький пожарчик. Или, с понтом пожарчик.
Предвкушительное, типа, в ожидании праздника настроение царило в гримерке мужского хора.
– Где пьешь, Васильич?
– В своей квартире. Но, прошу учесть, с компанией.
– Много народу?
– Четыре бабы и два мужика. Я и Куакин. Бабы из Вагановки. Слушайте, уже через три дня утренник, вот беда, ну что за жизнь!?
– Зал видали, мужики?
– А нафиг его видать?
– Роксанка прибегала «Выгляни, выгляни!». Я и выглянул.
– И чего?
– Бандит на бандите. Шпана, голытьба, половина – вообще черные.
– Негры?
– Хачики. И наши, белые, тоже хороши. Мордоворот на мордовороте.
– Предлагаю спеть им арию восточного гостя на мотив «А у окна стоял мой чемоданчик», – соскочил со стула хорист Васильич. Почесав на псевдозековский манер подбородок, обклеенный окладистой бородой, он сунул большие пальцы за отвороты древнерусского кафтана, зашаркал по полу гримерки, изображая танец «семь сорок», и хриплым голосом, как и обещал, влупил под «чемоданчик»:
– Не счесть алмазов в каменных пещерах, эгей!
Не счесть алмазов в каменных пещерах, эгей!
Хористы один за другим подхватывали:
– Не счесть алмазов в ка...
Не счесть алмазов в ка...
Вся гримерка грянула:
– Не счесть алмазов в каменных пещерах, атас!
– Ой, не к добру мы веселимся, – мрачно наступил на горло песне потомственный хорист Перунский-Харитонов, клеящий демоническую бородку.
В углу затрещал динамик. Ожила трансляция:
– Внимание! Внимание, артистам! Первое отделение «Садко», на выход. Повторяю. Внимание, внимание...
Харчо уважал технику и не жалел на нее средств. По этому офис Козырька, может быть, и не подавлял шикарными обоями, камином, способным подшабашивать за крематорий, и аквариумом с дельфинами, зато сверкал и блистал хромированными пимпочками навороченной электронной аппаратуры, какой бы и фээсбе позавидовало. И бывший инженер закрытого ящика чувствовал себя в этом центре магнитных колебаний, как паук в родной паутине.
– Бж-ж-ж-з-з!.. Так будем повышать?.. З-з-з-ж-ж-бж... – это пока Козырек всего лишь настраивал аппаратуру и ловил чужие новости, – ...Думаю, процентов на пятнадцать... З-з-з...
Каждый день по две смены не вылезающий из эфира Козырек уже узнавал анонимных говорунов по голосам. Например, конкретно это «Бж-з-з» происходило от того, что очень любопытная рекламная газета «Метро» очень хотела знать правду про рекламную газету «Асток» и установила жучка в кабинете главреда конкурентов. А вот если ручку крутнуть чуть вправо...
– У-у-у... Вз-вз... ...Генрих Леонидович, пустите, меня муж ждет!.. – это в финлтделе «Доезднер банка» начальник грязно домогался секретаршиной взаимности. Каждый день ровно в двадцать ноль-ноль. А прослушивали интимные подробности спецы из отдела векселей банка «Кредит Лионе».
Вообще, вечерний город прослушивался и просвечивался вкривь и поперек. Бандиты слушали инкассаторов, конкуренты партнеров, ревнивые жены мужей. Порой, на обыкновенную ментовскую волну не настроишься, глушит кто-нибудь более мощный.
Но в данный момент и час Козырька это не колыхало. Сейчас он должен был заставить каяться не чужого жучка, а определенный номер мобилы. И он запеленговал:
– Алло, это Палец говорит, что-то здесь становится душновато. И черных баранов со всех рынков понабежало... – далее по каким-то причинам связь на пару секунд испарилась, и Козырек фатально не расслышал: «Ну и жбан с ними, не до них сейчас. Я от Вензеля западла жду!». А когда связь наладилась, дозвучало только, – Ну-ка еще двадцать пацанов сюда. Пусть в антракте как угодно просочаться. Отбой.
Столь напряжную информацию Козырек просто не имел права утаивать от работодаьтеля. Уже через мобилу он вышел на Харчо и доложился, что бледнолицый союзник наращивает международную напряженность на двадцать мегагерц.
По ту сторону эфира Харчо на данную новость очень напрягся. Ишь, оказывается, Палец задумал недоброе. И тогда со своей стороны Харчо приказал подогнать арбу с волынами, чтоб на всех горячих парней хватило. И как-нибудь незаметно раздать по ложам. Как конкретно – Харчо не волновало.
А пока Козырек с Харчо обсуждали подробности, аппаратура прозевала обратный звонок Пальцевской братвы командиру. Оказывается, братва дежурила под боком в одном из икарусов, и чтобы начать выполнять приказ, братве потребовалось две минуты. Братва с опаской доложилась, что у всех ходов-выходов театра дежурят Вензелевские торпеды.
Что успел перехватить из телефонного базара Козырек, так это последние слова Пальца:
– Срочно назад. Срочно нацепить броники, и скорей сюда. Если на входах будут залупаться – вырубать не заморачиваясь!
Ясен кокос, и эту гремучую новость Козырек доложил по начальству. Тяжело сопящий в трубку Харчо на это приказал присовокупить к волынам ящик гранат.
Глава семнадцатая. Опущенная целина.
Но нет, им не пустить его на дно.
Поможет океан, взвалив на плечи!
Ведь океан-то с нами заодно.
И прав был капитан – еще не вечер.
Никуда от этого не денешься, лет тридцать назад в Смольном очень жаловали балерин, просто мода какая-то была на балерин. Но вот уже канула вдребезги советская власть, а Мариинский театр продолжает себе кататься на гастроли, как сыр в масле. А убыточность спектаклей с лихвой дотируется из городского бюджета. Странно?
А если зайти с другой стороны, то прикиньте себе обычного человечка, воспитанного в оперно-балетной среде. Захочет он быть директором тракторного завода. Или начальником очистительных сооружений? Да ни в жисть. И прилипни такому к лапкам Эрмитажные списочки, оперно-балетный вертила не теневым олигархом возмечтает стать, а театральной знаменитостью.
И все сходится. Сыновья-дочери свадебных балерин, все как один, оказались в балетно-оперном авторитете. Всерьез никто городскую власть пока списочными предъявами раком не ставил, то есть, может, пара чиновников и схлопотала инфаркты, но большинство спало спокойно. А значит, задачки при помощи волшебных списков все эти годы решались плевые. Например, «Театр должен в апреле кровь из носу поехать на гастроли в Арабские Эмираты!.. Я хочу исполнять роль правого крайнего маленького лебеда, и никаких гвоздей!.. Мой гонорар столько-то и ни копейкой меньше!..»
Оставалась мелочь. Вычислить, какая из балерин, приглашенных на свадьбу дочери Романова, была самая любимая? У кого конкретно из балетных потомков списки? И где они спрятаны?
– Короче, Чек, – в темном зале Арбуз светил фонариком-брелком на программку. – Ща нам задвинут нумером раз... «о-пе-рА Сад-ко, му-сор-ско-е цар-ство»... Это чего, про мусоров?! – ахнул Арбуз. – ОперА?!
– Морское царство, чукча, – оторвался от шуршания шоколадкой Чек. – Опера. Типа все на песнях. А Садко – это погоняло одного барыги, который мотался челноком за древний бугор и потонул. Но не утоп.
– Это как?
– Сказка, бляха.
– Тихо, господа, тихо, уже играют увертюру, – интеллигентно попросили из темноты. – Хотя бы не в полный голос!
– Это кто тут вякает!? – замотал башкой Арбуз...
А из оркестровой ямы гремела мелодия, более хитроумная и мудреная, чем все песни Аркадия Северного вместе взятые. И что-то такое потаенное цепляла эта мелодия в ливерах сидящих в зале пацанов, хотя каждый из них почему-то стыдился своих искренних чувств. А мелодия вздымалась волнами к галерке и выше. Под самый купол.
Багор и Ридикюль договорились обращаться на «вы», чтоб не выделяться из вежливой театральной гущи. Нужда в «выканье» отпала при первом же взгляде на публику и стала совсем без надобности, когда они вчухали, что на Шрама из зала не шибко насмотришься. Хитрожопый мухомор Вензель спецом вскарабкался на самую верхотурную галерку. Потому Багор и Ридикюль заползли еще выше. Туда, откуда лупили фонарями по сцене. Не фонарщику же выкать.
Фонарщику сунули волыну в ребра. И культурно попросили светить и дальше как следует.
Багор и Ридикюль настроили бинокли на галерку. Отсюда Шрам был как на ладони. И Вензель, паскуда, тоже, так и тянуло пристрелить...
– ...Объяснять будешь вот ему! – приплюснутый Тарзан представил монтеру сцены Булгакину пацана по кличке Пузырь. – Все должно пахать, как в советском флоте! – Тарзан утопил указующий палец в животе означенного пацана.
От Булгакина, чьи ноги не забыли прикрутить шпагатом к ножкам стула, требовали, чтоб он командовал Пузырем. Какую кнопку жать, какой рычаг дергать. Чтоб на театральной воле выступающие артисты с дирижерами не заподозрили, дескать, власть в театре переменилась.
– Он тебя и пристрелит, когда чего не так, – предостерег монтера сцены от подвигов приплюснутый Тарзан. – И я еще добавлю.
И Тарзановы хлопцы вокруг Булгакина принялись распаковывать ящики цвета хаки. Но настолько мощно и величественно перла музыка из оркестровой ямы, что в ней треск открываемых ящиков терялся, как конокрад в Детройте.
– Вы не находите, Мак-Набс, что русский театр чересчур демократичен? – подметил доктор Роберт Ливси. – Дозволено чрезмерно много для нецивилизованной страны. Не мешало бы вести запрет на сотовые телефоны. А то это просто... – англичанин не выучил еще замечательно пригодного к случаю русского слова «беспредел», – ...полный непорядок, Мак-Набс. Почему из зала не выводят зрителей, которые громко говорят? Почему, когда уже поднимается занавес, по залу еще ходят и без конца пересаживаются? Я не имел счастья бывать в шотландских театрах... Может быть, Англия – это последний бастион цивилизованного театра?
– На вашем, английском, месте, дорогой доктор, – прошептал Мак-Набс, – я бы спросил себя, а почему вас не вывели после вашего долгого Черчиллевского монолога на повышенных тонах?
На сцене началась бурная и полная опасностей древнерусская тусовка. Садко, на несколько столетий опережая Жака Кусто, и без команды вписался в пучину морскую. И тепеоь вокруг него плясали какие-то жабы со стройными ножками. Но не на ножки пялились верные Шраму Багор с Ридикюлем.
– Век воли не видать, подаст он какой-нибудь знак, Ридикюльчик, – скрипел железно-золотыми зубами Багор, крутя настройку бинокля. – Чтоб мне свариться, будет...
– Если применить метод сведения дебета с кредитом... – задумался вслух Ридикюль.
– Применяй, братан, – разрешил Багор. – Только без мочилова.
– Шрам не шелохнется. Даже нога на ногу не перекидывает?.. – тоже прикипел бровями к биноклю соратник.
– Чисто так, – горячо поддержал Багор, жадно ловивший рассуждения умника Ридикюля, – как заспиртованный.
– Лишь пальцами теребит программку?..
– В натуре так! Правильный метод, Ридик! Шрам только листиком шуршит, чтоб мне свариться!
Свариться Багор мог запростяк. Под потолком, среди светильной аппаратуры по кайфу было только фонарщику в шортах и в футболке с надписью «Ла-Скала». Зачаленные в зимние шмотки Багор с Ридикюлем тонули в поту. Но разве могли верные хлопцы не попытаться выручить Шрама из Вензелевого плена, если такой чистый мизер, да еще со своим заходом сам в руки подвалил?
А дело было так: когда поенный Шрам вызвал Ридикюля в Вензелевы апартаменты писать полный отказ от управления «Гостиным двором», то, как бы между прочим, трижды косякнул на лежащие особняком в вазочке театральные билеты. Ридикюлю подсказки хватило.
– Зачем ему так настойчиво шуршать программкой? И... И...
– Что? Что? Заело?
– Ну да! – Ридикюль отклеился от бинокля и хлопнул Багра по плечу. – Да! Он повторяет переборы. Упорядоченность, код! Вот он, знак, Багор! Чтоб мне свариться!
Так и было. Шрам сидел, окруженный Вензелевскими заботами, будто вышедшая ночью прошвырнуться малолетка хулиганами. Шрам сидел очень ровно и только пальчиками по программке посылал в пространство сигналы SOS. А Вензеля не хуже язвы двенадцатиперстной кишки продолжали разъедать сомнения и недоверия.
– Последние минутки остались. Поклянись, Сереженька, памятью покойной мамаши, что ты мне не соврал ни единым словом, – будто гадюка вокруг сурка, накручивал кольца старец и ипохондрически вычесывал пальцами блох и искры из кошачьей шерсти.
– Чтоб я сдох, – в который раз побожился Шрам. Вот ведь как забавно, он в натуре не парил мозги Вензелю. Но сейчас не следовало заводиться на занудство старого пердуна, а следовало телеграфировать в окружающий мир сигналы бедствия. Таятся же где-то в зале верные Шрамовы бойцы.
– Смотри, что с тобой будет, если дуришь, – любитель психологических этюдов Вензель вдруг из кармана развернул веером перед Серегой стопку фоток. На фотках компьютерному гению Антону отчекрыживали циркулярной пилой кисти рук (Так вот каким дуплетом Вензель узнал про Апаксина!). Но и на страшные картинки не дернулся только побелевший кожей Сергей. Продолжал отсылать SOS.
– Хы, чмо какое! – Бикса вытянул палец над сиденьями, целясь в торжественного выступившего на сцену морского царя. – Чисто бомж!
– Может, хоть этот хмырь чего путевое споет, – вздохнул Букса. – Может, заслать ему сотку баксов, пусть забубенит «Братва, не стреляйте друг в друга».
– Тогда уж «Владимирский централ», – вякнул против Бикса.
Через четыре ряда наискосок от крутых меломанов запиликала мобила у Харчо.
– Слышь, – счастливо хрюкнул в наушнике Палец, – Ты небось тащишься. Этот морской царь – вылитый душман, типа только из аула! – а ведь в глубине селезенки не очень радовался Палец. Особенно, когда ему донесли, что все-таки спецом Харчовый глист Хамид накупил билетов на три кишлака. Верняк, какую-то каверзу Харчо затевает.
Харчо выругался на родном наречии и вырубил трубу. Этот Палец совсем в театре отморозился, спецом на нервы плющит, клянусь. Под шутника канает, а сам подляну точит, вах...
Чтоб успокоиться, Харчо глянул в бинокль на большую трибуну с земляками. Там, кончено, не грустили, как внизу. Земляки хлопали друг друга по плечам, размахивали руками, целовались, туда-сюда ходили. Туда-сюда мельтешила старая женщина, от нее уважительно отшатывались. Вах, почему не пойти к землякам, да? Больше друзей, больше верных кинжалов.
А на сцене все пели, да так громко, как перекликиваются в горах чабаны. А на горной высоте, под куполом, два альпиниста пытались разгадать Шрамовы шарады.
Стекляшки бинокля крупняком казали Шрамовы пальцы.
– Не морзянка, – устало приговорил Ридикюль.
– Ах ты! – Багор в сердцах хрястнул биноклем об пол, – Багру требовалось конкретно размагнититься, – Чего пялишься! – он пихнул фонарщика, заслушавшегося арией Садко, в надпись «Ла-Скала».
Гиперболоидно узкий луч осветительного «пистолета» мотыльнулся от сцены на зал и замер, выхватив в партере Гайдука.
Ослепленный Гайдук нервно натирал за пазухой пятерней рукоять «макарова». «Вычислили, суки!». Из-за слез Гайдук не видал, в кого шмалять. «Может, менты сели на хвост по вчерашнему фраеру?! Не дамся!»
– Гайдук, падла, – устало доложил Жора-Долото Вензелю, – и этот туда же!
Блин света пополз обратно на сцену, по пути задев терзающуюся супружескую чету в партере:
– Не надо, Димусик, – прокурлыкала жена. – Новый год. Меня пожалей.
– Долг, – муж снял очки, чтоб быть к жене поближе, и дохнул в любимое замшевое ушко тихо-тихо, тише, чем крадется в нору мышь с ворованным зерном. – Долг офицера милиции.
Майор Орлович попал на долг случайно. Дернуло ж опять покинуть любимый Пушкин. Сколько раз выезжал – одно лишь горе на беде и беда на горе. Казалось, всего-то собрался в театр жену выгулять под праздники – ну, где тут поскользнешься? Ан нет...
Если б не опоздали к началу, Орлович схватил бы ситуацию до усадки в зале, сбегал бы к аппарату городской связи и – пусть начальство думалку нагревает. Но майор торопился на места и бдительность не включал. Лишь когда по коленям выходных брюк, извинясь, прошуршал пиджаком пробиравшийся к своему месту Гера-Панцирь, находящийся в розыске по тройному убийству в Павловском парке, тогда Орлович перестал быть зрителем и вернулся в менты.
Майор впился в обстановку... Батюшки святы! Ему аж поплохело. Зрительный зал был битком набит уркаганами с доски «Их разыскивает милиция». И знакомыми, и незнакомыми, которых опытный мент всегда отделит в толпе от случайных идиотов.
Да нет, и сейчас можно побежать к телефону, и в антракте не поздно, но майор Орлович отрапортовал о наблюдениях и намерениях жене. И та его не пускала.
Уйти вдвоем? А если напорешься на того же Панциря или других мокрушников? Они же отмороженные, тогда и Дашку подставишь.
– Дашусик, – Орлович предпринял новый заход, – ведь ты знала, что выходишь за мента, а не за какого-нибудь... – майор поискал профессию попозорней, – продавца целлофановых пакетов...
Заход оборвал член тихвинской преступной групировки Зубков, сидевший прямо за спиной. Наклонившись к спинке майорского кресла, он прохрипел:
– Эй, фраера, заглохнули! Сеанс мне ломаете, поняли?
– Выбирай, – жена Орловича, храбро проигнорировав отморозка, надула губки и выпрямила спину. – Или я, или твои противные уголовники. Я не шучу.
– Гонят, что в этих списках повязаны все начальники, которые из Питера в Москву переселились с Чубайсом. Так что у кого списки, тот страной и правит! – жарко шептались на заднем ряду.
"Только не про «ты меня любишь?» – подумал Орлович.
– Ты меня любишь? – с торжественным вызовом спросила жена.
Тем временем на сцене разгорелось сражение между «мышами» и «оловяными солдатиками» во главе с атаманом Щелкунчиком. Жертв все не было. Но не это прикололо скрывающегося под куполом верного Шрамового хлопца. Багор бил себя по коленям. Багор сгибался пополам. Багор беззвучно хохотал:
– Точняк! Расчухал! – на радостях Багор выхватил баксовый полтинник и пихнул обалдевшему фонарщику. – Заслужил, собака!
– А ты знаешь код? – вмешался в радость Багра Ридикюль.
– Куда – я не знаю. Ну, не освоил, не освоил, я ж по другой специальности. Ну блин, один из корефанов переведет. Точняк, Тоха, он на програмке, будто на карточной рубашке, шулерский знак семафорит!
Случись над зрительным залом, среди осветительных фонарей Володька Шарапов, вырви у Багра блокнот, истерзанный ношением и листанием, обязательно подивился бы «Одни номера, а фамилии где?». И фиг бы допетрил Володенька – «где».
– Цыпе брякну, – плюнув на пальцы, зашуршал страницами Багор.
Багровский блокнот только частнику Шерлоку Холмсу под силу. К примеру, Цыпин номер посажен на левой половине разворота (значит, кент правильный, из блатных), попал в первые двадцать страниц (имел ходку). В начале строчки номер статьи. Или номера статей. Воровская профессия Цыпы запрятана в нарисованной кошачьей морде – карточный катала. А перед телефонным номером буква "Ц", наводящая память на кликуху. Три первые цифры накарябаны нормалем, а последние четыре записаны в обратном порядке. Короче, у мусоров фуражки сгорят от перенапряжения, попади им блокнотик.






