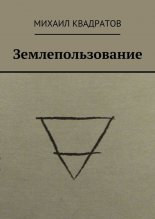Избранные работы по уголовному праву Шаргородский Михаил

Составитель доктор юридических наук, профессор Б. В. Волженкин
© М. Д. Шаргородский, 2003
© Б. В. Волженкин, сост., предисл., 2003
© Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003
Жизнь и научная деятельность М. Д. Шаргородского
В ряду выдающихся отечественных правоведов XX в. достойное место занимает профессор Санкт-Петербургского (Ленинградского) университета Михаил Давидович Шаргородский.
Он родился 2 апреля 1904 г. в Одессе, в семье служащего, работавшего в частных книжных фирмах. Окончив 5 классов гимназии, профшколу и подготовительные курсы, в 1923 г. Михаил Давидович поступил учиться на юридический факультет Института народного хозяйства в Одессе, затем окончил аспирантуру того же института (1929 г.) и приступил к преподавательской работе. В те же годы (1928–1934) он работает старшим научным сотрудником, затем ученым секретарем Всеукраинского кабинета изучения преступности.
Уже в аспирантские годы М. Д. Шаргородский начинает активную научную деятельность. И если первая опубликованная работа «О праве собственности при купле-продаже в рассрочку платежа» была посвящена гражданско-правовым вопросам, то в последующих исследованиях молодой ученый обращается к уголовно-правовой и криминологической проблематике.
В эти годы были опубликованы научные статьи «О наказуемости полового сношения путем обмана» (1927 г.), «Должностное лицо и представитель власти» (1927 г.), «Субъект должностного преступления» (1928 г.), «Уголовная статистика» (1929 г.), «Преступность в Европе и в СССР» (1930 г.), монографии «Мошенничество в СССР и на Западе» (1927 г.), «Новый уголовный кодекс УССР» (1927 г.) и ряд других работ. В этих ранних работах было сформулировано научное кредо М. Д. Шаргородского, которое он стремился воплотить и в последующих исследованиях, несмотря на все трудности, связанные с научной цензурой идеологическим диктатом, существовавшим в стране в годы его жизни. «Центр особого внимания криминалиста, – писал автор в статье «Уголовная статистика», – переносится сегодня с вопросов узкодогматического характера на вопросы социальные… Не просто квалифицировать преступление, а изучать его, исследовать закономерность его развития и зависимость от социальных явлений, найти наиболее правильные способы борьбы с преступностью как социальным явлением, знать законы и внутренние социальные причины, которые побуждают лицо на преступление… Решение этих задач требует исчерпывающего знания состояния преступности, и только в этом случае наука может своевременно сигнализировать о намечающихся тенденциях в развитии преступности».
В 1934 г. М. Д. Шаргородский переезжает в Ленинград, где работает в Юридическом институте доцентом, заведующим кафедрой уголовного права, деканом судебно-прокурорского факультета, заместителем директора Института. В 1937 г. он защищает кандидатскую диссертацию.
В июне 1941 г., с началом Великой Отечественной войны, М. Д. Шаргородский добровольно вступает в ряды Красной Армии и до июля 1942 г. находится на Ленинградском фронте в качестве члена Военного трибунала фронта. Затем он был вызван в Москву, где до февраля 1943 г. работал старшим консультантом правового отдела Совета Народных Комиссаров СССР, а позднее – членом Верховного трибунала Московского военного округа, старшим инспектором-консультантом Главного управления военных трибуналов и начальником отдела подготовки кадров. Несмотря на занятость по службе, он не бросает преподавательскую и научную деятельность и работает и.о. профессора юридического института Московского университета и в Военно-юридической академии. Является старшим научным сотрудником Всесоюзного института юридических наук и готовит докторскую диссертацию о преступлениях против личности, которую блестяще защищает в марте 1945 г. Выступавшие на защите диссертации официальные оппоненты профессора М. М. Исаев, А. А. Герцензон, А. Н. Трайнин и неофициальные оппоненты профессора М. Н. Гернет и А. А. Пионтковский отмечают самостоятельность научного исследования, смелость и оригинальность автора в постановке и разрешении теоретических и практических проблем уголовного права, большую эрудицию соискателя, богатый русский и иностранный научный и законодательный материал, использованный им. Защита докторской диссертации М. Д. Шаргородского явилась столь неординарным событием, что ему была посвящена специальная публикация в журнале «Социалистическая законность», где излагались основные положения диссертации и выступлений официальных оппонентов (см.: Социалистическая законность. 1945. № 6).
В том же году в соответствии с постановлением коллегии НКЮ СССР Михаил Давидович направляется на работу в Ленинград, где в марте 1946 г. назначается заведующим кафедрой уголовного права Ленинградского государственного университета, которую возглавляет в течение 17 лет. Под руководством М. Д. Шаргородского кафедра вскоре становится одним из ведущих научных коллективов в области уголовного и исправительно-трудового права. Под редакцией М. Д. Шаргородского и с его участием выходят несколько учебников по Общей и Особенной частям уголовного права. В 1962 г. кафедра выпускает первый Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР 1960 г. В 1968 г. выходит первый том пятитомного Курса советского уголовного права, завершенного изданием уже после смерти М. Д. Шаргородского. Этот фундаментальный труд и по сей день остается настольной книгой для отечественных криминалистов, поскольку представляет собой наиболее полное и глубокое изложение научных идей по различным проблемам уголовного права.
У М. Д. Шаргородского учились и под его руководством защитили кандидатские диссертации 45 человек, многие из них впоследствии стали докторами наук. Учениками М. Д. Шаргородского были такие известные учены, как Н. А. Беляев, А. С. Горелик, М. С. Гринберг, П. С. Дагель, М. Е. Ефимов, И. И. Карпец, Н. С. Лейкина, В. С. Прохоров, В. г. Смирнов и другие. Мне также посчастливилось в 1960–1963 гг. учиться под руководством М. Д. Шаргородского.
Как научного руководителя Михаила Давидовича отличали исключительная порядочность и доброжелательность, готовность оказать всяческую поддержку своим ученикам и коллегам. Он никогда не навязывал своего мнения, предоставляя ученикам полную творческую самостоятельность, не стеснялся признать подчас правоту оппонентов в научном споре. Нас всегда восхищала его интеллигентность и огромная эрудиция, вежливость и деликатность, умение вести дискуссию и отстаивать свое мнение при максимальной корректности и уважительности по отношению к противоположной позиции и к ее сторонникам. При всей своей внешней мягкости он был глубоко принципиальным человеком и ученым, сумевшим даже в сложное время оставаться образцом чести и благородства, быть верным своим убеждениям.
Однако вернемся во вторую половину 40-х годов, оказавшуюся весьма плодотворной в научной деятельности М. Д. Шаргородского. В 1947 г. в «Ученых трудах Всесоюзного института юридических наук» была опубликована большая статья «Причинная связь в уголовном праве», в которой отчетливо проявился научный стиль ученого: глубокое философское обоснование предлагаемых решений, обращение к трудам предшественников, использование зарубежных источников, материалов практики. В итоге исследования автор пришел к следующим выводам: «1. Причинность, как и субъективная вина, является необходимым элементом для установления ответственности. 2. Существует реальная, объективная, находящаяся вне разума человека причинная связь. 3. Никакой разницы между причинами и условиями нет, однако не все причины равноценны. 4. Вопрос о случайности должен решаться как об объективной категории, и в случаях объективной случайности исключается ответственность за результат. 5. Для уголовно-правовой ответственности, отвлекаясь от остальных причин, нужно изучать только те, которые, вызывая результат, связаны с ним виною субъекта». В последующих работах ученый не раз будет возвращаться к проблеме причинной связи в уголовном праве, развивая и уточняя свою позицию.
В том же году выходит фундаментальная монография М. Д. Шаргородского «Преступления против жизни и здоровья» (32 п. л.), которую автор посвятил памяти отца, расстрелянного фашистами в 1941 г. в Одессе. Книга написана в лучших традициях дореволюционных российских криминалистов. Этот труд энциклопедичен: использованы законодательные источники, начиная от Талмуда и Корана, законов Хаммураби и Ману, Дигестов Юстиниана вплоть до действовавших в тот период уголовных кодексов Дании, Кубы, Китая, Франции, Италии, Швейцарии, Турции, Ирана, Японии и других зарубежных стран; статистические данные о преступлениях против жизни и здоровья в США, Швейцарии, Чехословакии, Германии, Франции, Италии, Болгарии, Венгрии, Греции, Швеции, Голландии, Финляндии, Новой Зеландии; 245 литературных источников, включая 78 изданий на немецком, французском и английском языках.
Надо сказать, что эта особенность исследований М. Д. Шаргородского не осталась незамеченной, и когда спустя некоторое время в стране началась «борьба с космополитизмом» и «низкопоклонничеством перед Западом», в приказе Министерства высшего образования СССР от 26 мая 1949 г. отмечалось, что в монографии «Преступления против жизни и здоровья» имеет место «…объективизм, преклонение перед иностранщиной», а в служебной характеристике (апрель 1949 г.) указывалось, что «в работах проф. Шаргородского М. Д. («Преступление против жизни и здоровья») без нужды чрезмерно использована буржуазная юридическая литература, с которой местами солидаризируется автор».
В 1948 г. выходит еще одна крупная работа ученого – «Уголовный закон» (22 п. л.), являвшаяся первым монографическим исследованием проблем уголовного закона в советском уголовном праве. Источники уголовного права, система и структура уголовного закона, техника уголовного законодательства, толкование уголовного закона, аналогия в уголовном праве, действие закона во времени и в пространстве, международное уголовное право, выдача преступников и право убежища – это неполный перечень проблем, рассмотренных как в историческом аспекте, так и с позиции современного отечественного и зарубежного уголовного права. Монография «Уголовный закон» и в наше время заслуженно привлекает внимание специалистов, изучающих историю и теорию уголовного закона.
В 50-е годы особое внимание в своих исследованиях М. Д. Шаргородский уделяет проблемам наказания. Последние к тому времени крупные работы по теории уголовного наказания были написаны еще в первой половине 20-х годов учеными старой школы С. В. Познышевым и А. А. Жижиленко. М. Д. Шаргородский готовит к изданию и публикует две монографии: «Наказание по уголовному праву эксплуататорского общества» (1957 г.) и «Наказание по советскому уголовному праву» (1958 г.). Как и в предыдущих работах, в основу этих книг был положен огромный исторический и законодательный материал, осмысление опыта предыдущих исследований. Рассуждая о содержании наказания и его целях, автор пришел к выводу, что в современном праве кара, страдания являются неизбежными свойствами, содержанием наказания, но не его целями, каковыми должны признаваться лишь предупреждения совершения преступлений как самим преступником, так и другими лицами. «Свойство оказывать предупредительное воздействие на преступника и окружающих есть объективное свойство самого наказания, – писал автор, – оно было имманентно наказанию даже тогда, когда законодатель еще не отдавал себе отчета в этом его свойстве. С этой точки зрения спор классического и социологического направлений в буржуазном уголовном праве не имел большого практического значения, ибо и наказание у классиков, и меры социальной защиты у социологов объективно способны привести к разрешению и общих, и специальных превентивных целей. Однако тогда, когда эти свойства наказания осознаны и становятся целью его применения, на первое место может выдвигаться и выдвигается одно из этих свойств в качестве основной цели, а это уже влияет на систему и характер наказаний» (Наказание по советскому уголовному праву. М., 1958. С. 16).
Исследование уголовного наказания, приведенное М. Д. Шаргородским, как бы дало мощный толчок и вслед за ним многие ученые – Н. А. Беляев, И. И. Карпец, И. М. Гальперин, А. Л. Ременсон, И. С. Ной, Н. А. Стручков и др. – стали основательно изучать широкий спектр проблем, связанных с наказанием. Сам же ученый также не утратил интереса к этой проблематике. Незадолго до его смерти в 1973 г. была издана последняя его книга «Наказание, его цели и эффективность», где особое внимание уделялось понятию и критериям эффективности наказания и условиям, обеспечивающим ее достижение.
В 1957 г. создается общесоюзный журнал «Правоведение» и М. Д. Шаргородский назначается его главным редактором. Уже первые номера журнала показали высокий уровень публикаций и в скором времени «Правоведение» заслуженно приобрело известность ведущего научно-теоретического периодического издания в СССР в области юридических наук.
Научные интересы М. Д. Шаргородского не ограничивались кругом уголовно-правовых проблем. В 1961 г. в соавторстве с другим выдающимся ученым Ленинградского государственного университета профессором-цивилистом Олимпиадом Соломоновичем Иоффе он пишет книгу «Вопросы теории права», где рассматриваются такие вопросы, как сущность права, норма права, правоотношение, законность и правопорядок, понятие и основание юридической ответственности, система права и систематика юридических норм. Глубина изложения теоретических вопросов права, оригинальность авторских суждений по многим из них делают эту монографию актуальной и по настоящее время.
Вопросы юридической ответственности вообще и уголовной ответственности в частности, ее сущность, философское и юридическое основания продолжали привлекать внимание ученого и в дальнейшем. Им он посвящает интереснейшую статью «Детерминизм и ответственность» (Правоведение. 1968. № 1) и вновь обращается к этим проблемам в первом томе «Курса советского уголовного права» (Изд-во ЛГУ, 1968). «Внешняя детерминированность, – писал автор, – не охватывает всего, что определяет человеческое поведение, она не создает поэтому и фатальности “человеческих поступков”, но внешние детерминанты воздействуют на конкретного субъекта в конкретных условиях места и времени, детерминируют поведение человека, и любой сделанный им выбор в конечном счете полностью детерминирован… Однако это детерминированность не только причинная и не только внешняя. В круг взаимодействующих факторов, обусловливающих поведение, входит и сам субъект, его воля, его разум, поэтому он отвечает за свои поступки… такой подход к вопросу о детерминированности человеческого поведения дает возможность правильно разрешать вопросы как криминологии, так и пенологии. Он позволяет вести борьбу с преступностью двумя путями: 1) воздействием на объективные условия с целью устранения внешних для субъекта факторов, детерминирующих выбор им нежелательного для общества варианта поведения; 2) воздействием на субъекта посредством применения или угрозы применения наказания и отрицательной оценки такого поведения, воздействием, влияющим на волю и разум человека и детерминирующим их с целью выбора желательного для общества варианта поведения» (Правоведение. 1968. № 1. С. 44).
В конце 50-х – начале 60-х годов М. Д. Шаргородский обращается и к исследованию некоторых проблем криминологии, и его с достаточным основанием можно отнести к числу тех ученых, кто участвовал в возрождении отечественной криминологии как науки. Он признавал наличие объективных социальных причин, порождающих преступность в социалистическом обществе, и видел их в противоречиях, искажающих закономерности социализма. Для борьбы с преступностью необходимо применять не только уголовно-правовые, но и другие социальные методы, которые хотя и не смогут сразу полностью ликвидировать преступность, но, создавая желательную мотивацию человеческого поведения, будут способствовать снижению преступности.
М. Д. Шаргородский выступал за социальную обусловленность уголовного законодательства, против примитивного представления о возможности решения сложнейших социальных задач с помощью уголовного закона, всевозможных волюнтаристических подходов к закону. Эти мысли прозвучали как лейтмотив во вступительном докладе М. Д. Шаргородского, с которым он выступил на Всесоюзной конференции по проблемам уголовного права, проводимой в Ленинграде в мае 1963 г. В качестве одного из примеров такого подхода и социально не обусловленного уголовного закона ученый приводит только что принятый Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об установлении уголовной ответственности за скупку хлеба, муки, крупы и других хлебопродуктов для скармливания скоту и птице.
Реакция властей была незамедлительной. На секретариате ЦК КПСС М. Д. Шаргородскому было объявлено строгое партийное взыскание, он был освобожден от должности заведующего кафедрой уголовного права, а также главного редактора журнала «Правоведение».
Эту сложную ситуацию Михаил Давидович перенес достойно, чему способствовали и поддержка большинства коллег, и забота и душевная теплота его жены – Дары Исаевны Хуторской, верного спутника и друга Михаила Давидовича на протяжении многих лет.
В должности профессора кафедры М. Д. Шаргородский продолжает активную научную деятельность. Его привлекают новые, остро актуальные проблемы права, возникающие в связи с научно-техническим прогрессом, новыми достижениями в области генетики, медицины, кибернетики. В 1969 г. в журнале «Советское государство и право» публикуется его статья «Научный прогресс и уголовное право». «Право в современном обществе, – подчеркивал ученый, – не может и не должно отставать от научного и технического прогресса, оно должно своевременно регулировать те отношения, которые возникают при использовании современной науки и техники, и по возможности устранять или, в крайнем случае, ограничивать тот вред, который возникает при недостаточно продуманных и необоснованных экспериментах, которые могут привести к непоправимым последствиям…» Задачей юриста, как нам представляется, является приведение в соответствие потребностей и интересов общества, которые порождаются гигантским техническим прогрессом, с основными правами личности» («Советское государство и право». 1969. № 2. С. 87). Актуальность такого подхода не только не утрачена в наши дни, но и еще более возросла.
Особо интересует М. Д. Шаргородского проблема допустимого риска при эксперименте, в профессиональной, в частности медицинской деятельности. По его мнению, «представляется необходимым запрещение риска в тех случаях, когда современное состояние науки не обеспечивает еще возможности учесть результаты эксперимента, а возможный ущерб чрезвычайно велик. При всех случаях разрешения вопроса по допустимости риска следует исходить из соразмерности той реальной пользы, которую он может принести, с тем вредом, который может иметь место» (там же, с. 93). Эти же идеи автор развивает и аргументирует в статье «Уголовная политика в эпоху научно-технической революции», опубликованной уже после смерти ученого (см.: Основные направления борьбы с преступностью / Под ред. И. М. Гальперина и В. И. Курляндского. М., 1975).
В статье «Прогресс медицины и уголовное право» (Вестник Ленинградского университета. 1970. № 17) автор отстаивал необходимость правового регулирования операций по пересадке тканей и органов, обосновал недопустимость спасения жизни одного человека за счет другого, необходимость законодательного установления, что любое экспериментирование на людях допустимо только с их согласия, и др.
Интерес юристов и широкой общественности вызвала и статья «Прогноз и правовая наука» (Правоведение 1971. № 1), где автор доказывал возможность прогнозирования преступности и индивидуального преступного поведения и рассуждал о значении такого прогноза для социального планирования профилактических мероприятий.
Одной из последних работ М. Д. Шаргородского, опубликованных при его жизни, была научно-публицистическая статья «Этика или генетика?» (Новый мир, 1972. № 5). Написанная как ответ на статью профессора-генетика В. Эфроимсона «Родословная альтруизма», эта работа блестяща как по содержанию, так и по форме, является образцом доказательной научной дискуссии с использованием аргументов естественных и гуманитарных наук, обращением к историческим фактам и к художественной литературе.
Надо сказать, что в 60-е – 70-е годы научный, да и просто человеческий авторитет М. Д. Шаргородского был столь велик, что любая научная публикация ученого вызывала неизменный интерес у широкой научной и студенческой общественности.
Скончался Михаил Давидович Шаргородский 31 августа 1973 г. и похоронен в пос. Комарово, недалеко от могилы Анны Андреевны Ахматовой.
Научное наследие М. Д. Шаргородского очень велико. За годы жизни им было опубликовано 12 монографий и более 230 других работ по различным проблемам уголовного права и криминологии, теории права, международного уголовного права, в том числе 27 работ, переведенных на иностранные языки (немецкий, польский, болгарский, венгерский, румынский, чешский, албанский, китайский, монгольский). О широте научных интересов М. Д. Шаргородского некоторое представление дает библиографический список его основных работ в области уголовного права, приведенный в конце настоящего сборника.
В сборник избранных работ М. Д. Шаргородского в области уголовного права включены фрагменты двух крупнейших монографий ученого – «Уголовный закон» и «Преступления против жизни и здоровья». Конечно, по этим фрагментам трудно составить цельное представление об этих фундаментальных работах. Поэтому я счел целесообразным привести содержание монографий. Однако включенные в настоящий сборник фрагменты монографий дают ясное представление о научном стиле и творческом методе выдающегося ученого. Почти полностью публикуется монография «Наказание, его цель и эффективность» (1973 г.) за исключением последней главы «Цели наказания в буржуазном уголовном праве и его эффективность». Публикуется также ряд теоретических статей М. Д. Шаргородского по проблемам, не потерявшим своей актуальности.
Все тексты приводятся без каких-либо купюр по идеологическим соображениям и без комментариев. М. Д. Шаргородский убежденно стоял на позициях материалистической диалектики. Современного читателя, возможно, покоробят достаточно частое цитирование автором высказываний «классиков марксизма-ленинизма», решений партийных съездов, не всегда обоснованная критика «буржуазного» уголовного права. Но не следует забывать, в какие времена писались эти работы. И вся эта «идеологическая шелуха» не может затмить научную прозорливость автора, глубину высказанных им идей, представляющих не только исторический интерес.
Доктор юридических наук,профессор Санкт-Петербургскогогосударственного университета,заслуженный деятель науки РФВолженкин Б. В.
Преступления против жизни и здоровья[1]
Глава I
Преступления против жизни
§ 1. Понятие убийства в истории права и в действующем праве
А. Определение убийства. Убийство является одним из наиболее древних преступлений в уголовном законодательстве. Этому преступлению всегда уделялось в теории и истории уголовного права исключительно большое внимание. Можно смело сказать, что большинство проблем общей части уголовного права – вопрос о субъективной стороне состава, вопрос о причинной связи, вопросы о соучастии, о приготовлении и покушении – в значительной мере решались именно в связи с этим конкретным преступлением.[2]
Сложность состава убийства вызывает необходимость в тщательном изучении вопроса о том, что следует понимать под этим преступлением в уголовном законодательстве. В нашем Уголовном кодексе, как известно, вообще не дается определения убийства, при этом, очевидно, исходили из предположения, что это понятие общепринято. Такое решение мы не можем признать правильным, определение убийства вовсе не бесспорно, а, напротив, во многом весьма спорно, да и наше законодательство дает определение такому составу, как кража, который также является не менее общепринятым.
Определение убийства следует формулировать таким образом, чтобы убийство было отграничено от близких к нему понятий, поэтому в понятии убийства следует подчеркнуть два момента – неправомерность, отграничивая убийство, таким образом, от иных случаев лишения жизни, и его умышленный характер, отграничивая его этим от других случаев неправомерного причинения смерти. Поэтому мы определяем убийство как умышленное неправомерное лишение жизни другого человека. Под лишением же жизни понимается всякое «причинение виновным смерти другому человеку».[3]
Определение это выделяет, таким образом, понятие убийства из общего понятия лишения жизни, так как вовсе не всякое лишение жизни является неправомерным и влечет за собой уголовную ответственность. Лишение жизни на войне, при исполнении судебного приговора, в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны и в ряде других случаев – не есть убийство. Неосторожное лишение жизни также целесообразнее убийством не называть, применяя этот термин только в отношении умышленных деяний. Действительно, под словом «убийца» мы в быту вовсе не понимаем человека, неосторожно лишившего кого-нибудь жизни, а с точки зрения уголовно-политической нецелесообразно применять понятие самого тяжелого преступления против личности к случаям неосторожного деяния. В других странах соответствующий термин (Mord, murder и т. д.) применяется только для самых тяжких случаев умышленного убийства.
Б. Убийство в истории иностранного уголовного права. Мы находим законы, карающие за убийство, уже в глубокой древности. Среди преступлений против личности оно всегда занимает первое место.[4]
Право египтян за умышленное убийство, по одним источникам, устанавливало обращение в рабство, по другим – за убийство и за приказание убить как наказание устанавливалась смертная казнь.
Древнее еврейское право из числа преступлений против личности предусматривает раньше всего убийство.
Субъектом убийства мог быть не только человек, но и животное, которое также должно было быть убито, а владелец этого животного, кроме того, должен был уплатить выкуп.
Как и у всех народов, мы находим, что у евреев в древности убийство влекло за собой кровную месть. По закону требовалось расследование дела для установления факта убийства, лишь после чего разрешалось мстить. Позже за убийство устанавливается обязательная смертная казнь.
Смертью карались все виды убийства, за исключением случаев принуждения убившего, когда наказанием было тяжкое тюремное заключение. Суровость закона вызывала большое количество смягчающих вину обстоятельств, при наличии которых смертная казнь не назначалась; так обстояло дело:
а) если объектом преступления явился нежизнеспособный ребенок, неизлечимо больной или лицо, находящееся в агонии;
б) когда имела место необходимая оборона или крайняя необходимость.
Неосторожное убийство каралось изгнанием, при этом были специальные города-убежища, где убийцы, совершившие преступление по неосторожности, могли скрываться.[5] Умышленное же и предумышленное убийства, хотя и различались, но карались в равной мере смертной казнью.
Убийство было одним из самых серьезных преступлений и в древнем китайском праве. Под термином «убийство» понимались случаи, которые сейчас юридически под это понятие подойти не могут (случайное лишение жизни и т. д.). Квалифицированных и привилегированных видов убийства было очень много. Убийства различались: по способам совершения, по лицам, на которых они направлялись, и т. д. Особенно большое значение имели для квалификации убийства родственные отношения.
Первое место среди преступлений против личности и в римском праве занимало убийство.
Убийство свободного римского гражданина, как полагают некоторые авторы, рассматривалось даже как государственное преступление (perduellio),[6] но во всяком случае это преступление носило публичный характер и преследование его носило не частный, а государственный характер.
Законы XII Таблиц карали за убийство только в случаях лишения жизни свободного человека (Si quis hominem liberum dolo malo (sciens) morti duit),[7] этот закон приписывается еще Нуме Помпилию.
Первоначально римское право не различало умышленного, неосторожного и даже случайного убийства. Вместе с умышленным убийством (caedere) карается и всякое причинение смерти (morti dare).
Впоследствии в отношении убийства свободных наиболее полным был Lex Cornelia de sicariis et veneficis, неоднократно в дальнейшем пополнявшийся.
По закону Корнелия преследовались лица, которые нанимались для совершения убийства, а также отравители или лица, применявшие для убийства всякого рода «магические» средства. Основное внимание в этом законе обращается на умысел, почему и карается не только покушение на убийство, но и различного рода приготовительные к убийству действия: покупка яда, подстрекательство к убийству и т. д., даже выявление намерения убить карается так же, как убийство, а соучастники караются, как и главные виновники; неосторожное же убийство, даже в наиболее серьезных формах, остается по этому закону вообще ненаказуемым, и лишь в более поздний императорский период устанавливается его наказуемость как преступления.[8]
Римское право в дальнейшем тщательно развило вопрос относительно субъективной стороны состава. Действие закона Аквилия не распространялось на тех, кто убил случайно, если только с их стороны не было никакой вины, если же имело место совершение какого-либо наказуемого действия, результатом которого была смерть, то виновный отвечал за убийство как за умышленное.
Помпеем был выделен квалифицированный состав родственного убийства «parricidium». Этот закон Помпея, как пишет Гай, устанавливал: «кто ускорит смерть своего родителя, своего сына или всякой другой особы из его родства, тайно ли или явно», будет ли он основным исполнителем или сообщником преступления, подлежит наказанию за parricidium.
Наказанием за убийство в Риме издавна была смертная казнь. Затем появляются квалифицированные виды смертной казни: утопление в мешке, сожжение на костре, распятие на кресте, смерть на цирковой арене.
По закону Корнелия при отсутствии квалифицирующих обстоятельств наказанием за убийство являлось interdictio (изгнание). Во времена империи для знатных людей наказанием за убийство было изгнание, для простонародья же – различные виды смертной казни.[9]
В Leges Barbarorum различалось убийство двух видов: Mord и Totschlag. В Lex Salica и вообще у южных германцев Totschlag влек за собой уплату вергельда, в древне-шведском и вообще скандинавском праве Friedlosigkeit, а у вестготтов – смертную казнь. В различных законах того времени Mord характеризуется различно; а термин этот означал вообще квалифицированное убийство. Так, под термином Mord право южных германцев тогда понимало тайное убийство, и сюда подходили случаи, когда убийца прячет труп, прикрывает его ветвями, бросает в воду, а по англо-саксонскому праву под понятие Mord подходили случаи, когда убийца оставался неизвестным или отрицал убийство. В Lex Salica за Mord назначался тройной вергельд, в Lex Saxonum – десятикратный, лангобарды требуют за Mord кроме вергельда уплаты еще 900 шиллингов, а в Швеции, Дании и у англо-саксов за Mord назначается смертная казнь. У скандинавов в дальнейшем взамен смертной казни это преступление влечет за собой вечное изгнание. С XII в. уплата вергельда ограничивается случайным убийством и убийством в состоянии крайней необходимости, а за все остальные виды убийства назначается смертная казнь (главным образом колесование) и лишь в некоторых случаях возможна замена смертной казни выкупом или тюремным заключением. Швабское Зерцало и Каролина карают за убийство квалифицированными видами смертной казни.[10]
В Code Pnal 1791 г. убийству посвящено большое число статей (ст. 1–15 первого раздела второй главы) – различалось убийство случайное, неосторожное, законное, правомерное, без предумышления и с предумышлением, отцеубийство, злодейское убийство и отравление. Предумышленное и злодейское убийство, отцеубийство и отравление карались смертью, а все остальные случаи умышленного убийства влекли за собой каторжные работы. За неосторожное убийство назначалось вознаграждение за вред и убытки и исправительное наказание, а случайное, законное и правомерное убийства не влекли за собой ни наказания, ни гражданского возмещения.
В. Убийство в истории русского уголовного права. В истории русского права, как и везде, наказуемость убийства мы находим уже в глубокой древности. Период, к которому относится развитие письменного законодательства в России, уже не знает неограниченного права кровной мести за убийство. Это право накладывает еще свой отпечаток на все законодательство, но явно выраженной тенденцией является уже стремление к ограничению мести, как путем сокращения круга лиц, имеющих право мстить, так и путем ограничения числа случаев, когда месть допускается.
Впервые в памятниках русского права убийство, как уголовное преступление, упоминается в договоре князя Олега с греками в 911 г. ст. 4 этого договора гласит: «Русин ли убьет Христианина или Христианин Русина, да умрет на том месте, где он совершил убийство. Если же убийца скроется, то буде он домовит, да возьмет ближайший родственник убитого часть убийцы, т. е. какая будет ему приходиться по закону, но и жена убийцы да получит часть, какая следует ей по закону. Если же сделавший убийство и скрывшийся не имеет собственности, да остается под судом, доколе не отыщется; и вслед за сим да умрет».[11]
Таким образом, убийство убийцы здесь допускается только в двух случаях: 1) на месте преступления, 2) если он скроется, то только тогда, если у него не будет имущества для компенсации семье потерпевшего. Такое же положение устанавливается и ст. 13 договора Игоря с греками в 945 г.
Важное место занимает убийство также в договорах Новгорода с немцами 1195 г. и Смоленска с Ригой, Готландом и немецкими городами 1229 г. Здесь мы уже сталкиваемся с уплатой денег «за голову». В этих договорах мы встречаем уже также установление различной уплаты за лиц, принадлежащих к разным сословным группам (двойная вира 20 гривен серебра за посла, заложника и попа и обычная 10 гривен за купца).[12] Отсутствие упоминания в договоре 1195 г. других сословий объясняется тем, что нормально только эти лица находились в чужих странах. Точно так же договор 1229 г. устанавливает для свободного человека виру в 10 гривен (ст. 1), а «за посла и попа … двое того оузяти» (ст. 6). Тот же договор упоминает уже и холопа, устанавливая за убийство его уплату одной гривны серебром (ст. 2).
Русская Правда уже по самому древнему (академическому) списку начинается со статьи об убийстве, давая ограничительный список кровных мстителей: «оубьет моужь моужа, то мьстить братоу брата, или сынови отца, любо отцю сына, или братоу чадоу, любо сестриноу сынови, аще не боудете кто мьстя, то 40 гривен за головоу; аще боудет роусин, любо гридин, любо коупчина, любо ябетник, любо мечник, аще изъгои боудеть любо словенин, то 40 гривен положити за нь».
Из этой статьи нетрудно увидеть, что круг мстителей ограничивается уже не родом, а семьей. В тех случаях, когда мстителей не было, устанавливается вира в размере 40 гривен и дается примерный список лиц, за которых платится вира.
Наиболее древние памятники права устанавливают одинаковую плату за убийство, вне зависимости от того, кто убит. Так поступает наиболее древний (академический) список Русской Правды, который устанавливает для всех свободных одинаковую виру – 40 гривен. Также поступает и Полицкий статут, устанавливавший «ако ли би грехом убио поличанинь поличанина у Полицихь али инди: иеднако носи» (ст. 51), т. е. убийца подлежит одинаковому наказанию, кто бы ни был убитый.[13]
Более поздние памятники права, в том числе и более поздние положения Русской Правды, устанавливают дифференциацию денежных взысканий. За княжего мужа и тиуна следует уплатить 80 гривен (двойную виру), а за остальных свободных – по-прежнему 40 гривен (ст. 19 и 22 Академического списка; ст. 1 Карамзинского списка).
В период судебников за убийство устанавливается в качестве наказания смертная казнь. Как судебник царя Ивана III (1497 г. ст. 8), так и судебник царя Ивана Васильевича (1550 г. ст. 59), равно как и проект судебника царя Федора Иоанновича (1589 г. ст. 113), устанавливают, что «доведут на кого… душегубство… а будетъ ведомой лихой человек и боярину велети того казнити смертною казнью». Выделяется в судебниках государское убийство, т. е. убийство господина, за которое определяется «живота не дати» (1497 г. ст. 9 и 1550 г. ст. 61). Уставная книга разбойного приказа (1555–1631 гг.) предлагала: если «на том разбою убийство или пожег дворовой или хлебной был и тех казнить смертью», убийство приравнивается к разбойнику, бывшему в трех разбоях.[14]
В XVII в. дела об убийстве в России рассматривались как одна из наиболее серьезных категорий дел, что видно хотя бы из того, что, передавая юрисдикцию другим органам, цари рассмотрение дел об убийстве оставляли за собой. Так, например, в царской жалованной грамоте Бежецкому Антониеву монастырю от 15 июля 1616 г. говорится: «А наместницы наши Городецкие и волостела Верховские и Онтоновские и Березовские и их тиуны, игумена с братьею и их людей не судят ни в чем, опричь одного душегубства…».[15] Точно так же в царской грамоте Никону, Митрополиту Новгородскому и Великолуцкому, о предоставлении ему права судить своим судом во всех управных делах от 6 февраля 1651 г. говорится, что ему «ведать судом и управою во всяких управных делех опричь разбойных и татиных и убивственных дел».[16]
Уложение царя Алексея Михайловича (1649 г.) предусматривало много видов убийства, назначая за него различные виды смертной казни. Уложение знало 36 преступлений, за которые назначалась смертная казнь, но на протяжении второй половины XVIII в. применение смертной казни в России сокращалось и к 1706 г. осталось только за смертоубийство и бунт.
По объекту Уложение царя Алексея Михайловича различало убийство родителей (гл. XXII, ст. 1), законных детей (ст. 3), родственников (ст. 7), господина (ст. 9), мужа (ст. 14), незаконных детей (ст. 26); по субъекту выделяются ратные люди, которые, «едучи на государеву службу», по дороге «смертное убийство» совершают (гл. VII, ст. 30), а также служилые люди (гл. VII, ст. 32); по месту совершения преступления выделяются церковь (гл. I, ст. 4) и государев двор, в присутствии государя (гл. III, ст. 3). Квалифицирующим обстоятельством было то, что убийство имело место во время совершения другого преступления, во время кражи хлеба и сена (гл. XXI, ст. 89) или если «кто приедет к кому-нибудь на двор насильством, скопом и заговором умысля воровски и учинит над тем, к кому он приедет, или над его женой, или над его детьми, или над людьми смертное убойство, а сыщется про то допряма и того, кто такое смертное убийство учинит, самого казнити смертью же… (гл. X, ст. 198)».
Воинский устав Петра I (1716 г.) и Морской устав (1720 г.) предусматривали также большое число различных видов убийства, однако устанавливалось, что «все убийцы или намеренные к убивству будут казнены смертью», а разница заключалась лишь в видах смертной казни; если за простое убийство назначалось отсечение головы (арт. 154), то за квалифицированные виды убийства назначалось колесование или повешение (арт. 161, 162, 163), как квалифицированное убийство рассматривалось отцеубийство (арт. 163), детоубийство (арт. 163), отравление (арт. 162), убийство по найму (арт. 161), убийсво солдатом офицера (арт. 163), убийство на дуэли (арт. 139) и самоубийство (арт. 164).
Проекты уголовного уложения 1754 и 1766 гг. предусматривали (гл. XXV): 1) умышленное, совершенное «волею и нарочно, без нужды» (ст. 1); 2) неосторожное «убивство ненарочно и не с умыслу… однако ж, когда убийца в том виновен и убивство от его неосторожности произошло» (ст. 14–15 и 18) и 3) случайное «весьма неумышленное и не нарочное убивство, при котором никакой вины не находится… понеже такое дело учинится одним случайным образом» (ст. 22).
Как квалифицированные выделены были случаи убийства, когда «человек того, кому он служит, или дворовый чей человек и крестьянин помещика своего умышленно убьет до смерти»… (ст. 6) и даже если «такой человек и крестьянин умыслит такое смертное убивство на помещика своего или на того, кому он служит, или вымет против его какое оружие хотя его убить и оному отсечь голову» (ст. 7),[17] но если «который помещик своего крепостного человека или кто того, который у него служит или за которым ему в нашем государственном деле в работе и тому подобном смотрение иметь ведено, по их винам станет наказывать не с пристойною умеренностью, так что наказанный от того наказания и побои умрет…», то «при таких наказаниях умысла к убийству не признается…» (ст. 19), так помещики писали для себя законы.
Умышленное убийство каралось смертной казнью, которая приводилась в исполнение отсечением головы и колесованием; за неосторожное убийство назначались плети, батоги, тюрьма и денежный штраф «смотря по состоянию виновных», «знатных тюремным арестом на две недели, а прочих состоящих в классах и дворян и знатное купечество сажать в тюрьму же на месяц, учинить им церковное покаяние… а подлых сечь плетьми дабы смотря на то впредь с лучшею осторожностью поступали» (ст. 15). От смертной казни освобождались малолетние до 15 лет, которые подвергались взамен этого заточению в монастырь, по проекту 1754 г. – на пятнадцать, а по проекту 1766 г. – на пять лет, а если не исправляются, то и навечно (ст. 24).
Уложение о наказаниях 1845–1885 гг. различало убийство с прямым и непрямым умыслом, разделяя первое на убийство с обдуманным заранее намерением (ст. 1454), без обдуманного заранее намерения (ст. 1455 ч. I) и в запальчивости или раздражении (ст. 1455 ч. II). Неосторожное убийство было предусмотрено крайне неудачно, неосторожное причинение смерти различалось, если действие, которым оно причинено, само по себе запрещалось законом (ст. 1466) и если оно не противозаконно (ст. 1468), кроме того, было большое число статей, предусматривавших отдельные частные случаи неосторожного причинения смерти (ст. 989, 1139, 870, ч. II 899, 1543, 1484, 1488, 1464, 1490 ч. II) в большинстве случаев ненужных. Как квалифицированные рассматривались случаи убийства родителей (ст. 1449), родственников (ст. 1451), начальника господина и членов семейства господина, вместе с ним живущих, хозяина, мастера, лица, которому убийца одолжен своим воспитанием или содержанием (ст. 1451), священнослужителя (ст. 212), часового или кого-либо из чинов караула, охраняющих императора или члена императорского дома (ст. 244, ч. I), беременной женщины (ст. 1452 и 1455 ч. I). По способу действия выделялось убийство особом опасным для жизни многих лиц (ст. 1453 ч. I и ст. 1455 ч. I), способом, особо мучительным для убитого (ст. 1453 ч. 2), изменническое убийство (ст. 1453 п. 3, ст. 1510) и отравление (ст. 1453 п. 5 и ст. 1455 ч. I). По цели действия усиливалась ответственность: за убийство из корысти (ст. 1453 п. 4 и ст. 1455 ч. I) и убийство, совершенное ради облегчения другого преступления (ст. 1459 и ряд специальных ст. 268, 633, 824, ст. 308 ч. II, ст. 309 ч. II, ст. 310 ч. II, ст. 311 ч. II); наказание усиливалось также при рецидиве (ст. 1450). Смягчалось наказание при детоубийстве (ст. 1451 ч. II), убийстве при превышении необходимой обороны (ст. 1467) и убийстве на дуэли (ст. 1503–1505).
Максимальным наказанием за предумышленное убийство в Уложении о наказаниях были каторжные работы на срок от 15 до 20 лет, а при наличии квалифицирующих обстоятельств вплоть до бессрочной каторги. Система и редакция статей о преступлениях против жизни в Уложении о наказаниях была казуистичной, запутанной, несогласованной, отставала от уровня тогдашней науки, вызывала недоразумения в практике и должна была быть заменена значительно более совершенной главой Уложения 1903 г., которую мы в дальнейшем неоднократно рассматриваем, но которая в России в силу вообще не вступила.
§ 2. Объект убийства
А. Определение объекта убийства. Объектом убийства является жизнь другого человека.
Поскольку объектом убийства является жизнь, требуется, чтобы человек, на жизнь которого посягают, был уже родившийся и еще не умерший… «в момент учинения деяния человек, против которого оно направляется, должен находиться в живых, преступного лишения жизни нет, если деяние направлялось, с одной стороны, против умершего, с другой – против не начавшего жить».[18]
Если преступление направлено против еще не родившегося плода, деяние рассматривается не как убийство, а как аборт, что мы специально рассматриваем далее. Моментом начала самостоятельной жизни младенца обычно считают либо начало дыхания (что одновременно принимается и в качестве доказательства того, что ребенок родился живым), либо момент отделения пуповины.[19]
Если умышленное лишение жизни имело место во время родов, то некоторые авторы признают возможным квалифицировать это как убийство, если часть тела ребенка находится уже вне утробы матери (например, разможжение уже появившейся наружу головы).[20]
В случаях, когда лицо, имея умысел кого-либо убить, совершает действие, могущее причинить смерть, но тот, против кого направлено деяние, уже ранее умер, имеет место покушение на негодный объект.
Игравший исторически большую роль для признания годности объекта вопрос о жизнеспособности сейчас потерял свое значение, и для признания убийства несущественно то, что убитый должен был в ближайшем будущем все равно умереть.
Древнее право знало много обстоятельств, смягчающих вину за убийство, в том числе и жизнеспособность. В древнем еврейском праве смертная казнь за убийство не применялась в случаях, когда объектом преступления являлся нежизнеспособный ребенок, неизлечимо больной или лицо, находившееся в агонии. Жизнеспособности убиваемого требовал Carpzow. Ансельм Фейербах внес это требование в Баварское Уложение 1813 г., но сейчас «степень энергии и правильности жизненных отправлений убитого, степень нормальности развития органов его тела не оказывают никакого влияния на состав убийства».[21] Уголовное законодательство в равной мере охраняет и жизнь ребенка, и взрослого человека, и старика. «Право прожить час так же священно, как и право прожить 60 лет», писал еще Штюбель, и «как с юридической, так и с практической точки зрения принятие жизнеспособности в число необходимых условий убийства оказывается несостоятельным».
Б. Самоубийство и соучастие в нем. Самоубийство, как правило, в настоящее время уголовной ответственности за собой не влечет, а из ненаказуемости самоубийства вытекает также ненаказуемость и покушения на него, так как покушение на непреступное деяние также не является преступлением, подстрекательство и пособничество к самоубийству могут быть рассматриваемы лишь как delictum sui generis.
Иначе, однако, решался этот вопрос ранее, а в некоторых странах иногда и сейчас.
Каролина специально предусматривала самоубийство и карала его в некоторых случаях конфискацией имущества (Art. 135), а Тридентский собор (1568 г.), следуя взгляду блаженного Августина, истолковал шестую заповедь как безусловно запрещающую самоубийство. Труп самоубийцы поэтому подвергался позорному погребению. Наказуемость самоубийства в Германии была отменена Фридрихом I лишь в 1751 г. Французские законы в XVIII в. карали самоубийство повешением за ноги и конфискацией имущества в пользу короля,[22] а в английском праве еще и по сегодняшний день самоубийство рассматривается как преступление. Ранее по common law самоубийца подвергался позорному погребению на большой дороге и в его могилу вбивали кол; его имущество подлежало конфискации, но и до конца XIX в. в Англии самоубийца лишался церковного погребения. Поскольку самоубийство рассматривается в Англии как felony, покушение на него является по английскому праву misdemeanor и карается тюрьмой.[23]
В Англии еще в XX в. имели место случаи привлечения к уголовной ответственности за покушение на самоубийство.
Приводим кое-какие цифры. Так, привлечение к уголовной ответственности за покушение на самоубийство имело место:
По праву США законченное самоубийство не карается и не является преступлением;[24] так как самоубийство не наказуемо, то лица, подстрекавшие к нему, и пособники также не могут быть рассматриваемы по общему правилу о соучастии как наказуемые, однако суды в различных штатах решают этот вопрос по-разному. Суды Мичигана, Техаса, Массачусетса полагают, что в случае, когда кто-либо уговорил человека покончить с собой и присутствовал при этом, его следует рассматривать как исполнителя murder II степени, но если он не присутствовал, то он не может отвечать, так как он является accessory before the fact, а таковой не может быть наказуем, когда не наказуем главный виновник. Если двое условились покончить с собой и один из них приведет свое намерение в исполнение, а другой этого не сделает, то последний карается за murder.
По законодательству Нью-Йорка покушение на самоубийство рассматривалось до 1919 г. как felony и каралось заключением на срок до 2 лет или штрафом до 1000 долларов или обоими наказаниями вместе (§ 178). Подстрекательство или помощь к совершению самоубийства по законодательству Нью-Йорка рассматриваются как manslaughter I степени (§ 175), подобные же действия при последовавшем покушении на самоубийство рассматриваются как felony (§ 176), при этом то, что сам покушавшийся или покончивший с собой за свои действия не отвечает, значения не имеет (§ 177). В Массачусетсе и Техасе покушение на самоубийство не наказывается. В Техасе – так как самоубийство не преступление, а в Массачусетсе на основании статута, определяющего felonies.[25]
Проект Уголовного кодекса США предусматривал самоубийство и соучастие в нем в трех статьях (ст. 261–263). Пособники и подстрекатели к самоубийству карались лишением свободы на срок до 7 лет, а при покушении на самоубийство – лишением свободы на срок до 2 лет или штрафом до 1000 долларов, или обоими наказаниями вместе.
Канадский кодекс (ст. 237) карает покушение на самоубийство лишением свободы на срок до 1 года или штрафом, или обоими наказаниями вместе.[26]
Румынский кодекс 1937 г. установил наказуемость покушения на самоубийство (от одного до пяти лет тюрьмы), что ранее не имело места.[27]
В Италии самоубийство не карается, но карается тот, кто убедит другого совершить самоубийство или укрепит в нем предположение покончить с собой, окажет ему каким-либо образом содействие при выполнении самоубийства. Если последствием покушения на самоубийство было тяжкое телесное повреждение, а не смерть, то наказание снижается. Если потерпевший моложе 14 лет или ограниченно вменяем, то наказание повышается; если же он невменяем, то действие подстрекателя или пособника рассматривается как убийство (ст. 580).
Швейцарский кодекс 1938 г. карает подстрекательство и пособничество к самоубийству, совершенные из экономических побуждений. Это преступление карается лишь в том случае, если самоубийство или покушение на него последовали (ст. 115).
В Дании карается тот, кто содействует самоубийству другого, а если он действует по мотивам личной заинтересованности, то наказание повышается (ст. 240). На Кубе карается лицо, которое содействует самоубийству или подстрекает к нему, а если пособник или подстрекатель был одновременно и исполнителем, то наказание повышается. Суды должны учитывать мотивы действия, и если виновным руководили жалость или сочувствие, то мера наказания снижается. В Турции карается тот, кто подстрекал или помогал в самоубийстве, если последнее имело место (§ 454). В Иране самоубийство ненаказуемо, а значит, ненаказуемы и все виды соучастия в нем, которые по иранскому кодексу строго акцессорны. В Польше карается тот, кто путем уговора или оказания содействия доводит человека до покушения на собственную жизнь (ст. 228). Наказуемость соучастия в самоубийстве предусмотрена также в Испании (art. 416 кодекса 1932 г.), проектом французского Уголовного кодекса (art. 369), Голландии (ст. 294) и Норвегии (§ 236).
В истории русского права наказуемость самоубийства была ранее установлена церковными законами. Начиная с Воинского устава Петра I, мы находим самоубийство как уголовно наказуемое деяние: «…ежели кто сам себя убьет, то надлежит палачу тело его в бесчестное место отволочь и закопать, волоча прежде по улицам или обозу» (арт. 164), а Морской устав предлагал: того, «кто захочет сам себя убить и его в том застанут, того повесить на райне, а ежели кто сам себя уже убьет, тот и мертвый за ноги повешен быть имеет» (ст. 117).[28]
По Своду законов за самоубийство назначалось лишение христианского погребения, а за покушение на него – наказание такое же, как и за покушение на убийство (ст. 347–348).
Дореволюционное русское уголовное законодательство карало самоубийство, если оно не было учинено в состоянии безумия, умопомешательства или происшедшего от болезни припадка беспамятства или из великодушного патриотизма для сохранения государственной тайны и иных подобных целей, или женщин при обороне от изнасилования (ст. 1472–1474 Уложения 1885 г.). Наказанием за самоубийство было признание недействительности завещания и лишение христианского погребения. Покушение на самоубийство каралось церковным покаянием, и, таким образом, субъектами его могли быть только христиане. Склонение и пособничество к самоубийству приравнивалось к пособничеству в предумышленном убийстве (ст. 1475). Кроме того, каралось побуждение к самоубийству (близкое к составу доведения до самоубийства в советском праве) и жестокость в отношении подчиненного лица или лица, находящегося на попечении, приведшая к самоубийству последнего (ст. 1476).
По Уголовному Уложению 1903 г. самоубийство уже ненаказуемо, а участие в нем рассматривается как delictum sui generis (ст. 462–463). Но еще в 1915 г. мы находим такое сообщение: «Вследствие неоднократно уже возникавших недоразумений при погребении самоубийц по православному обряду святейший синод разъяснил, что если самоубийство совершено вследствие известного уже помешательства, то в таком случае духовенство должно удовлетворяться документом, выданным полицией о неимении с ее стороны препятствий к погребению, в прочих же случаях необходимо предварительное судебно-медицинское освидетельствование, через которое было бы удостоверено ненормальное психическое состояние самоубийцы. После судебно-медицинского осмотра, удостоверяющего ненормальность самоубийцы, священники не имеют права отказываться от совершения христианского погребения над самоубийцами и в случае крайнего сомнения должны испрашивать указаний от своего епископа».[29]
Предусмотрена была Уголовным Уложением 1903 г. также «американская дуэль», т. е. соглашение двух или нескольких лиц поставить самоубийство одного из них в зависимость от жребия или иного условного случая, и последовавшее вследствие такого соглашения самоубийство или покушение на самоубийство, не довершенное по обстоятельствам, не зависящим от воли согласовавшихся (ст. 488).
Представители передовой правовой мысли всегда возражали против уголовной ответственности за самоубийство, и еще Беккариа писал: «…самоубийство является преступлением, к которому, казалось бы, не может применяться наказание в собственном смысле, потому что оно поражает или невинных, или холодное и бесчувственное тело».[30]
В советском уголовном праве самоубийство и покушение на него уголовной ответственности за собой не влекут, что дало повод А. Ф. Кони после издания УК РСФСР 1922 г. писать: «…нельзя не приветствовать статью 148 Советского уголовного кодекса, совершенно исключившую наказуемость самоубийства и покушения на него».[31] Рассматривая самоубийство как действие, противоречащее этике и морали социалистического общества, законодатель считает в то же время нецелесообразным применять за это деяние меру уголовного наказания. Имевшие место в военной практике отдельные случаи квалификации покушения военнослужащих на самоубийство по ст. 16 и п. «в» ст. 19312 УК РСФСР не могут рассматриваться иначе, как грубая ошибка, противоречащая общим принципиальным установкам советского уголовного права. Уголовная ответственность за самоубийство нецелесообразна, так как она не может служить ни целям общего, ни целям специального предупреждения.
В действующем нашем уголовном законодательстве карается лишь доведение лица, находящегося в материальной или иной зависимости от другого лица, жестоким обращением последнего или иным подобным путем до самоубийства или покушения на него (ст. 141 ч. I), а также «содействие или подговор к самоубийству несовершеннолетнего или лица, заведомо неспособного понимать свойства или значения им совершаемого или руководить своими поступками» и лишь в том случае, «если самоубийство или покушение на него последовали» (ст. 141 ч. II).[32]
Наше уголовное законодательство поступает совершенно правильно, когда, рассматривая самоубийство как действие, безусловно противоречащее социалистической морали, не устанавливает за него никакого наказания, но тот, кто помогает самоубийству, кто, оставаясь в живых, помогает другому человеку покончить с собой, тот, безусловно, представляет общественную опасность, вне зависимости от того, было ли лицо, покончившее с собой, вменяемо или нет.
Фактически, когда речь идет о подстрекательстве или соучастии в самоубийстве невменяемого, то это уже не помощь самоубийству, а скорее убийство. Тот, кто вкладывает револьвер в руку психически больного, чтобы он покончил с собой, тот, кто подговаривает ребенка застрелиться, тот фактически убивает.[33] Помощь и подговор к самоубийству должны караться в дальнейшем, как мы полагаем, и тогда, когда самоубийца отдавал себе отчет в своих действиях. Нет никаких оснований считать действие лица, которое дает самоубийце револьвер или которое подговаривает его застрелиться, – ненаказуемым. Оставлять эти случаи без применения репрессии нельзя.[34]
Помощь при самоубийстве по существу мало чем отличается от убийства по просьбе, а подстрекательство к самоубийству деяние значительно более тяжкое, положения акцессорной теории соучастия о ненаказуемости основного деяния не могут оказать никакого влияния на наше право, а преступление это к тому же должно быть предусмотрено как delictum sui generis. Вопрос о сходстве между участием в самоубийстве и убийством по просьбе неоднократно возникал в литературе. F. Helie считал безразличным, убивает ли человек себя собственной рукой или рукой другого, но Фойницкий основательно возражал, что «сближение это верно для убиваемого, но не для убивающего».[35]
Наличие в советском уголовном праве особого состава доведения до самоубийства, который в других законодательствах отсутствует, должно быть признано вполне правильным. Практически применение уголовной ответственности за это преступление требует осторожности и тщательного учета обстоятельств дела. Доведение до самоубийства предполагает наличие непосредственной причинной связи между фактом самоубийства и преступным деянием обвиняемого, но и одного наличия такой причинной связи еще недостаточно, нужно, чтобы действие обвиняемого, повлекшее за собой самоубийство, охватывалось понятием жестокого обращения или иного подобного пути и чтобы потерпевший находился в материальной или иной зависимости от лица, привлекаемого к уголовной ответственности. Поэтому «один факт прекращения половой связи, повлекший самоубийство, не является еще достаточным для обвинения прекратившего эту связь в доведении до самоубийства»,[36] точно так же «самоубийство на почве личных отношений между потерпевшим и подсудимым не может быть поставлено последнему в вину, если по делу не установлено, что самоубийство явилось результатом жестокого или подобного обращения подсудимого с потерпевшим, находившимся от него в зависимости».[37]
Неоднократно подчеркивалось руководящими судебными органами, что «самоубийство материально зависимого лица не может быть поставлено в вину подсудимому при недоказанности связи между действиями подсудимого и самоубийством».[38] Однако, исходя здесь, как и во всех остальных случаях, из субъективной вины, мы полагаем, что одной причинной связи еще недостаточно, необходима вина и в отношении результата, т. е. нужно, чтобы виновный, если он не желал результата, хотя бы мог и должен был предвидеть, что результатом его действий может явиться самоубийство потерпевшего; если этого не было, то, как мы полагаем, ответственность исключается. Поэтому мы не можем согласиться с определением УКК ВС РСФСР, которая, исходя из правильного положения, что «ст. 141 предусматривает не только жестокость обращения, но и другие способы доведения до самоубийства», пришла к выводу о виновности мужа, который в письме к первой жене называл вторую жену «куском мяса», «бараньей головой» и т. п., а последняя, прочитав это письмо, отравилась,[39] хотя причинная связь здесь и имеется, но отсутствует субъективная виновность, и значит оснований для уголовной ответственности нет.
Физическое или психическое принуждение к самоубийству есть, конечно, не что иное, как умышленное убийство. Точно так же как убийство следует рассматривать и случаи доведения до самоубийства с прямым умыслом, таким образом, виновность при этом преступлении в отношении результата может быть либо в форме неосторожности, либо в форме эвентуального умысла.[40]
Если самоубийство явилось результатом законных действий обвиняемого, то даже при наличии причинной связи и заведомости уголовная ответственность не может иметь места; так, нельзя привлечь к уголовной ответственности начальника, законно уволившего сотрудника, или мужа, разошедшегося с женой, если даже они были предупреждены, что сотрудник или жена намерены покончить с собой, и все же не отказались от своих действий.
В. Неохраняемая жизнь в истории уголовного права. История уголовного права знает значительное число лиц, которые не признавались возможными объектами убийства, которые правом не защищались и лишение которых жизни признавалось ненаказуемым.
Классовый характер уголовного законодательства в отношении убийства находил свое выражение не только и даже не столько в том, как оно каралось, сколько в том, когда и в отношении кого оно разрешалось и когда не влекло за собой уголовного преследования.
Уголовное право долгое время вовсе не всякого человека считало возможным объектом преступления против личности, в том числе и убийства.
Из числа возможных объектов наказуемого убийства исключались рабы и холопы.
Товарищ Сталин указывает, что «При рабстве “закон” разрешал рабовладельцам убивать рабов. При крепостных порядках “закон” разрешал крепостникам “только” продавать крепостных».[41]
Законы XII Таблиц карают за убийство только в случаях лишения жизни свободного человека. По закону Аквилия в Риме убийство раба рассматривалось не как преступление против личности, а как имущественное преступление: «иск умышленного вреда (actio damni injuriae) установляется законом Аквилиевым (относимым к 468 г. от основания Рима), в первой главе которого постановлено, что кто убьет незаконно чужого раба или чужое четвероногое из числа домашних животных, тот будет осужден заплатить хозяину высшую цену, какую тот предмет имел в том году».[42]
Императором Пием Антонином было установлено, что если кто убьет своего раба без причины, должен быть наказан как за убийство чужого раба. Как видно из Институтов Юстиниана, во времена Антонина начальникам провинций докладывали, что рабы убегают в храмы или к статуям императоров, спасаясь от невыносимой жестокости их господ. В этих случаях Антонин постановил принуждать хозяев продавать рабов на хороших условиях с тем, чтобы цена была все же отдаваема господам. Пий Антонин в рескрипте, адресованном Элию Марциану, писал: «Хотя власть господ над их рабами должна быть неприкосновенна и никто не должен быть лишен своего права, но польза самих господ требует, чтобы справедливо просящим не отказывать в помощи против жестокости, или голода, или нестерпимой обиды».[43] Уголовное наказание в Риме за убийство раба, да и то со значительными ограничениями, было установлено лишь при Клавдии и Константине.
Платон писал: «… кто убьет своего раба, то, по совершении очищений, ему, согласно закону, не ставится в вину убийство».[44]
Так же обстояло дело и в истории русского права, где уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича, данная жителям Двинской земли в 1397 г., устанавливала: «…а кто осподарь огрђшится, ударить своего холопа или робу и случится смерть, в том намђстници не судятъ ни вины не емлютъ» (ст. 11).
«Русская Правда» также не признает холопа и раба возможными объектами убийства даже для посторонних лиц, «а в холопе и в робе виры нетуть; но оже будеть без вины убиен, то за холоп урок платити или за робу, а князю 12 гривен продажи» (Троицкий список, ст. 89), т. е. за убийство холопа и раба полагаются те же денежные взыскания, что и за коня (урок и продажа 12 гривен). Но лиц с ограниченной правоспособностью «Русская Правда» иногда защищает: «…аще ли господин бьеть закупа… не смысля пьян, без вины, то яко же и в свободном платежь, тако же и в закупе» (ст. 62 Троицкого IV списка).[45]
Каноническое право дозволяло убийство еретиков и лиц, приговоренных к anathema et excommunicatio.
Убийство лиц, приговоренных к смертной казни, много столетий не рассматривалось как преступление, и еще Фейербах в таком убийстве видел только полицейское нарушение.[46]
Убийство изменников часто не только не рассматривалось как преступление, а напротив, как деяние, заслуживающее вознаграждения. «А будет кто изменника догнав на дороге убьет… а тому… дати государево жалованье из его животов, что государь укажет» (Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г., гл. II, ст. 15).
В Риме было ненаказуемо убийство лиц, присужденных к aquae et ignis interdictio, а позже лиц, занесенных в проскрипционные списки. В средневековой Германии в таком положении были лица, осужденные к Friedlosigkeit, в русском праве – осужденные к «потоку и разграблению». В литовском праве «выволанцы», а «разбойника вольно есть всякому без беды убивати» устанавливают Книги Законные (гл. II, ст. 9). Сербское право не карало за убийство гайдуков, т. е. лиц, скрывавшихся в горах и не являвшихся в назначенный срок к органам власти, несмотря на публичный вызов, гайдук стоял вне защиты закона и каждый мог убить его безнаказанно. В XVI в. во Франции и Германии можно было безнаказанно убивать цыган.
С 1882 по 1943 г. по официальным данным в США было линчевано 3416 негров. Линчевание – «это общеамериканский институт, возникший из духа американского беззакония (lawlessness) и американской непримиримости с порядком судебной деятельности».[47] Виновные в линчевании почти всегда остаются безнаказанными.
В течение длительного времени не каралось убийство уродов. Римское право признавало убийство уродов дозволенным (monstrosos partus sine fraude coedunto). Цицерон в одной из своих речей говорит, что потерпевший «с такой же легкостью был лишен жизни, как по XII Таблицам младенец, отличавшийся исключительным уродством».
Не каралось убийство уродов и в средние века, когда они рассматривались как результат связи женщины с дьяволом и поэтому не устанавливалось уголовной ответственности за лишение их жизни.
Каноническое право позднее внесло в этот взгляд резкое изменение и карало убийство урода, исходя из того, что «всякое существо, рожденное от человека, имеет человеческую душу». Однако еще Каролина требовала, чтобы объект убийства был не только жив (lebendig), но и обладал нормальными органами (gleidmssig). Ненаказуемым было убийство уродов и по прусскому земскому праву 1794 г. Представители теории уголовного права в Германии в начале XIX в., в том числе Фейербах и Грольман, придерживались той точки зрения, что убийство уродов должно оставаться ненаказуемым.[48] Это положение распространялось, однако, только на детей, а иногда даже только на новорожденных, но не на взрослых уродов. В современном праве убийство уродов, как правило, особо не предусматривается и они находятся под равной охраной закона.[49]
До Петра I в русском законодательстве убийство уродов не каралось. По петровским указам 1704 и 1718 гг. было предложено уродов не убивать и не таить, а объявлять священникам и направлять в кунсткамеру. Наказанием за нарушение указа были установлены штрафы и даже смертная казнь. Из характера этого законодательства ясно, что имелась в виду не охрана жизни уродов, а специальные мероприятия, направленные на пополнение петровских кунсткамер. Наказуемость за убийство урода по существу была установлена в России впервые в Своде Законов 1832 г. (ст. 345), но еще в Уложении 1845 г. устанавливается за убийство младенца чудовищного вида более мягкое наказание (ст. 1469), а при обсуждении проекта Уголовного уложения председатель Владикавказского окружного суда Бартенев считал, что «убийство урода из суеверия должно быть выделено особой статьей».[50]
В советском уголовном праве этот вопрос законом не предусмотрен и существенного значения для практики не имеет.
Г. Убийство, квалифицированное по объекту. В уголовном праве одним из важнейших элементов состава для определения квалификации убийства являлось всегда и зачастую и сейчас является установление того, против кого преступление было направлено.
Еще в глубокой древности был выделен состав родственного убийства, за которое угрожали особо суровые виды смертной казни. Платон рассматривает убийство мужа, жены, брата, сестры, родителей и пишет, что «было бы в высшей степени справедливо подвергнуть отцеубийцу или матереубийцу многократной смертной казни, если бы только было возможно одному и тому же человеку умереть много раз».[51] В период законов XII Таблиц в Риме понятие parricidium охватывало не только убийство родственника, но и убийство всякого свободного человека, «Si quis hominem liberum dolo malo (sciens) morti duit parricida esto» (IX таблица § 2), но Помпеем «parricidium» был уже выделен как квалифицированный состав родственного убийства. Этот закон Помпея (lex Pompeia de parricidiis), как пишет Гай, устанавливал, что «кто ускорит смерть своего родителя, своего сына или всякой другой особы из его родства тайно или явно», будет ли он основным исполнителем или сообщником преступления, подлежит наказанию за parricidium. Закон Помпея охватывал убийство восходящих родственников, вне зависимости от степени родства, нисходящих, за исключением убийства ребенка, совершенного отцом (ответственность была установлена лишь в царствование Константина), братьев, сестер, дядей, теток и их детей, мужа, жены, жениха и невесты, родителей невесты женихом или родителей жениха невестой или их родителями, мачехи, отчима и пасынков, а также убийство клиентами своих патронов.[52] Отцеубийство всегда рассматривалось как особо ужасное преступление, и Цицерон в одной из своих речей говорит, что это «ужасное отвратительное преступление, что и говорить, равняющееся, можно сказать, по своей отвратительности всем остальным преступлениям, вместе взятым».[53]
Особенно большое значение родственные отношения имели для квалификации убийства в древнем Китае. (В Китае вообще было очень большое количество квалифицированных и привилегированных видов убийства: по способу действия, по лицу, на которое убийство направлено, и т. д.). Система старого китайского уголовного права знала особо усиленное наказание за одновременное убийство нескольких членов семьи, что создавало, в соединении с другими особенностями китайского права, курьезы в ряде случаев судебной практики. Так, однажды были одновременно убиты муж и жена (последняя весьма легкого поведения), сначала была убита жена, а затем муж, убийца был приговорен к обезглавливанию с выставлением головы напоказ и конфискацией половины имущества. В другом подобном же случае был раньше убит муж, убийца был приговорен к значительно более мягкому наказанию, так как безнравственная женщина, не имеющая мужа, сама преступна и подлежала суду.[54]
В истории русского права убийство определенных лиц зачастую создавало квалифицированный состав или особо выделялось.
В XXII гл. Уложения царя Алексея Михайловича 1649 г. было особо выделено убийство: отца или матери (ст. 1 и 2), родителями детей законных (ст. 3) и незаконных (ст. 26), брата или сестры (ст. 7), мужа женой (ст. 14), беременной женщины (ст. 7) и господина (ст. 9). Все эти виды убийства влекли за собой одинаковое наказание, за исключением мужеубийства, которое каралось закапыванием виновной живой в землю,[55] но законом 19 февраля 1689 г. это наказание было заменено отсечением головы,[56] и детоубийства, которое каралось мягче других видов убийства.
Воинский устав Петра I особо предусматривал убийство отца, матери, дитя малого или офицера (гл. XIX, арт. 163) – в этих случаях назначалась смертная казнь колесованием, а Морской устав назначает колесование за убийство отца или командира (ст. 116).[57]
Сводом законов 1832 г. была воспринята система Уложения 1649 г. (ст. 341 и 342), а Уложение 1845 г. усиливало ответственность за убийство родственников.
И в древнем германском праве родственные отношения играли немалую роль при установлении наказуемости убийства в период, когда за убийство вообще платили Wergeld, в лангобардском праве жена за убийство мужа каралась смертной казнью. Швабское Зерцало за убийство родственников назначало утопление в мешке, а за убийство мужа колесование в соединении с пытками.
Родственные отношения, наличие которых между убийцей и убитым в действующем праве дает основание для усиления ответственности, весьма разнообразны. Наиболее распространенной является квалификация убийства восходящего родственника (Франция, ст. 299, Бельгия, ст. 395, Япония, ст. 203, Италия, ст. 517 и др.), наказание за убийство родителей только немногие страны распространяют и на случаи, если убит незаконный отец (Германия, ст. 215, Италия, ст. 577, Куба, ст. 432), в России при разработке проекта Уложения 1903 г. было сделано подобное предложение, но в закон оно включено не было. За убийство приемных родителей силивают ответственность соответствующие статьи во Франции, Швеции, Италии, Турции и других странах.
Убийство детей и нисходящих родственников как квалифицированное также встречается довольно часто (Италия, ст. 577, Куба, ст. 432, Турция, § 449). Русское Уложение 1903 г. рассматривало убийство нисходящих наравне с убийством восходящих родственников (ст. 455-I), также поступало старое итальянское уложение; квалифицировано такое убийство было в ряде швейцарских кантонов и многих кодексах средне– и южноамериканских республик.
Убийство супруга рассматривается как квалифицированное в большом числе кодексов, среди них Италия (ст. 577), Испания, Турция (§ 449), Венгрия. В Англии по common law убийство мужа квалифицировалось как petit treason и это положение отменено лишь ОРА. На Кубе предусмотрено как убийство супруга, так и убийство бывшего супруга в течение ста восьмидесяти дней со дня вынесения приговора о разлучении или разводе или недействительности брака (ст. 432, 433). Убийство мужа, если супруги жили совместно, квалифицируется в Швеции. Убийство мужа или жены было квалифицировано и в русском Уголовном Уложении 1903 г. (ст. 455-I).
Основанием для усиления ответственности за убийство является также иногда и то, что потерпевшими были братья, сестры, а иногда и более дальние родственники (Россия, Уложение 1903 г., ст. 455-I, Италия, ст. 577, Куба, ст. 433, Турция, § 499), в том числе невеста и т. д. Некоторые законодательства для всех этих случаев убийства создают особые составы, другие рассматривают их в общем составе как квалифицирующее обстоятельство.
В советском праве наказуемость усиливается не из одних лишь отношений родства и не только при наличии их, а требуются еще дополнительные обстоятельства.
Уголовное право широко применяло и применяет усиление ответственности за убийство, исходя не только из отношений родства, но и из других особенностей того лица, против которого убийство направлено.
Усиление наказания имело и имеет место почти во всех странах, если преступление направлено против главы государства (Франция, ст. 86; Германия §§ 80 и 81; царская Россия, Уложение 1845–1885 гг., ст. 241; Уложение 1903 г., ст. 99; Бельгия, Голландия, Венгрия), а также иногда против членов царствующего дома, регента или заместителя престола и т. д. Интересно, что во Франции до сих пор сохранились статьи, охраняющие жизнь императора, но статей, усиливающих ответственность за убийство президента, нет. Усиливается иногда ответственность и за убийство членов парламента (Турция, § 450).
Исходя из международно-политических интересов, наказание часто усиливается, если преступление совершено в отношении главы иностранного государства, причем это преступление иногда рассматривается как государственное (Голландия, § 115, Уголовное Уложение России 1845 г., ст. 456), иногда как преступление против личности (Россия, Уложение 1903 г., ст. 456). Из тех же соображений усиливают некоторые страны ответственность за убийство аккредитованных послов.
Следует также отметить усиленную охрану в ряде случаев должностных лиц при исполнении или по поводу исполняемых ими обязанностей (Италия, Кодекс 1889 г., ст. 365, Франция, Art. 233, Турция, § 449, п. 2) или определенных категорий должностных лиц, как-то: начальников (Россия, Уложение 1845–1885 гг., ст. 1451, Уложение 1903 г., ст. 455, п. 5), священнослужителей (Россия, Уложение 1845–1885 гг., ст. 212, Уложение 1903 г., ст. 455, п. 2).
Особо характерным с классовой точки зрения является усиление ответственности за убийство в тех случаях, когда убитый господин, хозяин, мастер (Россия, Уложение 1845–1885 гг., ст. 1451, Уложение 1903 г., ст. 455, п. 5; Бразилия, Кодекс 1830 г., ст. 192–16).[58] Это обстоятельство в истории уголовного права находило свое отражение неоднократно. Так, Уложение царя Алексея Михайловича устанавливало: «…а будет чей человек того кому он служит убьет до смерти: и его самого казниты смертью же безо всякия же пощады» (гл. XXII, ст. 9). Такое же положение имелось и в Литовском статуте: «Теж уставуем ястли бы который слуга вземша перед себе злый умысел пана своего забил або ранил, таковый маеть – срокго – горълом быти яко здраца четвертованым» (9 арт. XI раздела). Задолго до этого законы градские требовали «огневи предаются рабы иже на живот господей своих совещавше в тии рабы мучены да будут, убиену бывшу господину их и слицы ж глас его слышавше или бивше нань совет почуювше не стекошася, аще в дому или аще на пути или в селе сие приклучившеся». В праве саксов, англосаксов и лангобардов, в период, когда за убийство вообще назначается Wergeld, убийство господина карается смертной казнью. А еще за много веков до этого в Риме за убийство рабом своего господина подлежал смерти не только убийца, но и все остальные рабы этого господина, а по закону Нерона – и все вольноотпущенники. Каролина усиливала ответственность за убийство «высоких и знатных особ, собственного господина виновного…» (ст. 137).
Господствующий класс рабовладельцев и крепостников не только в законе, но и идеологически воспитывал массы в сознании отвратительности подобных деяний и еще в 1857 г., оценивая подобные законы, П. Колоссовский писал: «…высшая степень безнравственности и непокорности открывается в убийстве господина со стороны раба. Даже с внешней стороны преступление это, как явное восстание против законных властей, имеет характер, весьма опасный для государственного спокойствия, почему никогда не может быть терпимо правительством и наказывается всегда примерно – в высшей степени»,[59] а Уложение 1845 г. приравнивало подобное убийство к лишению жизни родственника.
Советское право не знает квалификации убийства по объекту. Состав террористического акта (ст. 588 УК РСФСР) имеет место тогда, когда преступление направлено «против представителей советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций». Большим числом разъяснений установлено, что эта квалификация может иметь место тогда, когда убиты рабкоры, селькоры, военкоры, ударники, учителя-общественники, стахановцы и другие лица, но обязательным требованием для подобной квалификации является, чтобы убийство было совершено в связи с общественной, партийной, советской деятельностью убитого.[60] Отнесение этого преступления к контрреволюционным преступлениям означает обязательное требование наличия контрреволюционного умысла, а значит, здесь основой для квалификации является не то, против кого направлено преступление, а мотив действия, т. е. субъективная сторона состава.
В условиях Отечественной войны было постановлено, что «убийство представителя власти, отягощенное посягательством на порядок, установленный государственной властью в условиях военного времени, перерастает признаки умышленного убийства как преступления против личности и должно рассматриваться как особо опасное преступление против порядка управления».[61]
§ 3. Детоубийство
В РСФСР детоубийство квалифицируется по пункту «д» ст. 136 УК, предусматривающему убийство, совершенное «лицом, на обязанности которого лежала особая забота об убитом». Обязанность, указанная в п. «д» ст. 136, может вытекать из закона, из должности данного лица, из особых отношений между ним и потерпевшим, в том числе и родственных, однако одних отношений родства, по нашему законодательству, как это ясно из текста статьи, недостаточно. Нужно, чтобы к этим родственным отношениям присоединились обстоятельства, создающие обязанность «особой заботы» об убитом. Такими будут отношения родителей к малолетним детям, взрослых детей к больным, старым, нетрудоспособным родителям, однако по п. «д» ст. 136 УК РСФСР, очевидно, не может быть квалифицировано убийство отцом взрослого здорового сына или сыном – трудоспособного отца. С другой стороны, без наличия родственных или даже юридически оформленных отношений может иметь место состав преступления, предусмотренного п. «д» ст. 136 УК РСФСР, например, убийство мужчиной забеременевшей от него женщины, если при этом имел место незарегистрированный брак или даже случайная связь. Состав п. «д» ст. 136 УК РСФСР будет также вытекать из отношений между няней и ребенком, который ей поручен, врачом и пациентом, опекуном и подопечным и т. д.
Детоубийство – одно из тех преступлений, которые не только в различные исторические эпохи, но и в одно время, как законами, так и моралью расценивались различно.[62]
В глубокой древности детоубийство вообще не влекло за собой никакой ответственности. Многие дикие народы, толкаемые на это материальной нуждой, очень часто допускают безнаказанное убийство детей. Как свидетельствуют этнографы и путешественники, детоубийство очень широко распространено и сейчас у народов, находящихся на низких ступенях развития, где родители имеют в отношении своих детей ничем не ограниченное право жизни и смерти.
Особенно часто отмечается убийство девочек, а также детей, роды которых повлекли за собой смерть матери, уродливых детей, близнецов, внебрачных детей и т. д. В некоторых случаях устанавливается максимальное количество детей в семье (два-три ребенка).
То, что широкое распространение детоубийства на ранних стадиях развития человеческого общества вызывается экономическими причинами, подтверждается большим количеством собранных материалов.[63]
В древнем мире широко было распространено право родителей над жизнью и смертью детей. В Египте, Риме и других государствах древнего мира детоубийство, как правило, не каралось. В римском праве детоубийство не влекло за собой никакой уголовной ответственности, если оно совершалось отцом семейства, а позже убийство матерью внебрачного ребенка каралось по lex Cornelia, но в императорский период в Риме устанавливаются суровые наказания за детоубийство, которое квалифицируется по lex Pompeja de parricidiis.
В Египте за убийство своих детей смертная казнь не назначалась, но убийца должен был три дня и три ночи держать в объятиях труп этого ребенка, и за выполнением этого наказания следила специальная стража. Мотивом такого наказания египтяне считали то, что кто дал жизнь, не может быть наказан смертью за отнятие ее.
Философы древнего мира также не осуждают детоубийство, как и аборт. В Риме и в Греции наиболее авторитетные философы и писатели (Платон, Аристотель, Цицерон и др.) высказывались за допустимость детоубийства.
В уголовном праве раннего феодального общества точно так же убийство родителями детей не карается. Гернет полагает, что это произошло под влиянием римского нападения на Галлию, он пишет: «Завоевание Галлии римлянами привело страну к нищете; разрушение селений, истребление посевов на полях вызвали все ужасы голодной нужды. Как последствие всего этого развились продажа детей и убийство их»,[64] однако, и он указывает на то, что, по Цезарю, у галлов отец имел право над жизнью и смертью детей и что у древних германцев также отец имел такое право.
По законам вестготтов за детоубийство уже угрожала смертная казнь, а при наличии смягчающих обстоятельств – ослепление (L. Visigoth. VI, 3 § 7). Но особенно сурово борьбу с детоубийством вело каноническое право. Церковь связывала вопросы детоубийства с вопросами половой морали и всю силу репрессии направляла против матери-детоубийцы, зачавшей вне брака. Если в период раннего средневековья церковь угрожала за это преступление еще относительно мягкими наказаниями, то позже наказанием являются квалифицированные виды смертной казни. Церковь, безусловно, оказала значительное влияние на европейское законодательство, которое с XIII–XIV вв. и до XVIII в. детоубийство рассматривало как тягчайший вид убийства. Во Франции вновь вводится в 1250 г. в действие закон Помпея, по закону 1270 г. детоубийца подлежит сожжению (ранее – только за рецидив, а позже – и за первое детоубийство) Эти законы Генриха II и Генриха III были затем повторены ордонансами Людовика XIV.
В Германии Бамбергское уложение 1507 г., а вслед за ним Каролина, устанавливают за детоубийство тягчайшие наказания. Так, в Каролине устанавливалось следующее: «Если женщина тайно по злобе и с намерением убьет своего ребенка, получившего жизнь и нормальные органы, то ее обыкновенно закапывают живой или сажают на кол. Но, чтобы облегчить здесь отчаяние, пусть этих преступниц топят, если в данном суде под рукой необходимая для того вода. Но где подобное зло случается часто, мы допускаем для большего устрашения подобных злых женщин и вышеизложенный обычай закапывания в землю и сажания на кол, или перед утоплением преступницу должно ущемлять раскаленными щипцами (ст. 131)».
Законодательство при этом, находясь под влиянием церкви, усиливало наказание потому, что речь шла о детях, убитых матерью, «незаконно» их родившей. Очень характерно это выражено в Уложении царя Алексея Михайловича 1649 г., где детоубийство вообще карается значительно мягче, чем обычное убийство, за которое угрожает смертная казнь (гл. XXII, ст. 19), «а будет отец, или мати сына или дочь убиет до смерти: и их за то посадити в тюрьму на год, а отсидев в тюрьме год, приходити им к церкви божий, и у церкви божий объявляти тот свой грех всем людям вслух, а смертию отца и матери за сына и за дочь не казнити» (гл. XXII, ст. 3), но если «…которая жена учнет жити блудно и скверно, и в блуде приживет с кем детей, и тех детей сама или иной кто по ея веленью погубит, а сыщется про то допряма: и таких безъзаконных жен, и кто по ея веленью детей ея погубит, казнити смертию безо всякия пощады, чтобы на то смотря, иные такова безъзаконного и скверного дела не делали, и от блуда унялися» (гл. XXII, ст. 26). Таким образом, то, что здесь усиленной охраной пользуются не дети, а охраняется совсем другой интерес, абсолютно ясно.
Для устранения представления о праве родителей на жизнь детей еще в Своде законов 1832 г. было записано: «…родители не имеют права на жизнь детей и за убийство их судятся и наказуются уголовным законом».[65]
В конце XVIII и начале XIX в. большое число авторов, исходя из самых разнообразных мотивов, возвысило свой голос против жестоких наказаний за детоубийство.[66] Беккариа писал: «Детоубийство является также следствием неизбежного противоречия, в которое поставлена женщина, ставшая жертвой своей слабости или насилия. Ей нужно выбрать позор или смерть существа, не способного чувствовать свое несчастье. Как ей не предпочесть эту смерть неизбежным страданиям, ожидающим ее и ее несчастный плод? Лучшим средством предупредить это преступление были бы законы, действительно охраняющие слабость от тирании, ополчающейся против пороков, если их нельзя прикрывать плащом добродетели.
Я не хочу ослаблять справедливый ужас, которого заслуживают эти преступления. Но, указывая на их причины, я считаю себя вправе сделать следующий общий вывод: наказание за преступление не может быть признано справедливым (или, что то же, необходимым), пока для предотвращения последнего закон не употребил наилучшие средства, доступные нации при данных условиях».[67]
Совсем иные мотивы выдвигал Кант, который, требуя наказания за убийство в виде талиона и настаивая на обязательном применении к убийце смертной казни, считал, что если имеется несколько соучастников в убийстве, то они все подлежат смертной казни. «Сколько, таким образом, есть убийц, совершивших убийство или приказавших убить, или содействовавших ему, столько должно быть казнено; так этого хочет справедливость, как идея судебной власти, согласно общим априори обоснованным законам». В то же время полагая, что два вида убийства – убийство на дуэли и детоубийство – не должны влечь за собой смертной казни, он писал: «Есть, однако, два достойных казни преступления, относительно которых есть еще сомнение – вправе ли законодательство их наказывать смертной казнью. К обоим преступлениям побуждает чувство чести. В одном случае – это вопрос половой чести, в другом случае – военной чести, и именно, настоящей чести, которая является для обоих этих человеческих классов долгом. Одно преступление – это убийство матерью ребенка (infanticidium maternale), второе – убийство военного товарища (commilitonicidium), дуэль. Так как законодательство не может устранить позора внебрачных родов и точно так же не может смыть пятна подозрения в трусости, которое падает на подчиненного военачальника (офицера), не противопоставившего собственной силы, невзирая на страх смерти, при оскорбительном столкновении, то, кажется, что в этих случаях люди находятся в естественном состоянии, и убиение (homicidium), которое тогда даже не должно бы называться убийством (homicidium dolosum), в обоих этих случаях, правда, подлежит наказанию, но не может быть верховной властью наказано смертной казнью. Внебрачный появившийся на свет ребенок родится вне закона (ибо это и значит брак), а потому и вне защиты последнего. Он как будто (словно запрещенный товар) прокрался в общество, так что последнее может игнорировать и его существование (так как он по справедливости и не должен был бы существовать), а, следовательно, может игнорировать и его уничтожение, и никакой декрет не может устранить позора матери, если станет известным то, что она вне брака разрешилась от беременности».[68]