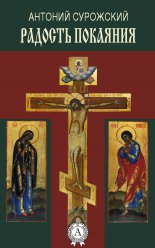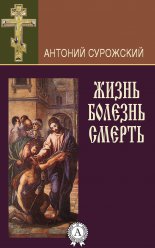Фломастеры для Тициана Ножкина Вета

– Давай, по углам свети, я вдоль стены уже насыпал, – говорил противный голос.
– А ты хорошо заправил корм? А то вдруг не поможет! – сказал другой незнакомый голос.
– Да, нормально! Мне сказали – что даже нескольких кусочков хватит, чтобы эта тварь отравилась… Фу… хорошо, что хоть противогаз одел.
К вечеру Писк не пришёл греть Сашку. И утром не пришёл.
Сашка, ещё совсем слабый, на ощупь стал пробираться к выходу. Около двери он нащупал руками что-то липкое, и, щупая дальше, обнаружил уже охладевший комочек. Это был Писк. Сашка почувствовал, как у него из живота потянулся наружу стон. Сашка облокотился о стену и столько так сидел и выл – не помнил.
Дверь в подвал резко распахнулась, и на пороге оказалось чудище. У него не было лица, а были большие круглые очки, и вместо рта – железная коробка. Сашка испугался, закричал и рванулся вперёд – прямо на чудище.
– Ах, ты, собака… Пригрелся здесь… Так это от тебя вонь… – как в бочку, страшно кричал противный, как хлопающая дверь, голос.
Дверь на улицу распахнулась, и мощные руки Скрипучего вытолкали Сашку.
Город, по которому побрёл Сашка, состоял из зданий, улиц, людей и… Сашки. Вот только у улиц были люди, у домов были люди, и даже у людей были люди – большие и маленькие. А у Сашки никого не было. Он был чем-то чужим и для этих улиц, и для зданий, и для людей.
Сашка, кутаясь в плащик, пошёл на манящий запах. Невысокого роста мужчина нёс от машины к небольшому домику на огромном деревянном лотке вкусно пахнущие кирпичики хлеба. Сашка встал, как вкопанный, наслаждаясь запахом. В животе урчало от голода.
Мужчина бросил косой взгляд, отнёс ещё один лоток. А когда вернулся, протянул булку хлеба Сашке. Сашка, скрюченными от холода руками взял хлеб, поднёс его к лицу и заплакал.
– Эй! Тощий! – услышал Сашка хриплый голос и обернулся, – Это моя кормушка…
Сашка прижал булку к себе, отступил назад и остановился. Отломил сколько смог, а остальное протянул Хриплому.
Хриплый сощурился, откашлялся, кряхтя и хромая, подошёл ближе:
– Откель ты такой взялся?! И-и – тощий!
Хриплый не взял отломанный ломоть. Хитро посмотрел на Сашку и мотнул головой. Развернулся, опираясь на палку и пошёл куда-то за дом. Сашка стоял и смотрел ему вслед. Хриплый обернулся:
– Ну, чё встал? Айда за мной!
Хриплый привёл Сашку к своим. Своими он называл Петровича и Нинку. Хриплого все называли Батя. Но Сашка мало говорил, и для него Батя оставался Хриплым – таким, каким он его впервые услышал.
Подвал, в котором они расположились, был уставлен шкафами, перегородками. Какие-то шкафы были перевёрнуты и на них лежала куча тряпья, матрацы, подушки. Но главное, здесь было тепло.
Сашка прошёл поближе к трубе и, скрючившись, сел, отогревая руки.
Нинка сразу начала суетиться. Она порылась в сумках, достала из них всякую всячину – и замёршие кусочки из банок, и всякую другую всякость со шкурками и без.
– Петлович, – скосила взгляд беззубая Нинка в сторону третьего обитателя, – У тебя зе есть! Я видеда! Дотавай, не тылься!
Петрович хмыкнул, чего-то пробурчал и достал бутылку, наполовину заполненную прозрачной жидкостью. Нинка подолом протёрла посуду и пододвинула к накрытому столу ящик, указывая Сашке – сесть.
Сашка нерешительно подсел, достал из-за пазухи остаток булки хлеба – тот, что он не съел по дороге и припрятал на чёрный день. Но здесь, он почувствовал – надо поделиться.
Всё это время Хриплый сидел, как царь, в низеньком кресле и докуривал окурок. Там, на верху, он был в перчатках. А здесь снял только одну и Сашка увидел, что одна рука у него ненастоящая. Сашка положил обе половинки хлеба на стол, присел на ящик и Петрович протянул ему кружку с жидкостью. Сашка отхлебнул, горло обожгло, но тепло покатилось внутри за грудью, и у Сашки на лице появилась улыбка.
– Как тебя звать-то? – принимая из рук Петровича свою норму горячительного напитка, спросил Хриплый.
Сашка улыбнулся, пожал плечами, но заплетающимся языком проговорил:
– Са-ашка…
Так началась новая жизнь Сашки. Днём он вместе с новыми друзьями ходил к хлебному магазину или дежурил во дворе. Нинка собирала остатки еды из мусорного бака – рядом с домом, в подвале которого они разместились. Петрович днём уходил по своим делам и всегда возвращался с новым горячительным напитком. А однажды Нинка устроила праздник и подарила Сашке тёплое одеяло. Ничего, что одеяло было маленькое, но зато на нём были нарисованы самолётики. Сашка, как увидел эти самолётики – припал к ним щекой, разглядывал близко, водил по ним пальцем и, как ребёнок, радовался обновке.
Петрович как-то настороженно воспринял приход Сашки:
– У-у! Нахлебник! – ворчал он вечерами на Сашку, который приходил с пустыми руками.
А Нинка усаживалась около Сашки, гладила его по голове и причитала: – Не лугай его, он ма-аленький…, – и подкармливала то конфеткой, то печенюшкой.
Только Хриплый никак не реагировал на Сашкины неудачи. А однажды, когда Петрович допил свою норму и уснул, рассказал о его непростой судьбе.
– Ты на Петровича зуб не точи… Хотя ты добрый, Сашок, у тебя зуб – молочный ещё… Петрович у нас – человек! Он был когда-то ого-го! И звали его Игорь Петрович! Он мастер был по каратэ… А как пришли годы тяжёлые – его и скрутили. Посадили его ироды. Он из тюряги когда вернулся, а жена бывшая уже с другим схлестнулась. Ну, он и того… жену чуть было не порешил, а она его в психушку сдала. А когда он вышел – ни квартиры, ни жены – говорят, в другой город уехала. Вот он и стал промышлять – сначала на базаре жил, а потом его оттуда местные попёрли. А потом он в теплотрассе обжился и даже туда книжек натащил. Но как-то уснул и свечку не затушил, али цигарку – и пожар случился. Мы вот с Нинкой тогда его и вытащили из пожара. И вот мы вместе – семья.
Сашка слушал Хриплого и всё пытался вспомнить – а он-то сам откуда… Нет, не получалось! Только голос: – Сашка… Сашка…
Сжился он со своими приятелями, со своей семьёй. Петрович каждый вечер ругался, что Сашка ничего не добыл. Хриплый как-то принёс старый изодранный полушубок и отдал его Сашке. С тех пор Нинка стала брать Сашку с собой на баки, искать продукты.
Зима начала киснуть, стекая ручьями в котомку земли, и всё больше оголяя мусор на детских площадках и тротуары.
Где-то во дворе завыла собака. Петрович вздрогнул и проснулся:
– Развылась… Не к добру это. Вот у нас прошлой зимой Хилый помер. Помнишь, Нинка?
Нинка кивнула головой. Петрович стал искать – что бы ещё выпить. Он опрокидывал в кружку пустые бутылки горлышком вниз:
– Говорят, даже собаки плакали, когда его ели…
– Фу на тебя, фу на тебя… – замахала руками в воздухе Нинка, – Злой ты, Петловить! Вот я знаю, что дауно-дауно люди были птисами и умели летать… как самолёты… угу…
Сашка услышал слово «самолёт» и уставился на Нинку внимательным взглядом. А Нинка покивала головой и добавила:
– И вот када у них все пелья выпали, они пелестали летать… Да!
…Картонка всё ещё летала по двору. Ветер подбрасывал её и отпускал. А когда подбросил в очередной раз – Сашка поднял глаза в небо и увидел самолёт. Настоящий самолёт летел, рассекая голубые просторы, махал крыльями. Сашка впялился в небо, приложив ладошку к бровям, и долго смотрел вдаль, пока точка совсем не растворилась далеко-далеко. Ветер почти прекратился, и картонка лежала совсем рядом. Сашка поднял её, прижал к себе и поплёлся к дому.
У дома его встретила Нинка:
– Саска… помоги вытаскать сумки. Сёдни на улисэ занотюем. Там у них эти – санпидстанция, дихлофос сыплют.
Сашка помог Нинке вытащить баулы, спрятали всё это в кустах подальше от глаз людей, там же соорудили приспособление для стола. А тут уже и Петрович пришёл, и Хриплый. Когда совсем стемнело, Хриплый развёл костёр. Сашка лёг на своё одеяло с самолётиками, обнял картонку и уставился в звёздное небо.
– Мне сегодня подфартило, – начал хвастаться Петрович, он всегда любил прихвастнуть, когда выпьет, – Иду я, значит, ну там, по проспекту около речки, а около мене, прикинь, Батя, тачка крутая тормозит. Окошко-то открылось, а оттуда окликают меня… Игорь Петрович, говорят, это вы? Ну, я остановился. И узнать не могу… Да меня ж много кто знает! Ну, я и говорю ему, мол, ежли признал, одолжи, говорю, стольник. А он мне вот это протягивает.
Петрович достал из внутреннего кармана свёрнутый зелёный рулон.
– Сунул в руки, сказал «ос!» и уехал. Он думает, что Петровича можно вот так купить! Да я эти зелёные, – у Петровича задрожал голос и затряслись руки, – Я эти зелёные… – и он кинул рулон в костёр.
Нинка встрепенулась:
– Ты тё? Сдулел? Это з миллион! – и полезла руками в костёр.
– Не трожь! – заверещал Петрович неистовым голосом.
– От дулень! От дулень! – причитала Нинка, и утирала нос.
Посидели в тишине. Послушали хруст костра и далёкие чьи-то разговоры. Крик женщины:
– Лёшка! Домо-оой!
– Ща, мам, ещё немного поиграю!
– Домой, сказала!…
Потом Нинка как бы опомнилась:
– Саска! Тё ты не ес?
– Отстань, баба, от него, – взъерепенился Петрович, – он сёдни ничё не заработал. Я видел, как он дурака валял, за картонкой гонялся! И теперь, ишь, обнял её, лежит, в небе чего-то рассматривает… Поэт… Картонку-то надо бы сжечь, а то костёр потухнет…
Петрович потянулся к Сашке и потащил картонку на себя. Сашкина рука неестественно отпала в сторону. Петрович отпрянул:
– Никак помер?…
Нинка встрепенулась, упала на карачки и подползла к Сашке:
– Саска… Саска-аааа, – завыла она, – Помёл Саска-ааа…
Хриплый докурил окурок, поплевал на пальцы.
– Говорят, кто помрёт с открытыми глазами – тот с собой ещё кого-то уведёт… – глядя на смотрящего в небо Сашку, сказал Петрович, и отвернулся.
– Саска-ааа… – выла Нинка.
– А вот ежли кто с открытым ртом помрёт, значит, душа его вампиром будет, – продолжал рассуждать Петрович, и поднял глаза в небо…
Хриплый поднялся с места, подошёл к Сашке, наклонился. Теперь он был перед Сашкой вместо неба. Хриплый вздохнул глубоко:
– Да, не-е… дышит он… вон и моргнул дажа…
Одной рукой Сашка прижимал к себе картонку…, и виделись ему корабли, самолёты и летающая на ветру картонка.
Коза
– сепия
– Лен, чуть не забыл – вечером пойдём козу забирать, – уходя на работу, уже у порога сказал Семён.
– Какую ещё козу? – пролепетала удивлённая молодая жена, но дверь захлопнулась, и только слышно было, как во дворе залаял Бим, приветствуя хозяина.
Лена опустилась на табурет и медленно повела глазами против часовой стрелки от входной двери. Ведро помойное не вынес. Веник надо бы новый наломать. В умывальнике воду всю выхлюпал и не долил. Печку пора подбелить, закоптилась около дышла – хоть лето, а иногда подтапливаем, чтоб вода горячая была…
Ситцевая занавеска на дверном проёме в комнату слегка всколыхнулась – потягиваясь, из-за неё вышел кот, сел, выгнув басовым ключом спину, посмотрел на Лену, потом важно вытянул заднюю ногу и начал вылизывать шерсть…
«Господи, о такой ли я жизни мечтала…» – подумала Лена.
Она достала глубокую металлическую чашку, налила в неё горячей воды, намылила тряпку хозяйственным мылом и принялась за мытьё посуды.
В памяти всплыл день, когда Семён первый раз проводил Лену домой из школы. Лена жила в пятаках – так назывался микрорайон многоэтажек.
Молодой городок разрастался медленно – в год сдавали один многоэтажный дом. Переехавшие в пятаки горожане, оценив прелести комфорта, чувствовали себя свободными счастливыми гражданами заботливого советского государства. Но большая часть маленького городка продолжала вести натуральное хозяйство и не стремилась к неведомому. /
– Ой, чё там делать-то, в этой клетке, – судачили в очереди гастронома обитательницы своих домов.
– Ни воздухом не подышать, ни ягодку в огороде сорвать, ни бельё развесить…
– Ой, бабы, мы как-то пришли в гости в пятак к Антоновым, а моему приспичило в тувалет, и он мне как начал трындеть – пойдём, да пойдём домой. Я ему: – Чё, мол, такое, только что ж пришли. А он говорит – невмоготу, мол, по большой нужде…
– И чё? – прыснули слушающие.
– Чё-чё! Вот и я ему говорю – иди да сходи, вон же у их тувалет с бочком сливным. А он мне, слышь, чё говорит: – А ежли мне пёрнуть захочется, это что ж все слышать будут?
Бабы в голос заржали. Лена, стоя в очереди, сторонилась вступать в разговоры. Делала вид, что рассматривает что-нибудь, например плакат по разделке туши говядины, который изучила уже вдоль и поперёк. Зачем ей было знать – что такое окорок или грудинка, если мясо в гастрономе продавалось морожеными кусками, и не известно было – кости тебе попадутся или мякоть. Да и мясо-то покупали только те, кто не держали свой скот и курей. В основном – заезжие из пятаков. А остальные выстраивались в очередь за дефицитом – селёдкой тихоокеанской, колбасой, или шоколадными пряниками.
Очередь была еженедельным ритуалом. К четвергу начиналось лёгкое шевеление среди самостроевцев – так называли тех, кто жил в собственных домах. Занимали очередь с ночи. В потёмках около магазина обязательно стояли двое крайних и дожидались следующего. Утром в очереди собиралась вся самостройка. Те, кому надо было на работу – присылали либо своих детей, либо, пенсионеров, или умоляли очередь – не забыть, что тут занимала, скажем, Клавдия, а сами бежали на работу и примерно высчитывали время – в котором часу отпроситься.
Здесь же, в очереди, можно было обсудить последние новости, намыть косточки ненавистникам, поругать начальство, собес и прочих властителей.
Отец Лены был военным и по назначению попал в этот небольшой городок, в нескольких километрах от которого располагалась артиллерийская часть. Мама Лены – как хвостик – всю жизнь ездила за мужем по гарнизонам, и её не удивлял уже ни климат, ни новые условия жизни. Она любила повторять:
– Главное не то, где ты живёшь, главное – как ты живёшь.
Она умела обустроить семейное гнёздышко, сделать его уютным – благо позволяла зарплата военного офицера.
Когда семья перебралась на новое место, Лена пошла в десятый класс. Она никогда не отличалась ни чем выдающимся – просто была хорошисткой, просто читала приключенческие книжки, просто жила. Нет, она конечно мечтала об алых парусах, о необычном приключении на необитаемом острове и представляла себя чайкой Ливингстон, а ещё она любила смотреть индийские фильмы и навзрыд плакала, когда сын неожиданно узнавал своего отца или брата…
Перед выпускным Семён объяснился Лене в любви и сказал, что любить её будет до гроба. Лена разрыдалась и прошептала:
– А звезду мне с неба достанешь?
Семён прижал Лену к себе и, прощупывая под кофточкой застёжку на бюстгальтере, сказал:
– Конечно, достану…
Свадьбу сыграли шумно, по-самостроевски. Лена была красивой невестой. Отец по-военному чётко оттарабанил подготовленную речь. Мама улыбалась, вытирая слёзы и повторяя:
– Главное не то, где ты живёшь, главное – как…
Родители Семёна – закоренелые жители самостроя, подарили молодым небольшой домик. А главное – у домика было всё для ведения хозяйства: шесть соток земли, хозяйственная сарайка, загон для коровы, птичник, летняя кухня с русской печкой и банька.
Наутро после свадьбы молодые пошли смотреть домик. Высокий забор скрывал уютный зацементированный двор. К небольшой веранде вели три деревянных, покрашенных оранжевой краской, широких ступени. С верандочки было видно всё хозяйство – вдоль и поперёк.
Семён открыл входную дверь, провёл рукой по дверным петлям, несколько раз поездил дверью туда-сюда и заключил:
– Хорошо-то как! – и шмыгнул внутрь дома.
Лена, как вкопанная, остановилась среди зацементированного двора.
– Чего стала, как не своя? – вспенил тишину голос свекрови, – Проходь, проходь! Глянь, какая летняя кухонка! На порог половичку кинь из резины, а у нутре – самотканку. Ой, а здеся-то – аюшки…
Она чего-то говорила-говорила. Лена присела на скамеечку и посмотрела на небо:
– Как же мне это всё обживать?
Свекровь уже вышла из летней кухни, ссыпая набранный в совок мусор в бросовое корыто:
– Чё расселась-то? Давай, иди, направляй на стол, начинай хозяйничать…
Прошло два года. Дитё завести не получалось. Уже два раза были выкидыши. Лена, и до свадьбы, щупленькая, стала ещё тоще. Свекровь уже в открытую сетовала на невестку:
– От, беда-то, ни мяса, ни кожи, чахоточная какая-то досталась нашему Сёмке…
Вечером Семён пришёл домой:
– Лен, ты где? – крикнул молодой муж с порога.
Лена, свернувшись клубочком на диване, спала.
– Ленка! Чего ты не собралась ещё? Ну, я ж говорил, как приду, за козой пойдём!
– Сёма, зачем нам коза?
– Мне сказали, что козье молоко очень полезное. Будешь пить, и здоровье появится.
– Сёма, я ж с ней не умею…
– Все когда-то не умеют, а потом научаются…
– Сём! Не научусь я… не по мне это…
– Дура ты, Ленка! Все бабы одинаковые! Все умеют, а она не научится! Посмотрика-сь!
Лена отвернулась к стене и закрыла лицо руками.
Семён прошёл в комнату, сдёрнул покрывало с Лены:
– А, ну, вставай! Разлеглась! Пошли, тебе сказал!
Лена повернулась, села, посмотрела Семёну в глаза и покачала отрицательно головой.
– Ты чё, со мной в игры решила играть? А, ну, вставай, я тебе сказал! Не зли меня!
Лена подтянула ноги и прижалась к стене.
– Я не понял?! Ты, чё, схлопотать решила?
Семён выставил вперед подбородок и замахнулся ладонью. Лена закрыла глаза.
– Неужели ударит?! Как же так, – думала она, закрыв глаза— он меня не понимает…
– Быстро встала, оделась и пошла! – приказным тоном выговорил Семён.
Лена закрыла лицо руками, слёзы хлынули.
– Чё выпендриваешься, коза драная! Думаешь, на тебе свет сошёлся! Ты чё не понимаешь, что на хрен мне такая баба сдалась, которая ни в жизни, ни в постели ни чё не умеет…
– Сёма, ты же говорил, что любишь?!
– Ой-ой-ой, придумала! Любишь-не любишь, плюнешь-поцелуешь! Да нужна-то ты мне больно! Неплодивая!
Лена соскочила с дивана и хотела выбежать из дома, но Семён сильной рукой ухватил Лену за ткань халата на спине, притянул к себе, а другой рукой ударил между лопаток. Лену отшвырнуло на пол, и головой она ударилась о косяк двери.
Взбешенный Семён начал бить Лену ногами – по животу, по ляжкам. И, когда она обмякла на полу, он, тяжело выдувая воздух из ноздрей, немного постоял с сжатыми кулаками, вышел в кухню, зачерпнул ковшиком воду из ведра, выпил большими глотками и вышел за дверь.
Когда Лена пришла в себя, уже смеркалось. Всё тело болело. С дивана слышался храп мужа. Лена с трудом поднялась, доковыляла до двери, вышла во двор. К перилам веранды была привязана коза. Около козы стоял таз с водой и лежала охапка сена.
Лена спустилась на одну ступеньку, потом еще на одну и присела на нижней. Коза замерла, разглядывая Лену одним глазом и перестав жевать. Лена посмотрела на звёзды. Съёжилась от ночной прохлады. Тело как-то само закачалось в стороны, и из глубины живота потянулся долгий-долгий стон. Лена уронила голову на колени:
– Как же так?! Как же так…
Коза подошла ближе к Лене, обнюхала волосы и стала тыкаться мокрыми губами в руку. Лена подняла голову. Коза посмотрела на Лену в упор, скосила нижнюю губу и шершавым языком лизнула щёку.
Конфетки
– киноварь
Одни считали Валентину слишком доброй, другие крутили пальцем у виска. А Валька с каждой пенсии покупала конфетки-карамельки, пряники, и раздавала детишкам во дворе. Дотемна сидела она на лавочке у подъезда и, завидев ещё вдалеке какого мальчонку или девчонку, чуть не бежала навстречу ему, и рассовывала сладости по карманам.
Детишки любили эти дни. Они уже знали – когда выдают пенсию, и старались не пропустить щедрых угощений, или, как говорили более старшие – «халявы».
Халява длилась дня два-три. Потом наступало затишье до следующей пенсии.
– Ты бы, Валентина, не тратилась на ерунду-то, – наставляла её соседка Нина, – Ведь живёшь-то с хлеба на воду, да и вон сколько сейчас за квартиру надо платить, а у тебя и в зиме-то курточка на рыбьем меху…
– Ниночка, да ты не переживай, – оправдывалась слабеньким голосом Валька и тоненько смеялась, как будто голос её колыхался паутинкой на ветру, – Мне одной-то много ли надо?! Да и дочка моя с мужем вечно, как приедут в гости – понавезут всего, что девать некуда…
– Ой-й! Чё такое говоришь?! Давно они у тебя были?! – цокала и отворачивалась соседка, пряча сердобольные слёзы.
– Да давеча вон, в прошлом месяце приезжали мои золотинушки…
Соседка вздыхала, качала головой, глядя на Валентину, как на полоумную, да и спешила по делам.
А как приезжала дочка Вальки, соседка весь свой трепет, как есть, выкладывала ей – Рите.
– Нина Алексеевна, а вы ничего такого за мамой не замечали? – выдержав паузу, но как бы невзначай, спрашивала Рита.
– Ты о чём, Риточка? – заглядывала в лицо соседка, стараясь разглядеть в глазах вопроса дополнительные смыслы.
– Да я так… А у вас такие цветочки симпатичные!…это как их – крокусы? – переводила разговор на другую тему Рита.
– А ты надолго, али погостить на часок-другой? – спрашивала Нина, направляя на стол варенье к чаю.
– До вечера побуду. Завтра же на работу. Ладно уже, побегу я… Я ж маме сказала, что на минутку к вам, а сама…
– Да я ж чай нагрела, стакан-то хоть выпей…
– Не-е, тёть Нин, побегу. Спасибо вам. Вы, если что – звоните мне…
Рита совала под сахарницу денежку, и опускала глаза.
– Ой, да ну что ты, Риточка, мы ж как родные… – произносила второпях Нина и направлялась первой в прихожую, поворачивая ключ в двери, – А по вечеру, так может ко мне вместе с маменькой-то приходите, я пирожков настряпаю.
Рита для приличия кивала головой и исчезала за дверью.
А дома мать хлопотала у плиты и, рассовывая продукты и вещи по полочкам и шкафам, приговаривала:
– Вот зачем столько всего навезла? Куда я это всё дену… А чего Серёжа не приехал?
Это она спрашивала больше для порядку. Зять не любил навещать тёщу. С Ритой жили они уже десять лет. Серёжа оказался прирождённым бизнесменом. А ещё повезло ему, как говорила Рита. Его отец при Союзе был комсомольским шишкой. А как всё развалилось – вовремя подсуетился, и при перестройке сумел-таки хороший куш у себя оставить. С этого и достаток пошёл. И это же стало подпорой для образования сына. А после женитьбы они с Ритой благоустроили своё гнёздышко, по заграницам много ездили. Рита тогда всё говорила: – Не переживай, мам, вот накопим много денег, тогда и о ребёночке подумаем.
Не нравилась такая политика Валентине, но встревать в дела молодых она не смела. Глядела на взрослую дочку, и внутри еле стон сдерживала. Благоговейный такой стон, жалобливый, который она испускала ночами в подушку. А в дни пенсии торопилась накупить сладостей побольше, да раздать всем детям в округе, как будто вину свою за дочкино детство заглаживая. И всё чаще вспоминала, как в восьмидесятых…
Риточке было около пяти лет. Валентина «по собственному» ушла с завода. Не платили совсем. Рабочие места сокращались, жильё обесценилось. Люди бросали квартиры и уезжали – кто куда мог, по средствам: кто на историческую родину, а кто в область. У Валентины выбор был небольшой – либо под сокращение, либо по собственному. Да и перспектива отъезда— только в ближайший город. Квартиру пробовала продать – не получилось. А совсем за бесценок – так её итак займут. Собрала нехитрые пожитки, и с маленькой Ритой уехала в областной центр. Только там и было – к кому. Старые родственники встретили хорошо. В первый же вечер закатили вечеринку по поводу встречи. Пётр – сродный брат – с открытой душой приветил сестру. Аньке – жене своей представил Валентину, как полагается – с хвалебными речами, вспоминая, как в детстве он её на каникулах от всех защищал. На кухне усадил Валентину на табурет, одним махом сдвинул с края стола грязную посуду и продолжил:
– А чё! Правильно, что свалила из этой своей дыры! Здесь мы – городские, не то, что там у вас…
– Ты б за хлебом-то сбегал, – встряла в разговор обесцвеченная Анька, поставив руки в боки.
– Цыц, белая! – прикрикнул подвыпивший Пётр, – Ты, эт… Валька, располагайся. У нас всё-таки не хоромы, но три комнаты аж… А чё?! Вместо того, чтоб квартирантов пускать – лучше ж своих… Свои-то не облапошат! Анька, а ты гостям поллитру ставь! Дорогим гостям ни чё не жалко!
Анька шмыгнула носом и громко крикнула – куда-то вглубь квартиры:
– Ирка! Слышь, чё папаня умудрил? У нас теперь в твоей комнате квартиранты поселются!
– А ты вот Ирку в магазин и пошли! А то ишь, выросла лоботряска, сама нахлебница, а уже пузо на нос лезет.
– Мы ненадолго, только переночевать… – лепетала Валентина.
– Я сказал – так и будет, – ударил кулаком по столу Пётр.
Рита с испугу вжалась в мать.
К утру гулянка немного поутихла. Набежали какие-то друзья, дальние родственники… И всем Пётр радостно объявлял, что сестра приехала и за это надо выпить.
– А помнишь, как я тебя Валька-палька звал?! – наливал очередную стопку Пётр, обнимал Валентину за плечи и растягивал узкие губы в худосочной улыбке, оголяя два золотых зуба…
А на следующий день нашёлся ещё повод, потом ещё, и ещё…
Потыкалась-помыкалась Валентина в поисках квартиры. Да не тут-то было. Какой-то замкнутый круг: чтобы платить за квартиру— нужна работа, а чтобы найти работу, надо где-то жить, а ещё лучше иметь прописку. Попробовала в дворничихи – одно место нашлось, но временно, пока основная работница была на бюллетене.
И однажды увидела на подъезде объявление, что опрятная домохозяйка нужна. И приписка пониже – «без детей». Валентина работы не боялась, и готовить любила. Скрыть решила, что у неё дочка. Договорилась-то у знакомой дворничихи оставлять, а уж, коли некуда, так к Петру и его Аньке. Рита слезьми заливалась – как идти туда не хотела. Но выхода не было.
Перекрестилась Валентина, и соврала, что нет детей у неё. Хозяева взяли Валентину на испытательный срок. Огласили список работ и попросили приготовить на пробу её кулинарных способностей борщ. Экзаменовку Валентина выдержала с отличием.
«А чего ж не приготовить-то было…», – думала она, – «из таких-то свежих продуктов…».
А вскоре оказалось, что хозяева раз в месяц на неделю уезжают за границу за шмотками, а у них собака – овчарка Рик, которую выгуливать требуется. Потому и жить целую неделю надо в квартире. Валентина нарадоваться не могла – и деньги появились, и хоть ненадолго, а пожить они могут с Риточкой, как люди. Валентина всё подыскивала съёмную квартиру подешевле. Но куда там: цены так скакали, что в голове уже бродили очень опасные мысли – зачем же жизнь-то такая нужна…
Так, с горем пополам, год прошёл. Риту нужно было в первый класс определять. Валентина получила расчёт за июль. А тут хозяева квартиры привезли из-за границы новый товар, а там и формы школьные, и колготы для девочек, и банты белые-белые капроновые и в сеточку.
Ольга, хозяйка квартиры, заметила, как Валентина не может отвести взгляда от вещей.
– Валь, а ты помоги мне рассортировать одежду по размерам…
Валентина охотно согласилась, и в какой-то момент не сдержала подкативший ком к горлу и разрыдалась.
– Чего ж вы, Валюш? Чего так расстроились? Да, у всё у вас будет хорошо. Или мы чем обидели?
Валентина мотала головой, и навзрыд еле вытащила из себя застрявшее: – Дочка у меня …Риточка…
Ольга присела рядом:
– А чего молчала? Где она? Сколько ей лет?
– Шесть… В школу пора, – и ещё пуще разрыдалась Валентина, – Дак, вы ж писали, чтоб без детей…
– Валя… Вы и так для нас всё с душой делаете… Я уже вас как за родную считаю… Чего молчала? Успокойся…
Ольга приобняла Валентину.
– Мы вечером с Павлом обсудим всё… Ну, перестаньте… У нас-то своих детей не может быть – проблемы у меня… Паша потому, ну, так сказать, травмировать не хочет…
Валентина стала успокаиваться.
– Ой, простите меня… Чего я со своими тяготами…