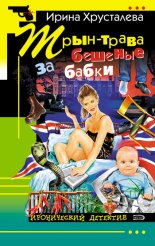Ошибка Коперника. Загадка жизни во Вселенной Шарф Калеб
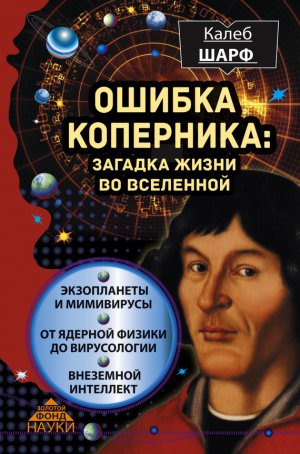
Слева – Солнечная система в сегодняшнем виде, орбиты Меркурия, Венеры, Земли и Марса. Справа – то, что произойдет примерно через 3,3 млрд лет с вероятностью 1%. Орбита Меркурия исказится настолько, что он столкнется с Венерой (Траектория 1). Орбита Марса может пересечься с орбитой Земли (Траектория 2). Дестабилизация может привести к столкновению Земли с Венерой (Траектория 3).
Во всех этих случаях будущее орбиты Земли тоже окажется затронуто, ее орбита примет новую конфигурацию – и это, скорее всего, приведет к полной катастрофе. Подобные эксперименты наряду с основными результатами, которые получили Ласкар и его сотрудники, выявили, что нас ждет целый ряд крайне непривлекательных вариантов развития событий. Через несколько миллиардов лет планеты, которые раньше были от нас далеко, например, Венера и Марс, окажутся вершителями нашей судьбы – столкнутся с Землей, и это приведет к гибели нашего мира, каким мы его знаем.
Однако насколько вероятен подобный исход? Главная проблема, само собой, заключается в предсказуемости, однако мы, несомненно, в состоянии оценить, сколько траекторий будущего из великого множества сценариев способны привести к таким катастрофическим финалам. Шансы на то, чтобы орбита Меркурия обрела еще более вытянутую эллиптическую форму и стала уязвимее, чем ее нынешняя конфигурация, колеблются от 1 до 2% в ближайшие несколько миллиардов лет. На первый взгляд это совсем мало и не страшно – да и наш биологический вид, само собой, к тому времени давно вымрет и не станет свидетелем подобной катастрофы, – однако эти ничтожные шансы несут в себе гигантский заряд: они в корне меняют наши представления о небесной механике. И в самом деле, какая тут механика? Скорее суровая и неприглядная математическая вероятность, что наша Солнечная система – и орбиты наших планет во всем их якобы незыблемом великолепии – проживут не больший срок, чем тот, что уже миновал с тех пор,как сформировалось Солнце. Как-то это неуютно.
Думается, в свете этих фактов было бы честно упомянуть и о том, что идея о заводной природе небес считается в наши дни одним из величайших заблуждений в истории науки, которое объяснялось исключительно ограниченностью наших представлений, а также способом, которым мы по стечению обстоятельств предпочитали строить модели мироздания. И в самом деле, даже самые простые системы – вроде звезды с одной-единственной планетой – нельзя считать по-настоящему незыблемыми. Звезда ведь не материальная точка, как обычно предполагают модели, основанные на законах Ньютона. Это огромный динамичный объект, не обязательно идеально сферический и даже не всегда с постоянной массой.
Звезда с течением времени лишается части своего вещества, поскольку испускает в пространство фотоны и массивные частицы, а приливная тяга планеты пусть и совсем слабо, но все же теребит и искажает ее внешнюю газовую оболочку. Да и сама планета тоже не материальная точка, и форма ее хоть и близка к сферической, но тоже редко бывает идеальной. Как и любой крупный каменистый или газовый объект, планета устроена наподобие колоссальной луковицы – состоит из слоев разной плотности и вязкости.
Как я уже писал, планета может источать в космическое пространство существенные объемы своей атмосферы – и тоже испытывает приливное притяжение гравитационного поля звезды. Все эти силы месят ее, словно тесто, и возникающее при этом слабое трение медленно источает энергию, которая излучается в космос, и планета ее больше не получит. В конечном итоге этот отток энергии замедляет вращение планеты и искажает ее орбиту. Со временем меняется даже ориентация оси вращения планеты. В целом, хотим мы этого или нет, даже «простая» система из звезды с одной планетой будет меняться.
Еще один классический пример системы из двух тел – это наша система из Земли и Луны. Даже если мы волшебным образом изолируем эти тела от воздействия гравитации Солнца, то обнаружим, что на самом деле стабильности добиться не удалось. Когда Луна формировалась – мы считаем, что это был результат катастрофического столкновения в столпотворении, царившем в зачаточной Солнечной системе, – она очутилась на орбите вокруг быстро вращавшейся Земли. Сегодня Земля делает оборот вокруг своей оси за двадцать четыре часа, что, конечно, гораздо быстрее, чем орбитальный период Луны в двадцать семь дней, но так будет не всегда.
Гравитация Луны вызывает приливы, которые вздымают не только наши океаны, но и сушу – получаются огромные низкие выпуклости. Однако за время, когда эти выпуклости тянутся к Луне, наша неугомонная планета продолжает вращаться и тащит их за собой, опережая Луну над нами. В результате на Луну оказывается неравномерное гравитационное воздействие. Убегающая выпуклость не столько притягивает Луну к Земле, сколько тащит за собой. В итоге Луну выталкивает на более высокую орбиту, однако одновременно ее тяга замедляет вращение Земли. По скромным человеческим масштабам воздействие это ничтожно мало, однако его все же можно измерить, и такой эксперимент удалось проделать.
Когда астронавты с «Аполлона» высаживались на Луну в конце шестидесятых – начале семидесятых годов прошлого века, они оставили там, помимо всего прочего, зеркала особой формы. Подобные же зеркала оставили на Луне и советские космические аппараты. Зеркала были наклонены к Земле и применялись для того, чтобы отражать пущенные на Луну лазерные лучи, и таким образом расстояние до нее было измерено с очень высокой точностью. Это очень хитроумный способ. Учитывая дистанцию и рассеяние света в атмосфере и при отражении от зеркал на Луне, возвращался обратно и был зарегистрирован нашими приборами лишь один из ста тысяч триллионов фотонов.
Тем не менее точный цвет и время возвращения лазерных импульсов позволили нашим электронным инструментам уловить этот слабенький обратный сигнал и засечь время его прибытия. К тому же мы точно знаем скорость света и знаем, как обращаться со сторонними воздействиями – колебаниями лунной орбиты и эффектами относительности, о которых предупреждал Эйнштейн. В результате мы можем конвертировать общее время, которое свет (фотоны) проводит в пути туда и обратно – приблизительно 2,5 секунды – в расстояние. И тогда мы обнаружим, что с каждым годом Луна удаляется от нас примерно на 4 сантиметра – на 0,0000000008% своего нынешнего расстояния от нас, – а земной день становится длиннее на 0,0000015 секунды.
Все это очень маленькие величины, однако очевидно, что система не незыблема. Фигуры ее орбитального танца отнюдь не неизменны. И в самом деле, палеонтологические данные о том, как раньше проходили береговые линии и как под воздействием приливов распределялись минералы и ископаемые останки, доказывают, что в прошлом наша планета вращалась иначе. Судя по всему, 600 миллионов лет назад земные сутки длились всего 21 час[126] – с тех пор, как волны бились о те далекие берега, наше вращение замедлилось на целых три часа.
Так что во многих отношениях совершенство законов Ньютона, описывающих движение планет, – следствие весьма значительных приближений и погрешностей. Даже великолепные обобщения этих законов, которые сделал Эйнштейн, не учитывают всех досадных мелочей. Вселенной по-прежнему правит математика, однако прогнозы редко делают непосредственно, поскольку всегда накапливаются эффекты, которые мы поначалу рискуем упустить из виду, – эффекты n тел, способные привести планеты к катастрофе или реорганизовать систему в целом.
Все эти открытия возвращают нас к основному вопросу в поисках нашего вселенского значения, поскольку характеристики орбиты – это очередной показатель, по которому можно сравнивать Солнечную систему с прочими звездными системами. И в самом деле, тот факт, что стабильность планетных путей – лишь иллюзия, позволяет нам встать на новую точку зрения, как было с Кеплером, когда он понял, что орбиты планет имеют форму эллипса, и таким образом открыл путь для колоссального разнообразия конфигураций планетных систем.
Это означает, что у любой планетной системы появляется еще одна жизненно важная черта, еще одна особенность, о которой следует знать. За мгновенным срезом конфигурации орбит, который мы наблюдаем, стоит вопрос, как поведут себя эти орбиты в будущем и что они делали в прошлом. Иными словами, по мгновенному срезу понять устройство планетной системы невозможно. Это живое существо, которое развивается, меняется – и потенциально стремится к хаосу.
Если бы все эти факты сообщили Копернику, он, вероятно, отказался бы от попыток рассчитать небесную механику. Ведь если даже такой колоссальный переворот – смещение Земли из центра мироздания – не позволил описать небесные реалии во всей их полноте, как можем мы рассчитывать на понимание природы вещей?
Однако, к счастью для нас, эта дополнительная характеристика открывает и дополнительные возможности, поскольку позволяет нам сравнивать нашу Солнечную систему с прочими по существенному параметру.
В предыдущей главе я познакомил вас с лигой выдающихся планет и указал на то, как они многочисленны и как разнообразны их свойства, в том числе и практически бесконечное число комбинаций и искажений их орбит. Кроме того, я намекнул на причину некоторых подобных комбинаций – на бурное прошлое, полное перемен и отклонений. А теперь мы практически замкнули цикл. Обнаружив, что наша Солнечная система существует на грани хаоса, мы снарядились в обратный путь и теперь можем вернуться к экзопланетам и спросить, как они дошли до жизни такой.
Ответ подскажет нам еще кое-что о нашем положении среди всего этого планетного хаоса.
Чтобы изучить сложную классификацию экзопланет, нам придется вспомнить о науке моделирования, о компьютерных расчетах гравитационного взаимодействия в системах из нескольких тел. Признаться, я просто обожаю всякие технические новинки, особенно если они дают уверенные ответы на наболевшие вопросы. Когда сталкиваешься с бытовой проблемой, мало что так утешает, как знание того, какой инструмент досать из кладовки, где он хранится на своем законном месте, поскольку ты предусмотрел, что он может понадобиться. Подобные моменты – причина отметить торжество чашечкой чая и философски похрустеть печеньицем, и не подозревая, что то, что ты не увидел и о чем не подумал, тем временем окончательно разладилось.
Некоторые научные инструменты доставляют такое же удовольствие, даже если они не панацея. Компьютерные системы и программы, подражающие гравитационной динамике, занимают, думается мне, почетное место в этом арсенале. История разработки этих замечательных симуляторов и машин по переработке чисел сама по себе увлекательна, но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз, поскольку сегодня мне хочется поговорить о том, как они приводят к совершенно новому представлению об устройстве всех планетных систем, а не только нашей.
Когда я в первый раз играл с одним из таких затейливых компьютерных кодов[127], который некий талантливый специалист по динамике разместил в открытом доступе, то прямо-таки не мог дождаться следующего утра, когда можно будет посмотреть, что достигнуто за ночь. Мне не терпелось посмотреть, до чего дошли мои воображаемые миры и какие орбитальные фокусы они выкинули за множество виртуальных циклов.
Было страшно интересно прослеживать историю каждой планеты, движение которой за миллионы лет под воздействием гравитации описывалось у меня на экране простыми узорами и линиями. Было в этом что-то порочное, пожалуй, привкус мании величия – ведь я безгранично властвовал над целыми Солнечными системами, повелевал жизнью и смертью планет, созданных моими же руками, играл с ними, словно с песчинкой в капле воды под микроскопом.
Так или иначе, подобные занятия очень притягательны, и вокруг тех, кто посвящает себя задаче укротить бесконечно переменные картины гравитационных взаимодействий, сложилась особая научная культура, очень яркая и оригинальная[128]. Моделирование бесконечного множества реальных и воображаемых планетных систем позволяет ученым исследовать гипотезы, которые без подобных инструментов едва ли удалось бы рассмотреть. А главное – в последние десять лет целый ряд исследователей занимался при помощи моделирования исследованием поведения молодых планетных систем.
Как я уже говорил, мы считаем, что основной механизм формирования планет – срастание или коагуляция вещества из огромных дисков пыли и газа, окружающих новорожденные звезды. Однако живут эти диски относительно мало, примерно как последние вихри пузырьков, когда выпускаешь мыльную воду из ванны, только приканчивает их не тяга из трубы, а мощная энергия излучения звезды. Когда в толще таких дисков образуются планеты, они более или менее застревают на своих орбитах из-за массы окружающего газа и пыли, но когда все это вещество выкипает, планеты ощущают исключительно гравитационное воздействие друг друга и получают возможность нащупать будущую орбиту.
И вот многие ученые поняли, что в такой ситуации планетные системы могут переживать период юношеского хаоса[129] или нестабильности – такой сильной, что она приводит к полной перестановке орбит и даже к разрушению или изгнанию из системы целых планет. Это подобно доисторической экстремальной версии хаоса, в который, вероятно, мало-помалу впадет в будущем наша Солнечная система.
Может показаться, что все это фантазии, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, но чем больше мы строим компьютерных моделей для изучения всего колоссального диапазона возможных результатов неустойчивости в планетных системах, тем заметнее поразительная закономерность. Молодые нестабильные планетные системы в конечном итоге становятся экзопланетными системами тех же разновидностей, какие мы наблюдаем в реальной Вселенной – с надежными эллиптическими орбитами и «горячими юпитерами». Кроме того, именно они вышвыривают планеты в межзвездное пространство, где мы и в реальности замечаем характерные признаки их воздействия.
Компьютерное моделирование подобных процессов – это просто-таки волшебство. Берешь тысячу правдоподобно выдуманных систем, загружаешь в компьютер, словно в шляпу фокусника, даешь их орбитам спокойно развиваться в течение времени, эквивалентного миллиону или ста миллионам лет, а потом смотришь, какие получились конфигурации у оставшихся систем. Этот остаток статистически прекрасно соответствует качествам сотен и даже тысяч уже открытых настоящих экзопланетных систем.
Можно взглянуть на это и с другой точки зрения. Представьте себе, что юная нестабильная планетная система «горячая», словно чашка чаю или кофе. А все горячее впоследствии остывает. В чашке жидкости охлаждение происходит, когда самые горячие, самые быстрые молекулы испаряются, а тепловая энергия излучается в виде инфракрасного света. В нестабильной планетной системе «охлаждение» случается, когда некоторые планеты вылетают в межзвездное пространство, падают на центральную звезду или сталкиваются друг с другом. Тогда «горячая» система, где много планет, превращается в «холодную», где планет уже меньше, и нестабильная толкучка юности успокаивается и превращается в простор и солидность среднего возраста.
Насколько часто такое происходит на самом деле в нашей Галактике? Сколько систем были в юности динамически горячими? Современные исследования единодушно показывают, что ранний эпизод сильной нестабильности переживают примерно 75% планетных систем, то есть подавляющее большинство. Подобный уровень беспорядка режет глаз, однако, судя по всему, в реальности все так и есть. Ведь мало того что Галактика и вся Вселенная полны планет, которые вращаются вокруг звезд, – многие из этих планет находятся в системах, конфигурация которых с момента их рождения сильно изменилась. Это наталкивает меня на мысль о том, как виделась множественность миров древнегреческим атомистам. Только теперь эти старые идеи пришлось видоизменить, чтобы в них вошла и динамическая эволюция во всем ее разнообразии, от горячего до холодного. У каждой планетной системы своя неповторимая история о том, как планеты терялись или уничтожались, перемежаемая периодами относительного покоя. Однако в нелинейном царстве орбитальной механики, непредсказуемом, будто огромный пес, в которого тычут палкой, ничего нельзя гарантировать, и сегодняшний покой вполне может привести к хаосу в будущем.
Расскажу о самом, пожалуй, потрясающем и неожиданном открытии в науке о планетах за последние двадцать лет. Когда ученые обнаружили, что эпизоды «горячей» нестабильности переживали очень многие системы, никто особенно не удивился, а вот когда оказалось, что такое бывало более чем с двумя третями систем, это привело к подлинному сдвигу в представлениях о характеристиках планет. Отчасти подобное поведение – прямое следствие изобилия планет, которое мы наблюдаем повсюду: их многочисленность предполагает, что они очень легко и хорошо формируются. Чем больше юных планет толпится вокруг новорожденной звезды, тем скорее система впадет в хаос из-за сложнейших гравитационных взаимодействий между планетами-соседками.
Эта картина снова заставляет нас вспомнить о наших личных обстоятельствах. Мы обнаружили, что Солнечная система подернута патиной хаоса. Однако по сравнению со многими другими системами она относительно «холодна». Орбиты всех основных планет в наши дни лишь слегка эллиптичны, порядок планет достаточно строг: мелкие каменистые планеты ближе к центру системы, великаны – снаружи.
Из всего этого не следует, что в юные годы наша система не пережила никаких катаклизмов. Главенствующая теория[130], разработанная многими учеными, пытается объяснить нынешнюю конфигурацию гигантских планет и распределение мелких небесных тел в поясе астероидов и в далеком поясе Койпера крупными изменениями размеров орбит Урана и Нептуна. Согласно этой теории Уран и Нептун – представьте себе – поменялись местами, когда обе планеты перемещались в сторону внешней границы тогда еще очень тесной системы. Когда произошла эта перестановка, Уран очутился на своей ынешней орбите, а Нептун пересек его дорогу, выдвинулся наружу и стал самой далекой от Солнца планетой.
При этом маневре орбита Сатурна сдвинулась немного наружу по сравнению со своим нынешним положением, а массивный Юпитер – немного внутрь. Как и в любой механической системе, в планетной системе нельзя перемещать тела без взаимодействия сил, без своего рода рычагов. В данном случае роль рычага могло выполнить перераспределение тел значительно меньших размеров – десятков тысяч ледяных глыб и каменных астероидов, каждый из которых мог внести свой вклад в тягу и толчки при гравитационном взаимодействии с более крупными планетами.
Эти орбитальные перестановки, вероятно, имели место примерно 4 миллиарда лет назад, спустя всего несколько сотен миллионов лет после, того, как рассеялся диск из протопланетного газа и пыли. Последние движения при перестановке, возможно, помогли очистить систему от мелких кусков вещества, оставшегося после формирования основных планет. Но если так и было, получается, что на шкале динамической активности мы находимся достаточно низко, и наша Солнечная система подобна скорее воде комнатной температуры, нежели обжигающему кипятку.
Есть и другая гипотеза о том, каковы были первые этапы истории Солнечной системы; ее выдвинул специалист по динамике планет Дэвид Несворны[131], и в некотором смысле из нее следует, что наша система была более активной – а значит, и менее необычной, менее значительной. Согласно этой картине юная Солнечная система обладала не четырьмя, а пятью гигантскими планетами. Пятая планета была, возможно, ледяным гигантом и по массе, вероятно, занимала промежуточное место между Нептуном и Ураном, а ее орбита пролегала где-то за Сатурном. Формирование подобного небесного тела из смеси газа и пыли вокруг юного Солнца вполне возможно, и это добавляет перцу в историю орбит Солнечной системы. Симуляции Несворны, при помощи которых он рассчитывал дальнейшую эволюцию системы, как правило, приводят к тому, что пятого великана ловким гравитационным приемом вытолкнул в межзвездное пространство Юпитер. Причем в итоге подобного моделирования возникает конфигурация крупных планет, которая статистически вполне соответствует нашей нынешней. Иначе говоря (и, возможно, это противоречит интуиции), присутствие лишней планеты для нашей системы, как говорится, то, что доктор прописал. Если в нашей системе была пятая гигантская планета, а теперь ее нет, это повышает вероятность того, что юная Солнечная система, повзрослев, стала выглядеть именно так, как сейчас.
Это, конечно, интересный поворот – и наглядное напоминание, что мы до сих пор толком не разобрались, что происходило в нашей собственной системе 4 миллиарда лет назад. Быть может, нынешним довольно-таки мирным динамическим состоянием своих планет мы обязаны гораздо более бурному и «горячему» прошлому. Быть может, мы выжили из дома сестру-планету. Выходит, и планеты подвержены жестокому и безразличному естественному отбору.
Однако любые события в прошлом Солнечной системы достаточно мирные по сравнению с событиями в большинстве планетных систем, что доказывают и относительно круглые орбиты и благонравное поведение наших планет на сегодняшний день. Все это подводит нас к кульминации этой главы – и суть ее очень проста: архитектура Солнечной системы обеспечивает нам особые свидетельства, которые позволяют нам впервые в истории с достаточной надежностью оценить степень нашей уникальности.
Самое простое из этих свидетельств – форма и ориентация орбит, а также местоположение и разнообразие планет Солнечной системы. Уже по одной только конфигурации орбит можно смело утверждать, что Солнечная система принадлежит примерно к 25% планетных систем, прошлое которых никогда не было особенно хаотичным. Кроме того, в нашей системе нет планет с массой больше земной, но меньше массы ледяных гигантов Урана и Нептуна. А эти гигантские планеты обладают массой в 80 и 100 раз больше массы Земли соответственно. То есть между нашей маленькой каменистой планетой и всеми более крупными небесными телами зияет зазор.
По нашим сегодняшним представлениям как раз планеты в этом промежутке – от супер-Земель до мини-Нептунов – одни из самых многочисленных планет во Вселенной и превосходят планеты-гиганты числом как минимум в четыре раза. Однако вокруг Солнца нет ни одного примера такой планеты, и нам бы в голову не пришло, что такие планеты вообще существуют, если бы мы не обнаружили их вокруг других звезд. По нынешним оценкам более 60% других солнц[132] обладают хотя бы одной такой средней планетой.
Да, конечно, свести всю эту статистику воедино так, чтобы получилась надежная конструкция, довольно трудно. Например, мы на самом деле не знаем, связана ли динамическая нестабильность систем со склонностью формировать супер-Земли и мини-Нептуны. Это все равно что обнаружить в углу сада особенно пышные заросли цветов. Непонятно, почему их там так много – просто так сложилось или этот угол особенно тщательно возделывал невидимый садовник. Тем не менее вполне очевидно, что с этой точки зрения Солнечная система несколько необычна – возможно, своего рода отщепенец, принадлежащий к меньшинству.
Простоты ради предположим, что форма архитектуры орбит и типы планет в системе прямо не связаны. Скорее всего, на каком-то уровне это предположение неверно, однако оно позволяет обойтись без уточненного анализа, который, вероятно, не повлиял бы на общие выводы. Итак, можно рассмотреть все вероятности совокупно и сделать вывод, что Солнечная система, в которой мы живем, принадлежит к 10% в своем клубе – не больше. Чтобы убедиться в этом, добавим в наш статистический рецепт еще несколько простых фактов.
Например, я говорил о том, что большинство звезд в нашей Галактике меньше Солнца: примерно 75% из них менее массивны. Эти звезды также обладают бесчисленным множеством планет, которые, по всей видимости, следуют общим динамическим правилам: горячая юность, холодная зрелость. Так что если бы мы осторожно обобщили статистику, возникло бы искушение заявить, что наша Солнечная система и вовсе принадлежит к 2–3% звезд определенной разновидности с определенным набором и расположением планет. С математической точки зрения это не очень строго, однако основано на реальных числах – и очень важно для нашего поиска своего вселенского значения. В целом наша Солнечная система необычна.
Еще я упоминал о том, что планета должна обладать достаточно мягкими условиями на поверхности, что на ней должно быть много жидкой воды. Астрономы очень любят на основе этой идеи искать «обитаемые зоны»[133] вокруг звезд, диапазоны орбит, где температура на планете аккуратно вписывается между точкой замерзания и точкой кипения воды. Это само по себе существенно уменьшает численность группы, к которой принадлежит Солнечная система и Земля, поскольку добавляет требование, что планеты должны вращаться на строго определенном расстоянии от звезд-родительниц.
Точно оценить количество таких планет очень трудно, и заниматься этим мне совсем не хочется. По правде говоря, это зависит от великого множества факторов – от состава самих планет, их атмосферы, от стабильности климата, о чем я писал в предыдущей главе. А между тем мы не разобрались во всех хитросплетениях климата на своей собственной планете. Мы считаем, что 4 миллиарда лет назад Солнце было на 30% тусклее[134], однако геологические свидетельства показывают, что и тогда на поверхности Земли была жидкая вода. Беда в том, что мы не совсем понимаем, как такое может быть. Даже огромное количество парниковых газов в атмосфере юной Земли едва ли смогло бы, с одной стороны, в достаточной степени согревать поверхность, а с другой – не оказать ни малейшего влияния на состав скальных пород. Некоторые ученые предполагают, что даже фундаментальная форма, размер и оптические характеристики облаков – да-да, облаков! – миллиарды лет назад были не такие, как сейчас. Если бы облака были другми, Земля меньше отражала бы солнечный свет и могла бы поглощать больше его согревающей энергии.
Кроме того, у нас подбирается все больше доказательств, что и на Марсе, находящемся сразу за орбитальной зоной благоприятных температур вокруг Солнца, когда-то было вдоволь жидкой воды. Может быть, такое положение дел по геологическим меркам сохранялось недолго, однако бывали времена, когда условия на Марсе были куда более благоприятнее для жизни, чем сейчас.
Можно сделать вывод, что с точки зрения умеренности климата оценить необычность Солнечной системы не так-то просто. Я бы сказал, что в настоящий момент и при нашем уровне знаний мы не можем сколько-нибудь надежно оценить, в какой доле систем есть планеты в умеренных зонах, поскольку сами эти зоны, похоже, весьма переменчивы. Однако если мы учтем при вычислениях еще и историю планет с умеренным климатом в Солнечной системе, то в результате, вероятно, попадем в клуб, в котором состоит менее 1% всех возможных планетных систем.
Однако все это статистика. Какие характеристики на самом деле определяют неповторимую детальную структуру каждой отдельной системы? Почему у систем есть именно такие шансы сформироваться динамически холодными и горячими и с теми или иными видами планет или без них? И что запускает цепь событий, в результате которых возникает Солнечная система вроде нашей и планета, очень похожая на Землю?
Отчасти ответ, конечно, лежит в области общей физики гравитационных систем и в притяжении газов и частиц, которые клубятся вокруг новорожденной звезды, пока она собирает саму себя из холодной взвеси межзвездного материала. Однако огромный кусок этой головоломки – поистине колоссальный кусок – судя по всему, просто чистая, слепая, беспримесная воля случая.
Астрономы говорят о формировании планет как о стохастическом процессе: хотя в нем заложены и предсказуемые физические процессы, окончательный результат не детерминирован по сути своей, в нем есть элемент случайности. Я расскажу вам, что происходит в целом: вещество вращается по орбите, сталкивается, слипается, объекты взаимодействуют, рассыпаются, растут, расходятся в разные стороны, однако я не могу предсказать, что произойдет с каждой новой планетой, с каждым сгустком вещества. Точь-в-точь нерешаемая задача n тел.
Один из лучших примеров подобного исхода глядит нам в лицо практически каждую ночь. Луна, как я уже говорил, скорее всего, возникла в результате космического столкновения между более ранней версией Земли и еще каким-то зачаточным планетным телом. Нашему нынешнему пониманию природы Земли и Луны больше всего соответствует теория, согласно которой приблизительно 4,5 миллиарда лет назад с прото-Землей столкнулась другая планета размером с Марс. Эта невезучая планета известна под именем Тейя[135] и, вероятно, сформировалась в той же орбитальной зоне, что и прото-Земля, просто располагалась в другой точке этой орбиты. С течением времени колебания гравитационной тяги, возможно, придвинули эти юные объекты ближе друг к другу, и в итоге они врезались друг в друга, словно пара колоссальных булыжников в лавине. В результате вокруг Земли получилось очень много пыли и обломков, и из них вскоре сгустилась Луна – смесь останков Тейи с содранными и раскиданными в пространстве слоями прото-Земли.
Подобное событие при формировании планетной системы, скорее всего, отнюдь не редкость. Именно чем-то таким и заканчивается толкучка на орбитах, которая, как мы полагаем, играет главную роль в нанесении завершающих штрихов на маленькие каменистые планеты. Однако такой вариант вовсе не обязателен – он входит в череду крайне стохастических событий, то или иное из которых очень трудно предсказать. Вероятно, Земля и Луна – представители относительно распространенного типа конфигурации «планета-спутник», однако гарантировать подобный результат в том или ином конкретном случае нельзя.
Эта черта – очередной аспект нелинейной, хаотической природы планетной системы. С одной оговоркой: мелочи, определяющие конечный результат, чаще имеют отношение не к законам гравитации, а к размерам и составу планет – тоже случайным величинам. Например, физическое столкновение двух объектов зависит не только от того, насколько близко они подойдут друг к другу, но и от их габаритов – заденут ли они друг друга? И если заденут, приведет ли это столкновение к тому, что они сольются воедино, образовав новое небесное тело, или просто разлетятся на обломки?
Получается, что если мы попытаемся проследить всю цепочку причинно-следственных связей, которая ведет от космического газа и пыли к планете, похожей на Землю, нас ждут серьезные трудности – но что поделаешь, такова жизнь. Однако в то же время важно понимать, что если маршрут к точке назначения случаен и непредсказуем, это не обязательно означает, что прибытие в точку назначения маловероятно. Не устаю подчеркивать, как важен этот парадокс, поскольку мы столкнемся с ним еще неоднократно и не только при обсуждении планетных систем.
Чтобы лучше понять эту особенность эволюции естественных систем, представьте себе, что вы стоите на опушке густого леса, через который вам нужно пройти. Троп перед вами множество, и, быть может, 90% из них приведет вас куда-нибудь по ту сторону деревьев и лишь 10% заставит вечно кружить в чащобе. То есть из леса вы выйдете с большой вероятностью, однако выбирать один какой-то путь вам все равно придется случайно. И даже если вам повезет, каждая траектория приведет вас в свою точку на противоположной опушке. Примерно таков и процесс создания планет – и, как мы вскоре увидим, вероятно, и процесс возникновения жизни.
Итак, вы прошли тернистый путь через вступление о динамической природе небесной механики и остались целы и невредимы – и наверняка у вас возник соблазн вздохнуть с облегчением. Однако, к сожалению, у планетных систем есть еще одна особенность, которая выводит их на новый уровень сложности. Мы привыкли представлять себе эти системы замкнутыми, из чего бы они ни состояли – из планет, астероид, комет, пыли, и вокруг чего бы ни вращались – вокруг одной или нескольких звезд. Этакие изолированные экосистемы, если не считать случайного изгнания лишней планеты. Как выяснилось, это не обязательно так.
На первый взгляд кажется, будто внутренние области Солнечной системы достаточно густонаселенны и лишних кусков плотного вещества в себя не допустят. Разве что просочится горстка-другая межзвездной пыли, а так из непрошеных гостей заметных размеров к нам попадают разве что некоторые разновидности комет. Еще когда я описывал общее устройство нашей системы, то упомянул об облаке Оорта – гипотетическом вместилище сотен миллиардов кусков льда, которые медленно вращаются по далеким орбитам, куда их забросило в годы бурной юности нашей Солнечной системы. То и дело какой-нибудь из этих кусков древнего вещества сбивается на траекторию, которая увлекает его вовнутрь, и такие события создают особый вид комет, так называемые долгопериодические кометы. То, что мы видим подобные кометы, – важнейшее доказательство существования облака Оорта, которое простирается на расстоянии почти светового года от нас – это целая четверть расстояния до ближайшей звезды.
Однако с этой гипотезой уже давно возникла некая проблема. Долгопериодических комет так много, что их нельзя списывать на строительный мусор после формирования Солнечной системы. Доморощенное облако Оорта, состоящее исключительно из вещества, вышвырнутого из новорожденной Солнечной системы, не смогло бы породить достаточно кометных тел, чтобы получилась та картина, которую мы наблюдаем.
Это несоответствие уже некоторое время ставит астрономов в тупик, однако недавно ученый Хэл Левисон и его группа[136] выдвинули вполне правдоподобную теорию. Она опирается на одно обстоятельство, о котором мы уже говорили, – на то, что наше Солнце вместе со своими планетами родилось в компании звездных сестер, которых впоследствии разбросало по всей Галактике.
Левисон и его группа применили к решению задачи компьютерное моделированиеи проследили не только орбитальные траектории планет вокруг звезд в скоплении звезд-сестер, но и траектории ледяных обломков наподобие облака Оорта. Результаты оказались удивительные. Поскольку при рождении группа звезд располагается очень компактно, возникает настоящая куча-мала, похожая на потасовку в мультфильме.
Множество ледяных обломков из окрестностей каждой отдельной звезды отрывается от нее из-за притяжения других массивных объектов, и в результате вокруг всей звездной семьи образуется огромное облако общего вещества – получается знакомая каждому любителю мультиков картинка: огромный размытый бублик, откуда иногда на миг высовываются то лапы, то хвосты, то восклицательные знаки. Внутри этого облака по-прежнему двигаются звезды, и иногда они алчно загребают вещество обратно. А иногда проходят особенно близко друг к другу – и тогда им удается захватить гравитационными щупальцами и стащить еще больше этих крошечных кусочков.
Итогом всей этой звездной потасовки становится возможность накопить в своих облаках Оорта гораздо больше вещества, чем в случае, если бы они пребывали в гордом одиночестве, – так много, что именно этим мы и можем объяснить то, что наблюдаем в Солнечной системе. Пока что мы не знаем наверняка, так ли все было, однако это очень соблазнительный ответ на загадку, которую мы еще не разгадали.
В рамках нашей основной задачи – поиска своего места во Вселенной – я хотел бы подчеркнуть, что если это правда, то чуть ли не 90% нашего облака Оорта зародилось вне Солнечной системы. Получается, что окраины Солнечной системы состоят не из вещества, которое она позаимствовала или награбила в лихие годы юности. Подобным же образом ледяной мусор, который был произведен у нас, по большей части разлетелся в разные стороны – или его стащили другие звезды, или он странствует сам по себе в мертвых пучинах межзвездного пространства. Короче говоря, Солнечная система – прохудившаяся лодка, доверху нагруженная чужим барахлом.
А к нашей теме имеет самое непосредственное отношение то обстоятельство, что долгопериодические кометы – ледяные тела из облака Оорта – долетают до самой орбиты Юпитера, а то и до Земли. И при этом ведут себя именно так, как положено кометам: излучение Солнца обращает лед в газ, который рассеивается в межпланетном пространстве, унося с собой и пыль, которая также входит в их состав. Так было миллиарды лет.
Если Хэл Левисон и его коллеги правы, среда нашего обитания постоянно загрязняется химическими веществами из других солнечных систем. Так что мало того что наша Солнечная система так непостоянна – вероятно, что ее нынешний химический состав сильно отличается от первоначального.
Вообразите на миг, что Аристотель, Птолемей, Коперник, Кеплер или Галилей докопались бы до подобных сведений об окружающем мире. Сколько всего изменилось бы! В частности, если бы мы знали, что наша Солнечная система обладает подобными качествами, это искоренило бы устойчивые представления о том, что мы живем в стабильном или идеально настроенном мире. Может быть, Солнечная система и стоит довольно низко по шкале хаотичности, но и не в самом низу, это точно, она с самого начала постоянно менялась, меняется и сейчас.
С точки зрения орбитальной динамики наше место во Вселенной разительно отличается от представлений ученых и мыслителей прошлого. Просто взять и сместить Землю из центра мироздания – это лишь ничтожный шажок в сторону адекватной оценки нашего значения. Мы обитаем на пылинке, которая мчится по воле волн в бурном океане, в котором бесконечно много различных вариантов траекторий. Однако это не какая-нибудь случайная пылинка. Теперь нам известно, что Солнечную систему нельзя назвать заурядной – по крайней мере, отчасти, – и мы можем подтвердить это расчетами.
Здесь, конечно, можно возразить, что даже если наше место обитания временное или совершенно особое, это, в сущности, неважно. Жизнь отдельного человека идет совсем не по космическим часам. Даже вся история эволюционного развития млекопитающих за последние 200 миллионов лет – всего лишь миг по сравнению со временем жизни звезд и планетных систем.
Однако наш вид появился не в пустыне. Как мы вскоре увидим, история жизни на Земле весьма богата и по продолжительности сопоставима со временем жизни Земли как таковой, которая составляет 4,5 миллиарда лет. Без такого фона мы с вами, возможно, и не существовали бы. Однако химическая и биологическая история тоже нелинейна – время от времени ее уводит в хаос, совсем как орбиты планет, и в конечном итоге она обладает теми же фундаментальными математическими свойствами, которые отъели изрядный кус от банковского счета Анри Пуанкаре.
В основном эта сложная биохимическая история разворачивалась на другом уровне мироздания – на уровне микрокосма. Туда мы и отправимся, поскольку, если нам хочется провести связь между необычностью Солнечной системы и существованием жизни, следует хорошенько разобраться, что такое жизнь, а также какое отношение она имеет к планетам и к дальнему космосу.
Сахар с корицей
Трудно даже представить себе, что еще совсем недавно мы, пожалуй, знали о Вселенной за пределами земной атмосферы гораздо больше, чем о невероятно сложном устройстве земной биологии. Однако теперь, спустя четыреста лет после изобретения телескопа и микроскопа и первых открытий Антони ван Левенгука покров понемногу приподнимается. У нас под носом раскинулся целый мир, еще одно измерение, свернутое и скрытое от праздных глаз, хитроумный мир, кишащий молекулами, мембранами и клетками, из которых состоит жизнь. В этом измерении, странном и чудесном, мы найдем самые яркие свидетельства связи между жизнью и фундаментальными свойствами мироздания.
Наше понимание микрокосма Земли еще очень далеко от совершенства, однако мы уже сумели выявить многие его основные характеристики. Впрочем, и биологический макрокосм мы знаем так же плохо. В данный момент мы считаем, что все живые существа на Земле подразделяются на три домена, три общие схемы, по которым строятся живые организмы: это бактерии, археи и эукариоты. Пока что мы не пришли к согласию по поводу того, куда отнести вирусы и живые ли они вообще, так что пока они ждут своей очереди в сторонке. Эти три формы жизни принципиально различаются архитектурой клеток, а также генетическими кодами.
Коротко говоря, бактерии и археи – это «простые», мелкие одноклеточные организмы. Они способны выживать и по отдельности, однако чаще всего образуют колонии. Их генетический материал не расположен на специальном носителе, а в клетках, как правило, не содержится сложных внутренних структур, так называемых органелл. Клетки эукариотов, напротив, гораздо крупнее и сложнее, содержат органеллы и свой генетический материал заботливо сберегают в виде ядра. Мы еще поговорим гораздо подробнее о том, что эволюционное наследие симбиоза (когда два разных организма, а иногда и больше, живут вместе и дополняют друг друга), очевидно, наградило эукариотов целым рядом дополнительных способностей, в том числе мощными механизмами производства энергии, и научило отличному трюку – многоклеточности. И люди, и все животные, растения и насекомые, и даже скромные грибы – все они эукариоты. Как ни странно, мы, эукариоты, до сих пор не можем обойтись без партнеров-симбионтов из царства простой одноклеточной жизни, в чем мы и убедимся, когда будем исследовать микрофлору человека.
Простейшие формы жизни – у них есть общее название «прокариоты» – самые древние на планете. Бактерия в поперечнике всего несколько микрометров. При этом бактерии могут быть самой разной формы в диапазоне от шаров и трубочек до палочек и спиралей, которые иногда передвигаются при помощи жгутиков, похожих на хлысты. Словом, они весьма разнообразны. У обитателей другого древнего домена – столь же миниатюрных архей – нам впору поучиться крайнему смирению[137]. До конца 1970 годов мы даже не считали их отдельной формой жизни, а полагали, что это всего лишь разновидность шустрых бактерий. Но оказалось, что это не так. У них прнципиально иная клеточная структура, и даже жгутики у них устроены совсем иначе, чем у бактерий. Кроме того, они склонны жить за счет «подножного корма» в самых разных средах. Для этого они потребляют простое химическое сырье – и эта черта лишь подтверждает гипотезу, что они необычайно древние и восходят к тем далеким временам, когда питаться было нечем, кроме неорганических веществ.
Легко решить, будто подобные формы жизни столь же примитивны, сколь и древни. Напротив! Каждое крошечное отдельное существо – это невероятный шедевр природной механики. Даже их на первый взгляд простые хвостики-жгутики приводятся в движение хитроумным молекулярным эквивалентом электромотора, который вращается со скоростью сотен оборотов в минуту. Как мы вскоре убедимся, их способности этим далеко не ограничиваются.
Кроме того, архей и бактерий очень много. По нынешним оценкам планета Земля служит домом более чем для миллиона триллионов триллионов[138] (10) одноклеточных организмов. Их генетическое разнообразие просто поразительно – нам известно по меньшей мере десять миллионов различных видов, а скорее всего, их гораздо больше. За последние 30–40 лет мы обнаружили, что многие микробы прекрасно чувствуют себя в условиях, которые мы вынести не могли бы – при очень высокой температуре, давлении, в агрессивных и ядовитых химических средах, а иногда в местах, где экстремальны и температура, и давление, и химическая среда. Подобная выносливость позволяет микроскопической жизни занимать практически любые уголки планеты. Эти организмы не просто далеко опережают все другие формы жизни на Земле по численности и разнообразию, но и составляют подавляющее большинство биомассы на планете.
В основном эти живые существа обитают даже не на поверхности. Скажем, морская вода, особенно верхние слои океанов, полна бактерий. Если мы заглянем глубже, то обнаружим, что на камнях и в осадках на океанском дне обитает, по всей видимости, большинство живых существ на свете – 70%. По большей части эти существа живут по отдельности, однако ближе к вулканическим грядам, которые рассекают океаны и практически непрерывной цепью длиной в 60000 километров опоясывают планету, организмы образуют своего рода оазисы бурной жизни. На континентальных массах суши живые организмы обитают и в толще почвы, и во льду, и в микроскопической перепутанице мелких трещин, пронизывающей земную кору. Следы присутствия микробов обнаружены даже в базальтовом вулканическом стекле на склонах действующих вулканов – там микроорганизмы питаются скальными породами и потребляют химическое сырье.
Если бы всего сто лет назад кого-нибудь спросили, какие живые существа составляют на Земле большинство, в ответе, скорее всего, упоминались бы растения или насекомые – и уж точно не бактерии, точно не миллионы триллионов триллионов одноклеточных, которые, как мы теперь знаем, по большей части таятся от нас под поверхностью планеты. Однако эта процветающая и вездесущая популяция – залог нашего существования и ключ к ответу на вопрос о нашем значении в мироздании. Именно бактерии и археи таят в себе разгадку тайны жизни на Земле, именно они создают базу для сбора и хранения энергии и материалов, строительства биологических структур и обеспечения самых что ни на есть поразительных химических трюков и фокусов. В сущности, все отличительные черты нашего мира, все то, что первым делом бросается в глаза, от атмосферы и океанов до химии почвы и скал – бессознательно и блистательно создали все те же обитатели микромира за последние четыре миллиарда лет.
Чтобы оценить, в какой степени встроена жизнь в организм нашей планеты в целом, нужно несколько пересмотреть свои воззрения. Лично у меня самый серьезный перелом в отношении к природе жизни на Земле произошел в 2008 году – до этого мои представления были до смешного узки[139]. Это произошло, когда я прочитал статью в журнале «Science», которую написали биолог и океанограф Пол Фалковски и морские микробиологи Том Фенчел и Эдвард Делонг. Статья называлась «Микробиологические двигатели, обеспечивающие биохимические циклы Земли» («The Microbial Engines That Drive Earth’s Biogeochemical Cycles») – достаточно прямолинейное и обманчивое название, скрывающее масштабы обсуждаемого вопроса.
Что это за микробиологические двигатели? С механической точки зрения это сложные соединения молекул под названием белки. В старших классах на уроках органической химии мы узнали, что белки, в свою очередь, состоят из цепочек и сложенных конструкций более простых молекул под названием аминокислоты. В биохимии Земли участвуют лишь избранные аминокислоты – их двадцать, и каждая состоит из набора от 10 до 27 атомов углерода, водорода, кислорода, азота и серы. Вот они, основные кирпичики – детальки конструктора «Лего», из которых строятся клетки, а инструкции, по которым надо собирать этот конструктор, записаны в генетических кодах всех живых существ.
Белки, которые жизнь создает из аминокислот, – рабочие лошадки биохимии. Они могут служить катализаторами и возбуждать химические реакции, а могут составляться в более крупные структуры. Если они складываются в так называемые многобелковые комплексы[140], то превращаются в полномасштабные молекулярные машины, хитроумные инженерные творения самой природы, выработанные в результате неустанной селекции и эволюции. Это и в самом деле механизмы, на которых основана любая жизнь. У одноклеточных организмов белки составляют до 50% сухой массы.
Некоторые подобные белковые структуры стяжали себе звание двигателей, поскольку вовлечены в основные функции обмена веществ, производства полезной химической энергии и синтез новых соединений – то есть в те самые процессы, которые поддерживают жизнь во всех организмах.
Это снова возвращает нас к школьному курсу химии: а на каком топливе работают эти двигатели? В конечном итоге все сводится к движению и передаче двух фундаментальных физических частиц – электронов и протонов. Химия жизни поддерживается обменом и перетеканием заряженных частиц в ходе реакций окисления и восстановления.
Иногда эти реакции происходят сами по себе, если нужные молекулы сближаются на достаточное расстояние при достаточной энергии. Например, при нагреве метан способен перегореть в кислород. Все мы наблюдали эту реакцию в кухне, когда готовили на газу, и в школе на лабораторных работах, когда зажигали бунзеновские горелки. В результате атомы углерода и водорода связываются с кислородом и в процессе теряют электроны. В сущности, само слово «окисление» несколько устарело: в ходе таких реакций атомы на самом деле теряют или передают электроны. А передача заряженных частиц означает, что создается поток энергии, к которому можно подключиться, чтобы подпитывать другие процессы.
Однако не все реакции идут настолько спонтанно, зачастую им требуется дополнительный толчок. Такова жизнь: ее молекулярные двигатели пристраиваются к реакциям, катализируют их, часть энергии забирают на свои цели поддержания жизни, причем зачастую запасают эту энергию в других молекулах, которые переправляют ее в другие участки клетки или клеток организма. Именно так поддерживается жизнь на Земле. И молекулярные двигатели на самом деле не просто пристраиваются к химическим реакциям, они физически собирают химическое топливо и создают условия для того, чтобы эти реакции шли: они обеспечивают обмен веществ.
Однако здесь таится колоссальный подвох. Все подобные химические реакции, подобные передачи электронов или протонов, превращают набор ингредиентов в набор продуктов. Так что если бы у Земли был ограниченный запас сырья и реактивов и она предоставляла его в распоряжение живых организмов, со временем запас истощился бы. Но ведь планета не статична. Бурная геофизическая активность – от вулканов до тектонических сдвигов – перерабатывает органические осадки и их химические составляющие и возвращает их на поверхность, а реакции в атмосфере с участием солнечного света постоянно производят свежее сырье.
Сложность в то, что эти процессы относительно медленные: на то, чтобы заново заполнить химическую кладовую, уходят миллионы лет. Жизнь зародилась по крайней мере 3,5 миллиарда лет назад и сохранилась с тех пор, значит, у нее был еще какой-то источник средств к существованию, пока Земля тащилась себе вперед. И верно. Именно в этом и состояло озарение, которое постигло меня, когда я читал работу Фалковски, Фенчела и Делонга. В их статье объясняется, как молекулярные двигатели жизни в результате эволюции объединились в поразительную взаимосвязанную систему – систему, при помощи которой микроскопические организмы катализируют множество реакций окисления и восстановления во множестве самодостаточных циклов. Иными словами, молекулярные двигатели перезапускают последовательности повторяющихся химических реакций, которые без них шли бы очень медленно или вообще не состоялись бы.
В результате обмена веществ атомы элементов вроде водорода, углерода, азота, кислорода и серы постоянно переходят из одного места в другое, из молекулы в молекулу. Со временем химическая структура земной коры и океанов оказывается глубочайшим образом переработана – и это превращение не было бы возможно в отсутствие жизни. Это и есть биогеохимия. Практически вся среда нашего обитания на Земле – от кислорода, которым мы дышим, до состава почвы у нас под ногами – всего лишь результат уравновешивания всех этих взаимосвязанных, взаимозависимых циклов. Разумеется, мы не отделены от этой системы. Жизнь, подобная нашей, принадлежит к домену эукариотов с большими сложными клетками, которые, очевидно, представляют собой результат различных случаев эндосимбиоза – ассимиляции всевозможной машинерии из более ранних, чисто симбиотических отношений между одноклеточными организмами. Сложноклеточная жизнь практически исключительно полагается на дыхание, для которого ей нужен кислород, и на всевозможные источники энергии, получаемой из углеродосодержащих молекул. А это значит, наши жадные до кислорода организмы играют важную роль в системе обмена веществ в масштабах планеты.
Эти еще не до конца выявленные самоподдерживающиеся циклы – важнейшая веха на нашем пути не только к пониманию того, как связана любая жизнь с химической и физической тканью Вселенной, но и к попытке найти свое место в более широком контексте. Число обменных процессов, по крайней мере сегодня на Земле, конечно. В принципе, это могли бы быть и другие разновидности химических реакций, однако миллиарды лет эволюции на Земле пришли в конце концов именно к конкретному, нашему набору реакций.
Эти метаболические рецепты можно уподобить различным комбинациям молекулярного «топлива»[141] с молекулярными окислителями, которые «сжигают» это топливо. Лучше всего мы знакомы с метаболическими последовательностями, в которых происходят процессы вроде кислородного дыхания, ферментации, усвоения азота, фотосинтеза с выработкой кислорода и без. Есть и более экзотические – сульфатное, нитратное, нитритное и даже железистое и марганцевое дыхание. На каждом из возможных метаболических вариантов, а иногда на нескольких сразу специализируются свои бактерии и археи. Например, молекулярные двигатели в определенных типах архей могут сочетать углекислый газ (окислитель) с молекулярным водородом (топливо) и вырабатывать метан и воду. Еще они могут разделять молекулы уксусной кислоты и делать из них метан и углекислый газ. Львиная доля метана, доступная нам, людям, и, скажем откровенно, вырабатываемая нами, людьми, и многими другими животными, производится трудолюбивыми крошками-археями. Эта разновидность обменных процессов называется метаногенез[142].
Главную роль в биосфере Земли играют реакции с усвоением углерода – превращение простых неорганических источников углерода, например, углекислого газа, в органические соединения, – поскольку углеродосодержащие молекулы составляют основу жизни на Земле. В общем и целом мы обнаружили 10 фундаментальных химических процессов, которые, по нашему мнению, отражают метаболический профиль жизни на Земле. Это сумма всех способов, которыми все организмы получают электрическую энергию и сырье. А вот то, как именно эти процессы связываются в единую систему циклов, общих для всех биологических видов на всей планете[143] – настоящее чудо. Например, молекулярные двигатели, при помощи которых некоторые археи производят метан, у других архей и бактерий работают в обратную сторону. Они добывают энергию, разбирая молекулы метана и превращая их обратно в углекислый газ и водород. Кому отходы, а кому и пища.
Точно так же можно обратить и большинство остальных процессов. Если не найдется вида бактерий, который располагает машинерией, позволяющей прямо и непосредственно ликвидировать результат деятельности какого-то другого вида, значит, этот обратный процесс будет выполнен постепенно, в результате цепочки взаимодействий, которая охватывает сразу много разных видов. Организмам-участникам не обязательно даже жить бок о бок в пространстве или времени. Метан, вырабатываемый где-то на планете одним коллективом организмов, найдет себе потребителей совсем в другом месте и в другое время года.
Все это подозрительно похоже на вечный двигатель, где один организм обеспечивает пищей другого, а тот преобразует ее снова, и при этом постоянно выделяется энергия. Это и был бы вечный двигатель, если бы обмен веществ в масштабах планеты представлял собой замкнутую систему, а это не так. В конечном итоге его обеспечивают два источника энергии, которые я уже упомянул. Во-первых, Земля еще не остыла внутри – это последствия бурных времен ее формирования, а также результат того, что в ее состав входят радиоактивные вещества, – и на ее поверхность выходит примерно 30–45 триллионов ватт геотермической и геохимической мощности. Во-вторых, ее поверхность впитывает энергию Солнца – примерно 90000 ватт. Этот приток энергии вполне покрывает любые потери из-за пробелов во взаимозависимых метаболических циклах в живой природе.
Это очень красивая система, однако ее понимание – лишь первый шаг к ответу на вопрос, как же образовались и развились все эти микробиологические механизмы, а в особенности – как они пережили все тяготы среды обитания на планете в последние 3–4 миллиарда лет. Отчасти вопрос сводится к тому, как именно относительно небольшой набор молекулярных двигателей, в основном – белковых комплексов, оказался закодирован в генетическом материале одноклеточных микроорганизмов.
Результаты геохимических, а также генетических исследований позволяют нам однозначно сказать, что большинство кодов ДНК у этих двигателей восходят к глубокой древности. Некоторые в буквальном смысле оказались запечатлены в камне, поскольку целые экосистемы, которые когда-то влияли на химическое равновесие океанов и атмосферы Земли, оставили по себе слои окаменелых пород. А еще все они прослеживаются в генетических последовательностях современных живых организмов.
Некоторые молекулярные двигатели требуют для кодирования своих структур значительного объема генетической информации. Например, фотосинтез с производством кислорода – самый сложный естественный процесс передачи энергии с участием множества молекулярных соединений – описывается более чем 100 генами. И все же у нас есть свидетельства, что фотосинтез как инструмент обмена веществ[144] существовал как минимум 3 миллиарда лет назад. Очевидно, что подобные хитроумные молекулярные механизмы развились уже на самых ранних этапах истории Земли.
Если мы поймем, каково происхождение всех этих метаболических процессов, то приблизимся к пониманию происхождения жизни как таковой, а пока что это тайна. При этом теорий и гипотез существует множество. Например, некоторые ученые утверждают, что химические и электрические градиенты в клеточных оболочках подозрительно напоминают те, которые наблюдаются при нарушении химического равновесия и в микроскопических минеральных структурах, обнаруженных в глубоководных термальных источниках
Подобные предположения о связи между зарождением жизни и небиологическими минеральными структурами и химическими процессами очень интересны, однако явных доказательств мы пока не получили. Есть и другие гипотезы – многоступенчатые химические реакции между органическими веществами, сложные системы реакций аминокислот, вызванные катализаторами вроде бора и молибдена в водяной среде. В результате подобных цепочек реакций могли возникать основные элементы биологии – от липидов до первых рибосом, которые помогают синтезировать белки.
В сущности, земная биология могла произойти и из разных источников, а не из одного. В таком случае нам следует понять, как сошлись воедино биологически полезные молекулярные составляющие из разных источников и как им удалось создать более устойчивую структуру. К счастью, это нам подсказывает сама природа.
Микробы (как, скорее всего, и их предки) печально знамениты так называемым горизонтальным переносом генов[146]: они умеют обмениваться фрагментами генетического материала между видами. Это примерно как обмениваться визитными карточками или проектами каких-нибудь изобретений. В результате выследить, как, где и когда возникают те или иные гены, становится гораздо труднее. Однако подобная неразборчивость приводит к одному важнейшему результату, который, скорее всего, прямо повлиял на зарождение жизни. В итоге такого бесконтрольного распространения генов самые важные гены оказались более или менее повсюду.
Если заплыть на корабле в открытый океан, взять пробу холодной морской воды и привезти к себе в лабораторию, можно, как правило, обнаружить в ней и те разновидности бактерий или архей, которые в норме не очень хорошо себя чувствуют на поверхности моря. Например, среди прочих не слишком уместных организмов там, скорее всего, найдутся так называемые термофилы – организмы, которым для обмена веществ и размножения нужна очень высокая температура. Холодная морская вода может быть сколько угодно неблагоприятна для подобных живых существ – в пробе они все равно будут.
Подобные эквиваленты микроскопической генетической диаспоры вы найдете на Земле практически повсеместно. Представители большинства биологических типов есть везде, даже если те или иные условия им не нравятся. Есть и исключения: недавние исследования показали, что в полярных регионах Земли есть определенные бактерии, которые не встречаются больше нигде ни в каких количествах. Однако при всех оговорках все же можно сказать, что микробиологические популяции распространены в очень большом географическом диапазоне.
И в этом есть смысл. Крошечные организмы легко переносятся по всему земному шару с водой и воздухом, и у них было вдоволь времени, чтобы проникнуть практически в каждый уголок. Однако важно понимать, что мир захватили не просто микробы, а набор генов, где записаны инструкции к молекулярным двигателям обмена веществ. Эта важнейшая группа генетических кодов описывает механизмы, которые, в сущности, сделали мир таким, какой он есть. Фалковски и его соавторы очень удачно назвали это «базовым генетическим набором планеты».
Тот факт, что микробы, которые несут базовый генетический набор планеты, живут повсюду, прекрасно объясняет то, как фундаментальные метаболические процессы сумели остаться неизменными за миллиарды лет. Дело в том, что у них по всей планете хранились резервные копии. Предположим, например, что в Землю врезается шальной астероид диаметром в десять километров с силой, эквивалентной примерно 100 триллионам тонн тринитротолуола. Этакий доморощенный «истребитель динозавров» – примерно как тот, что 65 миллионов лет назад упал на полуостров Юкатан и, вероятно, ускорил их вымирание. Или, скажем, мы заглянем на 570 миллионов лет назад, а может быть, и раньше, и обнаружим, что почти вся Земля покрыта льдом – такие периоды называют «Земля-снежок»[147]. При этом погибнет бесчисленное множество живых организмов, навеки исчезнут целые виды. Однако где-то на Земле всегда останутся бактерии или археи, несущие в себе часть базового генетического набора планеты, а значит, и инструкции для механизмов метаболизма. Микроскопические тельца одноклеточных забиваются во все щелочки и дырочки, живут на океанском дне и даже в капельках воды, составляющих облака. Отдельные микробы живут совсем недолго, но это и неважно: миллионы и триллионы одноклеточных хранят в себе гены веками и тысячелетиями. Причем некоторые виды несут по нескольку базовых генов – и не всегда применяют их для своего собственного обмена веществ.
Можно уподобить эту ситуацию – не слишком поэтически – компьютерной сети. В наши дни, когда скачиваешь электронную книгу или музыкальный файл, или даже фотографируешь что-то на камеру мобильного телефона, на руках у тебя чаще всего остается лишь копия. А другая копия либо остается на твоем компьютере, либо загружается через Интернет в какое-то другое устройство для хранения информации. Но мало того – эти «облачные» копии копируются на разные устройства, зачастую на гигантские системы серверов, расположенные на противоположных концах континента. В этом случае данные не пропадут, разве что случится конец света и мир в нынешнем виде перестанет существовать. Даже если какие-то копии пропадут или испортятся в результате отключения электричества или хакерских атак, это не страшно: где-нибудь найдется дубликат.
Можно сказать, что микробы – такие же носители инструкций по метаболизму, распространяющие их по всей Земле и не дающие пропасть с течением времени, как и компьютерные системы, которые бездумно хранят информацию, которую мы туда помещаем. Насколько надежен этот метод хранения, мы точно не знаем. Легко представить себе, что у него могут быть и недостатки, – ведь за последние 3–4 миллиарда лет наверняка случались и сбои. Однако в целом похоже, что чертежи главных механизмов жизни эта система сохраняет целыми и невредимыми.
Стоит также отметить, что базовые гены планеты сами по себе не обязательно совершенны. Метаболические механизмы, которые строятся на основании их кодов, зачастую не так эффективны, как можно ожидать согласно теоретическим химическим моделям. Например, недостатки есть и у тех молекулярных структур, которые обеспечивают фотосинтез с производством кислорода, и у тех, которые отвечают за усвоение азота. Теория показывает, что фотосинтез мог бы идти и эффективнее, а организмы, усваивающие азот, в наши дни вынуждены смягчать риск взаимодействия с реактивным кислородом, создавая избыток механизмов для усвоения белков, чтобы их хватило даже в том случае, если какие-то поломаются. Однако код подобных механизмов оставался, в сущности, неизменным миллиарды лет. Судя по всему, к совершенству никто не стремится: если механизм худо-бедно справляется с задачей, больше от него ничего не требуется.
Значит, каковы бы ни были химические причины зарождения жизни, стоило первым живым механизмам добиться хорошего результата – разработать действенную стратегию, – и они в целом ее закрепили. Это вселяет оптимизм – судя по всему, следы далекого прошлого не стерлись. Кроме того, я думаю, что это позволяет нам сформулировать надежную рабочую гипотезу. Хотя конкретные детали метаболических механизмов жизни, очевидно, могут меняться в зависимости от места и среды, общая архитектура микробиологической системы Земли указывает на универсальную закономерность. Иначе говоря, успех нашего базового генетического набора планеты и его поразительная система хранения и защиты данных, возможно, показывает, как должна вести себя любая другая биосфера на любой другой планете, чтобы сохраниться в течение очень длительного времени. Обитаемая экзопланета, скорее всего, должна обладать своим базовым набором генов, своей системой хранения бесчисленного множества запасных копий.
А это подводит нас к следующему эпизоду нашей истории, к эпизоду, где мы проследим связь жизни на Земле с космическим порядком вещей.
Вся молекулярная машинерия на Земле при всем ее многообразии состоит из одних и тех же химических кирпичиков – деталек «Лего». Есть, конечно, и небольшие отклонения – например, археи иногда пользуются определенными «зеркальными» молекулами, праворукими вариантами аминокислот, которые у всех других живых существ всегда леворукие. Однако отклонения эти касаются структуры, а не базового химического состава. Пока что все гипотезы о существовании жизни с принципиально иной биохимической основой не подтвердились, и об этом я упомяну в следующей главе.
С точки зрения Вселенной удивляться этому не следует по той простой причине, что химия, лежащая в основе жизни на Земле, примерно та же, что и химия, преобладающая во Вселенной в целом. Чтобы объяснить, в чем тут дело, давайте совершим небольшое путешествие, чтобы познакомиться со своими непосредственными предками – молекулами, создавшими Вселенную в нынешнем виде, а для этого заглянем во времена сразу после Большого Взрыва, 13,8 миллиардов лет назад.
На заре мироздания существовал только водород. И еще гелий, однако когда после Большого Взрыва прошло несколько сотен тысяч лет и пространство юной Вселенной понемногу остывало, самое блестящее будущее было именно у реактивного водорода. В отличие от инертного газа гелия, который почти всегда существует в виде одноатомной молекулы и ни с чем не соединяется, водород обладает огромным потенциалом для формирования молекул, прежде всего с самим собой – H2, а без молекулярного водорода невозможно создание звезд и тяжелых элементов, а следовательно, и всей химии на свете. Ученые почему-то не афишируют тот факт, что астрофизика на самом деле началась с молекулярной химии. Все дело в том, что одиночные атомы водорода, носящиеся в космическом пространстве, располагают ограниченными возможностями для потери энергии движения. Если материя не может остыть, она не способна сформировать плотные структуры вроде пыли или звезд. Даже если атомы водорода налетают друг на дружку, остывать для них – занятие очень неэффективное: это может произойти только в том случае, если они преобразуют энергию в фотоны, которые испускаются в пространство, а таким простым атомам это трудновато. Молекула водорода, которая состоит из двух протонов, связанных взаимным электрическим притяжением к двум электронам – это совсем другая история.
Молекула водорода – это как два мячика, соединенные пружинкой, она может буквально вибрировать и вращаться, что открывает совершенно новый канал для потери тепловой энергии. Сталкивающиеся молекулы конвертируют часть энергии движения в энергию высвобождаемых фотонов. Эти довольно податливые молекулярные пружинки могут успокаиваться быстрее, чем атомы, которые ведут себя как твердые бильярдные шары, поэтому они быстрее остывают.
А значит, стоило Вселенной начать создавать из атомов водорода подобные простые молекулы, температура газа стала падать гораздо быстрее. Холодный газ хуже сопротивляется гравитационному сжатию, поэтому появление молекулярного водорода прямо привело к формированию первого поколения звезд. А в результате запустило и производство всех более тяжелых элементов.
Однако Н2 – не единственный сорт молекул водорода, который производит Вселенная. Если мы выясним, какие виды молекул встречаются в космосе, мы обнаружим, что второе место по численности после простой двухатомной версии молекул водорода занимает трехатомный вариант H3. Это всего-навсего три протона, связанные двумя электронами, а поскольку третьего электрона молекуле не хватает, она в целом заряжена положительно.
Молекула H3++ весьма примечательна[148]. Подобно обычной молекуле водорода, она играет важнейшую роль в остывании газа. Кроме того, она очень реактивна, и этим объясняется большинство так называемых молекулярно-ионных реакций в межзвездном пространстве. Ее спектроскопические среды мы обнаруживаем в самых удивительных местах, например, в атмосфере Юпитера. Вполне можно сказать, что обычная молекула водорода – это вселенская молекула-бабушка, а H3 – молекула-мать.
Если составить список химических реакций, в которых участвует H3++, станет видно, что они очень разнообразны. В результате этих взаимодействий, в частности, получается вода. А еще – синильная кислота, которой у нас есть все основания остерегаться, однако следует помнить, что она же служит ингредиентом для создания различных предшественников биомолекул, в том числе аминокислот. Кроме того, в итоге цепочек реакций, которые запускает H3+, возникают метиловый и этиловый спирты и ацетилен[149]. А когда мы проследим всевозможные варианты развития событий, то обнаружим, что именно H3 лежит у истоков формирования все более и более длинных цепочек молекул на основании углерода – структур, которые приближаются к биологическим молекулам так близко, что становится даже страшно.
Запуск химических реакций позволяет нам сделать далеко идущие выводы по поводу истоков космической химии. Как я уже упоминал, углерод – это атом, сочетание внешних электронов и общих размеров которого позволяет ему создавать поразительно разнообразные молекулярные структуры. А в сотрудничестве с H3++ он, судя по всему, способен на все в пределах термодинамических ограничений, которые налагает холод межзвездного пространства.
И в самом деле, астрономы и астрохимики обнаружили, что Вселенная прямо-таки полна углеродосодержащих молекул. При помощи разных астрономических приемов удалось выявить в космическом пространстве свыше 180 разных видов молекул, и более 70% из них углеродосодержащие. Ожидается, что этот список – всего лишь верхушка айсберга, поскольку в космосе наверняка есть самые разные более крупные молекулы, однако, чем они больше и сложнее, тем труднее их зарегистрировать, поскольку их спектральные признаки сильно смазаны.
Рис. 12. Схема образования некоторых химических соединений с участием молекулы H3+.
Возможны также реакции, которые приводят к созданию все более и более длинных цепочек атомов углерода и возникновению самых разных молекул (справа).
Еще богаче ассортимент химических соединений в более плотной и бурной среде вокруг формирующихся звезд и планетных систем. Зачастую в таких местах наблюдается огромное количество молекул воды, а также самые разнообразные органические углеродосодержащие соединения, чем дальше, тем больше. Мы видим там молекулы спирта и сахара, а также следы предшественников аминокислот вроде глицина. Все это обретает особый смысл, если взглянуть на происходящее, вооружившись познаниями в химии. Одновременно с наблюдениями ученые разрабатывают и математические модели химических процессов, которые должны происходить в подобных средах, – и мы обнаруживаем, что на практике происходят именно такие реакции, возникают именно такие соединения, какие предсказываются моделями. Фундаментальная химическая теория предсказывает все, что мы видим, – но не только.
Проще говоря, мы живем во Вселенной, где преобладают углеродосодержащие химические соединения, а это коренится в самых что ни на есть основах ядерной физики и объясняется тем, какие компоненты вещества были получены в результате Большого Взрыва. Совсем не трудно сложить два и два – знания о залежах древних химических богатств, которые мы обнаруживаем в кометах и метеоритах, и знания о земной биохимии[150]. Все наши открытия сильно затрудняют разработку каких бы то ни было альтернативных сценариев.
Впрочем, закоренелый скептик скажет, что все это эмпирические данные, поскольку мы не знаем, какие требуются шаги, чтобы перейти от простых углеродосодержащих молекул к живой материи. Однако молекулярные связи позволяют прямо и непосредственно объяснить, что произошло на Земле, и это объяснение прекрасно согласуется с нашими наблюдениями надокружающей Вселенной. Подробности зарождения жизни на нашей планете не так уж и важны: углеродосодержащих молекул во Вселенной так много, что земная биохимия не вызывает ни малейшего удивления. Это не более чем составная часть весьма разнообразной химической сети, пронизывающей все мироздание.
Более того, земные палеонтологические данные указывают на то, что микроскопические живые существа возникли по геологическим меркам очень быстро. Похоже, это произошло сразу после последних крупных событий в формировании планеты. Теперь мы знаем, что химические кирпичики живой материи (сахара, спирты, аминокислоты и более сложные углеродосодержащие структуры) присутствуют и в протопланетных системах. Не исключено, что весь этот материал сыплется на поверхности юных планет, которые представляют собой великолепные инкубаторы для органических соединений. Иными словами, получить первичную смесь, из которой может возникнуть жизнь, проще простого. Этот факт не объясняет всего того, что произошло потом, однако служит очевидной отправной точкой.
Ко всему этому мы еще вернемся, когда будем разбираться, ответы на какие вопросы позволят нам оценить собственное значение в мироздании, однако мне хочется особо подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, геохимический состав Земли постоянно перерабатывается вездесущими циклами взаимосвязанных процессов, которые приводятся в движение триллионами триллионов молекулярных механизмов, составляющих основу микроскопической жизни, а микроскопическая жизнь, в свою очередь, сохраняет «чертежи» этих механизмов с течением времени. Во-вторых, весь этот микрокосм, судя по всему, связан с широким распространением во Вселенной углеродосодержащих молекул и с тем, что корни всех физических и химических структур лежат в водородном газе, возникшем в самом начале существования Вселенной.
Думаю, что относительно подробностей метаболической машинерии у нас на Земле и относительно того, насколько она способна подстраиваться под нужды того или иного вида, остается еще много открытых вопросов. Развитие этой системы объясняется и ресурсами, которые были в ее распоряжении на нашей планете, и средой, которая помогала формировать процессы естественного отбора. В этом отношении эволюция была во многом случайной. Одно мы знаем наверняка: химическая среда на нашей планете в конечном итоге определяется историей формирования Земли из сгустившегося облака, размером нашей звезды, коллизиями при выстраивании планет по орбитам. Все, что мы знаем об экзопланетах, наталкивает нас на мысль, что другие планеты размером с Землю, возможно, необычайно разнообразны с химической и геохимической точки зрения.
А значит, разумно предположить, что метаболические процессы, которые широко распространены здесь, на Земле, на других планетах не всегда возможны. Подобным же образом вполне вероятно, что там идут реакции, которых у нас нет. Хороший пример дает нам изучение Титана, спутника Сатурна[151]. Температура там примерно –180 °C, поверхность покрыта жидкими углеводородами, – словом, такой химии, как на Титане, на Земле нигде не найдешь. Однако существует по крайней мере один довольно-таки очевидный метаболический процесс, который может идти на Титане и способен обеспечить живую материю полезной энергией. Это реакция водорода с ацетиленом. При температурах, при которых мы с вами живем здесь, на Земле, эта реакция – взрыв, производящий метан и много шума. На холодном Титане она невозможна без катализатора, зато в результате тихо и спокойно дала бы много энергии. Ученые уже размышляли о том, чтобы попытаться зарегистрировать эту реакцию и таким образом поискать на Титане признаки жизни. На первый взгляд идея безумная, однако не невероятная.
Отдельные подробности метаболических процессов могут быть разными, однако свидетельств в пользу того, что интегрированная система обмена веществ и геохимических изменений на Земле возникла случайно, очень мало. Напротив, как я уже говорил, судя по всему, это стойкая и надежная модель, которой вполне может руководствоваться любая действующая биосфера. Как же в нее вписываемся мы, люди? Жизнь в том виде, в каком мы ее воплощаем, развилась на основе микрокосма и до сих пор полностью интегрирована с ним: ведь именно от микромира всецело зависит и состояние окружающей среды на планете, и функционирование каждого из нас в отдельности. В какой степени это правда, мы только начинаем понимать, и об этом у нас и пойдет разговор.
Едва ли не самое революционное и неприятное для многих открытие в современной биологии состоит в том, что мы не индивидуальны в том смысле, в каком привыкли считать. На самом деле каждый из нас не «я», а «мы» – совокупность примерно из 10 триллионов эукариотических человеческих клеток, которые служат вместилищем и опорой для коллектива примерно из 100 триллионов отдельных микроорганизмов. Выводы, которые из этого следуют, поистине головокружительны и стремительно изменяют наши представления о человеческой физиологии и медицине. Добро пожаловать в тайный мир микрофлоры человека!
Большинство из нас не сталкиваются со своим микроскопическим багажом на непосредственном опыте. Мы не отбрасываем, словно шкуру, толстые слои микробов. Однако отчасти причина в том, что мы просто не видим эти организмы – они ведь маленькие, как и все прочие микробы, просочившиеся во все уголки нашей планеты. Клетка бактерии в десять раз меньше в поперечнике, чем наша собственная клетка, и совокупный вес наших микроскопических пассажиров, как полагает, у взрослого человека составляет меньше килограмма. Это около 1% нашей личной биомассы. Однако это и в самом деле целый микрокосм, неведомый и неожиданный мир, в который впервые заглянул Антони ван Левенгук, когда в 1674 году собрал первый микроскоп, и у научного сообщества ушло еще 300 лет на то, чтобы в полной мере оценить значение этого мира. Каждый из нас, подобно капельке озерной воды под линзой Левенгука, носит в себе свою микроскопическую Вселенную.
Первые настоящие попытки составить перепись этой популяции микробов[152], живущих «вместе» с человеком, едва начались. Современные инструменты генетического анализа позволяют нам описать практически любую среду, оценив многообразие определенных общих генов – участков ДНК, которые прямо отвечают за ту или иную ключевую биологическую функцию. Это дает нам возможность исследовать не только океанское дно, но и ландшафты собственных плоти и крови, – и получить результаты, над которыми стоит задуматься, поскольку они позволяют нам по-новому взглянуть на наше положение в микрокосме и в космосе.
Рассмотрим, к примеру, кто живет у нас в легких[153]. По нынешним оценкам на каждом квадратном сантиметре затейливой внутренней поверхности дыхательных путей человека живет более 2000 отдельных микроорганизмов, которые принадлежат как минимум к 120 разным видам. Общая площадь внутренней поверхности здоровой пары легких взрослого человека составляет примерно 70 квадратных метров – площадь стандартного теннисного корта. Таким образом, общая численность представителей этих 120 видов в нашем организме приближается к 1,5 миллиардам отдельных особей (и вполне вероятно, что это число на самом деле гораздо больше).
До самого недавнего времени считалось, что наши легкие, по сути дела, стерильны. Когда у людей брали пробы ткани или слизи и пытались вырастить на них бактерии, это ни к чему не приводило. Теперь мы понимаем, что все дело в том, что эти микроскопические обитатели наших легких попросту не размножаются вне привычной среды. Для выживания им нужна именно такая ниша.
От этого вполне может стать немного не по себе – но то ли еще будет! Чтобы оценить происходящее, стоит напомнить себе о генетическом коде человека, об информации, которая содержится в длинных молекулах ДНК, упакованных в ядрах каждой из наших эукариотических клеток. Длиной эта последовательность примерно в 3 миллиарда знаков. Геном человека содержит 20–25 тысяч отдельных генов, которые кодируют белки, и кажется, что это довольно мнго, пока мы не взглянем еще на одно микроскопическое сообщество – на буйные джунгли, процветающие у нас в пищеварительном тракте.
В 2010 году группа европейских ученых объявила, что произвела генетическую перепись микрофауны человеческого желудка и кишечника[154]. Ученые обнаружили более 1000 отдельных видов организмов, а у них – примерно 3,3 миллиона генов, поразительное количество, примерно в 150 раз превышающее наш человеческий набор. Более того, сосредоточившись менее чем на 10% всех видов бактерий в микрофлоре кишечника, биологи обнаружили в их генах около 30000 кодов неизвестных ранее белков. Похоже, эти живые существа, расположившиеся в человеческом организме, располагают удивительно богатым и разнообразным арсеналом биологических механизмов.
И это прекрасно, поскольку чем лучше мы изучим свою микрофлору, тем лучше поймем, в чем можно на нее рассчитывать. Иногда выгода самая прямая. Например, Bacteroides thetaiotaomicron, бактерия, обнаруженная в пищеварительных системах многих животных, способна расщеплять сложные углеводы на гораздо более простые сахара и другие молекулы, которые организм-хозяин может потребить. Наш генетический склад не позволяет вырабатывать ферменты, способные справиться с этими углеводами. Напротив, эта бактерия способна производить просто ошеломляющее количество ферментов – целых 260! Именно она превращает нас в самых настоящих травоядных, которые могут переварить и усвоить все, что нам нужно, из всевозможных фруктов и овощей. А иногда зависимость от микробов не очень заметна, но все равно сильна – они влияют, например, и на то, как у нас включается чувство голода и сытости, и на сложнейшие химические взаимодействия, которые помогают стабилизировать и контролировать фундаментальные реакции нашей иммунной системы. Многие биологи даже предложили считать микрофлору еще одним важным органом человека. А некоторые считают, что отделять наши гены от генов микробов бессмысленно, их следует рассматривать как единое целое. И вполне может оказаться, что в этом есть здравое зерно. Кроме того, у микрофлоры есть еще одно свойство, которое выводит наш разговор на новый уровень: наши одноклеточные спутники обладают ярчайшей индивидуальностью.
Когда ученые исследовали все многообразие видов микробов, которые живут у нас в организме, и подвергли их современным методам генетического анализа, то обнаружилось, что состав микробиологического населения организма у разных людей разный. Причем все еще зависит от того, о какой части тела мы говорим – о кишечнике, легких, руках, ротовой полости или каких-то других укромных уголках.
Например, мы считаем, что по составу микрофлоры кишечника люди делятся на три основных типа[155] или – согласно биологической терминологии – энтеротипа. Похоже, это никак не связано ни с полом, ни с возрастом, ни с ростом и весом; насколько микрофлора зависит от места жительства на Земле, нам пока неясно.
Из этого открытия следует, что каждый из нас помечен невидимым микробиологическим ярлыком, который наверняка что-то говорит о наших личных характеристиках – от того, как мы перевариваем и усваиваем пищу, до биохимии нашего организма в целом. Поскольку наши кишечные бактерии играют столь важную роль – например, вырабатывают ферменты, помогающие синтезировать витамины, – состав конкретной популяции, которую мы в себе носим, должен влиять на самые фундаментальные механизмы выживания и естественного отбора. Если я – носитель микрофлоры определенного типа, вероятно, я буду чувствовать себя в тех или иных условиях лучше или хуже, чем мой друг, принадлежащий к какому-то другому энтеротипу.
Почему мы допустили, что нас колонизировали микробы, вполне понятно – без них мы не смогли бы функционировать, однако мы еще не знаем точно, как именно и в какой момент нашего жизненного цикла это происходит. Похоже, многое закладывается в первые дни жизни при контакте с другими людьми и с окружением. Кроме того, накапливается все больше доказательств, что микробы заселяют нас еще в утробе матери, а в процессе родов и грудного вскармливания мы усваиваем еще больше бактерий от матери и из окружающей среды. Однако что в конечном итоге определяет энтеротип, когда мы становимся взрослыми, и в какой степени он может меняться с течением лет, до сих пор загадка.
Несомненно, чем больше мы будем узнавать о своей внутренней биологической Вселенной, тем больше сюрпризов нас ожидает. Современные ученые подозревают, что даже личностные качества и черты характера, например, дружелюбие и агрессивность, определяются химическим влиянием состава микрофлоры человека: прямо-таки теневая «микробная душа»[156]!
Мы далеко не настолько «индивидуальны», как когда-то думали, и из этого следуют далеко идущие выводы. Это означает, что у нас неожиданно много общего с планетой под нашими ногами. Мало того, что именно микроскопические организмы почти 4 миллиарда лет формировали среду нашего обитания на Земле – наше функционирование и эволюция[157], оказывается, прямо зависят от базового генетического набора планеты, который заключен и в наших собственных клетках, и в клетках наших пассажиров-бактерий. Похоже, от законов микрокосма нас практически ничего не отделяет.
Все, что мы знаем о природе жизни на Земле, многое говорит как о нашем значении, так и о значении всей жизни на планете. Мы как отдельный вид организмов-эукариотов представляем собой частный случай жизни во всем ее многообразии, однако это не обязательно придает нам какой-то особый статус в микрокосме. Со многих точек зрения имеет смысл пересмотреть иерархию жизни на Земле – поместить микробов на самый верх, а не внизу. Ведь наши издавна привычные способы классифицировать и каталогизировать биологические виды – всего лишь следствие того, на какой стадии понимания и открытий мы находимся. Современная схема «древа жизни», основанная на генетическом анализе, уже вносит существенные поправки в иерархию.
По биологическим понятиям «главные» организмы на планете, существа, которые и в самом деле определяют конкретную природу и историю жизненного ансамбля, возможно, не самые «сложные». Самые влиятельные члены сообщества жизни – не многоклеточные животные и растения, а организмы, которые в наши дни пользуются этими более громоздкими конструкциями как передвижной одноразовой средой обитания. А это бактерии и археи, которые за миллиарды лет глубочайшим образом переработали химическую и физическую среду на планете.
Возьмем, к примеру, людей. Для бактерий и архей, которым мы служим домом, мы представляем собой удобную в употреблении, гибкую систему. Физиология заставляет нас искать пищу, более того, нас тянет и на ту пищу, которая обеспечивает питательными веществами наших пассажиров-бактерий. К счастью, анатомическая структура и мозг дают нам средства, чтобы добывать пищу. Мы умеем и охотиться, и выращивать растения. Со временем мы сумели наладить глобальные сети производства и транспортировки пищи – своего рода шведский стол – и даже научились хранить ее в особых защитных помещениях, чтобы у нас и у наших пассажиров ни в чем не было нужды.
Кроме того, наш аналитический мозг придумал очень хитрые механизмы для поддержания бесперебойного функционирования не только нас как индивидуумов, но и целых групп и колоний. Мы разработали средства, позволяющие и повысить шансы на выживание в ближайшем будущем, и значительно продлить себе жалкий «срок годности» – это и одежда, и отопление, и жилища, и даже медицина с фармацевтикой. Однако ради чего это на самом деле сделано? Ради наших собственных нужд или ради потребностей наших микроскопических повелителей, дергавших за ниточки естественного отбора?
В качестве забавного мысленного упражнения подумайте о том, как охарактеризовали бы нас какие-нибудь беспристрастные сторонние наблюдатели. Нетрудно представить себе, что весь наш вид сочли бы популяцией биороботов, которой повелевают одноклеточные. Разумеется, весьма сложных и затейливых биооботов. Если хочешь создать передвижное жилище, способное приспосабливаться к обстоятельствам, за это надо платить – придется предоставить ему определенную автономию. Мы и сами создаем сложных роботов, которые выполняют механические задачи – одни и те же, зато с колоссальной точностью. И при этом снабжаем их рудиментарными способностями принимать решения, чтобы они лучше работали и лучше нам служили.
Скажем, современный автомобиль битком набит компьютерными системами и алгоритмами, которые позволяют машине делать «выбор» в сложившейся ситуации, чтобы оптимально расходовать ресурсы и обеспечивать безопасность тех, кто находится в салоне. Марсоходы, которые мы отправили исследовать красную планету, обладают некоторой способностью определять качество пути, по которому они следуют по поверхности планеты. В них встроены механизмы, позволяющие обойти то обстоятельство, что сигнал идет до Земли и обратно не меньше 20 минут, а это непозволительно много, если ты оказался на грани катастрофы. Можно сказать, что подобная инженерная оптимизация напоминает ту, что мы обнаруживаем в собственной биологии.
Из идеи, что люди – всего лишь биороботы для микробов, прямо следуют всевозможные выводы, и это, разумеется, влияет не в последнюю очередь на современную теорию эволюции и на представление о механизмах биологии развития, а к тому же, очевидно, и на наше представление о самих себе как личностях. Это, конечно, просто вопрос, а не серьезная гипотеза, просто альтернативная точка зрения на наше значение на Земле, которое к тому же соответствует более широкой картине планетного микромира и базовых наборов генов. Не будем же мы предполагать, что микроскопические пассажиры, которым выгодно наше существование (как и существование любого многоклеточного вида), активно планируют и направляют наше эволюционное поведение! Нет, такое может сложиться лишь благодаря тесным симбиотическим или эндосимбиотическим отношениям, и тогда любые перемены вызываются обоюдной выгодой.
Однако подобные идеи прямо связаны с нашим главным вопросом о космическом значении и вселенской уникальности. Думаю, что совокупность ограничений, которые налагают на многоклеточные формы жизни химия и биология, и перспектив, которые они же перед ней открывают, отражают еще один закон природы. Вероятно, микробам вообще нужно командовать более крупными организмами. Это еще одна поправка к общему рецепту жизни, который мы с вами расшифровываем. Можно добавить эту оговорку к базовому генетическому набору планеты и к тому, как организуются метаболические процессы из вездесущих углеродосодержащих молекул, которые создаются непосредственно по глубинным законам природы.
Это означает, что хотя наша личная биология и обладает отдельными чертами, которые и в самом деле можно назвать уникальными, то обстоятельство, что сложившийся на Земле базовый набор генов планеты обеспечил возникновение таких существ, как мы, не то чтобы неожиданно – и не будет неожиданным и в любом другом уголке Вселенной. Это очень важное соображение, однако пока что не будем слишком в него верить, поскольку нам предстоит разгадать еще много загадок.
Например, мы – всего лишь капля в океане биохимических соединений, который пропитывает внешние слои и атмосферу Земли. А в нем, в этом царстве всевозможных молекул, есть множество других, еще не до конца понятых областей, в том числе бездна вирусов и сонмища прионов – неправильно сложенных белков, которые, возможно, представляют собой отстойник для биохимических ошибок или запчастей. И все они играют отведенные им роли в биологическом эквиваленте субатомного, то есть квантового, мира (хотя их масштабы и сравнивать нечего). Там постоянно передают, обменивают, вставляют и убирают и целые крупные молекулы, и обрывки генетического кода. Пока что мы не разобрались во всей этой механике, однако она наверняка определяла ход истории нашей планеты.
Итак, есть все основания считать людей просто живыми существами, парящими в этом биологическом космосе. Но значит ли это, что на Земле мы ничего не значим?
Некоторые подсказки мы уже знаем – они у нас прямо перед носом. Когда речь идет об оценке собственного положения, есть один фактор, который неизбежно учитывается при всех разговорах о вселенской или провинциальной природе жизни. Это вопрос о разуме.
Как бы мы ни обожали своих котиков и собачек, с какой бы симпатией ни смотрели на шимпанзе, слонов и дельфинов, совершенно очевидно, что в целом люди значительно отличаются от животных. Сложность мозга, социальные структуры, которые мы создаем, когнитивные навыки – от речевых до творческих и логических, которые мы постоянно применяем, – все это находится в дальнем конце спектра подобных характеристик в целом по планете. Да, шимпанзе, крысы и даже вороны приближаются к нам по тонкости мышления и разделяют с нами значительную часть генома. А то, какую невероятную социальную структуру строят общественные насекомые вроде муравьев[158], даже может быть унизительно для нас, как, впрочем, и разнообразие средств связи, которые применяют различные живые существа по всей планете. Однако чтобы все это соединялось в одном организме, в одном существе – такого, пожалуй, больше на Земле не встретишь.
То, что в результате 4 миллиардов лет эволюции на планете у нас не возникло конкурентов, – серьезное препятствие на пути к пониманию нашего значения. Сразу возникает множество самых разнонаправленных вопросов. Например, как поспособствовал бы разум в более широком смысле эволюции на других планетах? Даже здесь, на Земле, скромный, но восхитительный осьминог, член семейства головоногих, обладает совсем не такой нервной системой, как у любого позвоночного вроде нас, однако способен необычайно ловко обращаться с разными предметами и не упускает возможности воспользоваться материалами вроде кокосовой скорлупы[159] примерно так же, как мы – различными орудиями. Может быть, где-то есть планета осьминогов?
Другой вопрос – насколько редко встречается разум именно нашей разновидности. Многие ученые на разных этапах развития науки выдвигали гипотезы, согласно которым мы обязаны своим «возвышением» как биологический вид тому или иному уникальному свойству своего физического или умственного склада. Считалось, что за наше выживание и эволюцию именно нашего разума следует благодарить то ли человеческую руку, то ли языковые способности, то ли всеядность, то ли социальный склад – и этим список не исчерпывается. Однако ни одно из этих качеств не представляет собой неизбежный результат естественного отбора. Не исключено, что достались они нам лишь по воле слепого случая: ведь такой мозг, как у нас, возможно, появился только один раз за почти 4 миллиарда лет эволюции жизни на Земле. Едва ли это свидетельствует о мощной эволюционной стратегии.
Все эти умозрительные заключения подтверждают гипотезу о том, что Земля сама по себе редкость, весьма маловероятный мир, где наше существование стало результатом череды удачных и неудачных совпадений. Может быть, и так. Но, хотя подобная точка зрения, вероятно, и верна, наши представления вполне могут быть искажены, поскольку некоторые статистические обстоятельства провоцируют нас на чудовищно неверные интуитивные догадки, о чем я еще расскажу в следующей главе.
Масла в огонь этих споров подлил информационный бум последних лет по поводу того, что, собственно, делает нас людьми. И палеонтологические открытия, и генетические анализы складываются в фантастически интересную картину того, откуда мы взялись и что представляем собой с точки зрения эволюции. Одни недавно обнаруженные аспекты нашего существования говорят нам, что нам очень повезло, что мы вообще живем на свете, зато другие указывают, что при постоянном изучении новых стратегий выживания путем естественного отбора и эволюции всегда можно открыть новые перспективы, и это отчасти объясняет существование таких, как мы.
К примеру, генетические исследования показывают, что 123000–195000 лет назад[160] популяция современых с биологической точки зрения людей резко сократилась – их было более 10000, а осталось несколько сотен. Что случилось, мы не знаем, но, скорее всего, в этом в какой-то степени виноваты изменения климата. Примерно тогда начался длительный ледниковый период, который, видимо, существенно изменил распространенность растений и животных и границы климатических зон. Многие земли с умеренным доселе климатом пришли в запустение, площадь пригодных для обитания областей, скорее всего, сократилась.
Однако некоторым людям все же удалось выжить – возможно, за счет собирательства[161] в плодородных экваториальных прибрежных районах, где обнаружены следы бесчисленных трапез, состоявших из моллюсков. Все мы, ныне живущие, происходим от этой горстки людей, которые жили где-то в центральной или южной Африке более ста тысяч лет назад. Не нужно обладать развитым воображением, чтобы понять, что тут-то современные люди вполне могли исчезнуть. Достаточно было эпидемии или дальнейшего ухудшения климата – и эти несколько сот особей вымерли бы. Наш вид спасся сразу после возникновения по чистой случайности, однако очень может быть, что избежать вымирания нам помог и разум.
Этот период пережили не только мы. Одновременно с современными людьми по Земле ходил по крайней мере еще один вид двуногих, способных создавать орудия труда. По нашим представлениям, примерно 600000 лет назад вид, который мы теперь называем неандертальцами, мигрировал из Африки в Европу. В целом неандертальцы были очень похожи на нас, однако имелись и существенные различия. Это была другая разновидность прямоходящих родственников обезьян, и мы считаем, что они развились из более раннего вида – мы с ними произошли от общего предка. Неандертальцы были отнюдь не глупы, они изготавливали орудия из камня и кости и создавали общественные структуры.
Однако примерно 28000 лет назад неандертальцы постепенно вымерли[162]. В чем было дело, мы не знаем. Определенную роль в этом, возможно, сыграли дальнейшие изменения климата, а может быть, и конкуренция с современными людьми. Однако стоит отметить, что отчасти неандертальцы остались с нами: генетический код жителей Евразии совпадает с кодом неандертальцев, и это совпадение составляет от одного до четырех процентов. Нам это известно, поскольку мы сумели расшифровать крупные фрагменты генетической последовательности из останков неандертальцев[163] – удивительная и немного жутковатая детективная работа. А значит, когда-то, спустя некоторое время после того, как почти вымершая популяция современных людей сумела переселиться на север планеты и там процветать, имело место скрещивание с неандертальцами. После чего мы выжили, а они нет.
В дополнение к подобным исследованиям, из которых становятся ясны подробности нашей зачастую бурной истории, был сделан и целый ряд открытий, касавшихся фундаментальных молекулярных механизмов, благодаря которым мы выделились в отдельный вид.
Все это опять же возвращает нас к вопросу о собственном значении, так как здесь заключены прямые указания на то, чем же наш разум так примечателен. С генетической точки зрения современные люди отличаются от шимпанзе всего лишь примерно на 1,2%, а пока мы искали разницу, то обнаружили, какие конкретные функции закодированы в этих генах – то есть какие функции можно считать исключительно человеческими. Некоторые участки ДНК, которые у людей и шимпанзе особенно сильно различаются[164], и в самом деле прямо связаны именно с теми чертами, которые отличают нас от прочих живых существ.
Например, последовательность под названием HAR1 (От слов «human accelerated region» – «зона ускоренного развития у человека»), вероятно, связана с развитием коры головного мозга. А другая последовательность – HAR2 – участвует в развитии эмбриона человека и в формировании наших запястий и больших пальцев на руках, которые, в сущности, и обеспечивают нам возможность манипулировать с материалами и пользоваться орудиями труда. Последовательность под названием LCT связана со способностью переваривать лактозу, то есть питаться молочными продуктами, у взрослых. Интересно, что по данным исследований эта последовательность по эволюционным меркам появилась у нас совсем недавно – и в самом деле, ею обладает лишь треть населения Земли (но 80% людей европейского происхождения). Многие современные виды млекопитающих в раннем детстве могут переваривать молочный сахар, однако утрачивают эту способность, когда становятся взрослыми. Примерно 9000 лет назад для какой-то группы людей все изменилось, поскольку появилась версия последовательности LCT, которая и до сих пор вырабатывает у взрослых необходимые пищеварительные ферменты. С тех пор содержание домашних животных стало гораздо выгоднее.
Есть и другие важные последовательности, связанные с приспособляемостью человека. Скажем, AMY1 – она участвует в производстве фермента, который позволяет нам переваривать крахмал лучше многих других видов. ASPM – последовательность, определяющая размеры человеческого мозга. А самая, пожалуй, обескураживающая последовательность – это FOXP2, которая, по мнению исследователей, помогает нашим лицам и ртам двигаться так, чтобы издавать всевозможные звуки речи с нужной интонацией. Похожие последовательности есть и у большинства других млекопитающих, однако человеческая версия сильно отличается, скажем, от версии у шимпанзе. А без речи наши поразительные общественные структуры и способность передавать сведения и делиться опытом были бы, конечно, совсем иными. Этот участок ДНК длиной в каких-нибудь 2285 оснований нуклеиновых кислот, вероятно, и сделал нас людьми.
Генетические различия между нами и нашими ближайшими родственниками – шимпанзе – не всегда нас радуют. В наших генах сохранились свидетельства о древних битвах с ретровирусами – структурами, которые для воспроизведения внедряют свой генетический материал в ДНК хозяина. В некоторых случаях мы выходили из этих битв с новым кодом, который позволяет нам сопротивляться этим коварным возбудителям болезней гораздо лучше, чем другие приматы. Однако те же самые гены в наши дни делают нас более беззащитными, чем наши родичи-обезьяны, перед другими ретровирусами, например, ВИЧ. Наша генетическая история, как и битвы за жизнь, разыгравшиеся более ста тысяч лет назад, не обошлась без опасностей и без игры случая.
Мы продолжаем разбираться в деталях молекулярной машинерии, которая определяет, как мы функционируем, однако пока не можем связать свои открытия с ответом на главную загадку – как мы появились. Очевидно, что выработке действенной стратегии выживания очень поспособствовал разум[165]. Но наша бурная история преодоления барьеров естественного отбора этим не исчерпывается. Сыграло свою роль и многое другое – способность переваривать определенную пищу, брать предметы, приспосабливаться к определенному диапазону температур и влажности, а также внешние движущие силы – климат и успехи и неудачи других биологических видов.
Но при всей нашей уникальности история вида homo sapiens во многом повторяет историю любого другого вида многоклеточных живых существ на нашей планете. У каждого свои особые гены, свои эволюционные сдвиги, как удачные, так и неудачные. За все это отвечает биохимическая инженерия. Это словно система из встроенных друг в друга механизмов – вплоть до фундаментальной структуры атомов, и до квантового субатомного мира. Эволюция, этот великий экспериментатор, представляет выбор из миллиардов вариантов – колоссальную сеть различий и взаимодействий. Узор этой сети, внедренный в наш ядерный набор генов, имеет скорее универсальное, чем местное значение. И может быть, разумная многоклеточная жизнь с большей вероятностью могла возникнуть именно на основе подобных сетей при условии, что эволюция предоставляла ей необходимые возможности и варианты.
Итак, можно ли сказать, что наша разновидность разума единственная в своем роде, незаурядна, крайне маловероятна? С нашей ныненей точки зрения, судя по всему, так и есть. Однако это не только противоречит самой сути коперникова мировоззрения – ведь получается, что с космической точки зрения мы очень даже примечательны, – но к тому же такую гипотезу на сегодня невозможно проверить. Мы сумеем это сделать не раньше, чем придумаем, как оценить вероятность развития разума на нашей планете в тех случаях, если бы это развитие пошло по другим возможным ветвям древа жизни, а главное, поймем, могли ли произойти подобные судьбоносные события где-нибудь еще, кроме нашей Земли. Так биологическая Вселенная сталкивает нас лицом к лицу с величайшей загадкой на всем пути к пониманию своего места в мироздании.
Одни ли мы во Вселенной?
Охотники на космических просторах
Если бы меня попросили назвать две черты, которые точно и оптимистично отражают суть человека как биологического вида, я бы сделал ставку на воображение и непоседливость. Доказательства тому повсюду. Возьмем хотя бы то, как мы выражаем свое любопытство и досаду по поводу своего места во Вселенной. О постоянных размышлениях на эту тему свидетельствуют находки, фантазии и данные наблюдений тысячелетней, пятитысячелетней, даже двадцатитысячелетней давности. Хотя антропологи еще спорят по поводу того, какие мотивы стояли за древнейшими пещерными рисунками и скульптурами[166], лично мне кажется, что одна из самых правдоподобных гипотез – та, согласно которой они отражают попытки первобытных людей проанализировать свою Вселенную, состоявшую из животных, пейзажей и ритуалов. Возникает искушение поверить, что подобные рисунки и предметы – просто способ скоротать унылую зиму, но даже если так, мне поневоле кажется, что занятия эти были целенаправленными и осознанными – возможно, наши предки пытались расклассифицировать данные наблюдений, которые плохо складывались в рациональную картину мира. И ведь это происходило не в единичных случаях, а передавалось из поколения в поколение. Самые абстрактные из древних изображений и статуэток – это странные гибриды человека и животных, всевозможные богини-матери и чудовища. Какие-то болезненные сны. Мне кажется, что это свидетельство лихорадочной работы мозга, который пытался залатать пробелы в познаниях и понять Смысл Жизни. Если для того, чтобы все кругом стало понятно и логично, нужно придумать невидимые сущности и силы, – что ж, да будет так.
То же самое можно сказать и о попытках понять, какое отношение небеса имеют к Земле, Солнцу и Луне: для этого зачастую приходилось проводить связывать планеты и созвездия с богами и фантастическими животными, иначе было не объяснить закономерности, которые мы наблюдаем. Неразрешимой загадкой была для человека и природа времени, причем как для наших предков, изучавших окружающий мир, так и для нас, людей XXI века, строящих теории устройства Вселенной. Похоже, мироздание охотно принимает перемены на любом физическом уровне – движется вперед, отказывается от слабого и устаревшего. Выветриваются скалы, гниют и распадаются останки живых существ. Но при этом мы наблюдаем и регистрируем жесткие закономерности – смену времен года, лунные циклы, медленные колебания климата. Все возвращается на круги своя. Наблюдая циклы биологической жизни, мы, люди, обобщили их и изобрели концепцию бесконечного повторения и возрождения в космических масштабах[167] – концепцию, которая в различных вариантах охватывала самые разные культуры и сохранялась на протяжении эпох.
Все это неустанное творчество – рисунки, схемы, попытки отсчитывать время – основано на жажде ясности в космических масштабах. Мы снова и снова возвращаемся к вопросу о том, есть ли жизнь «еще где-нибудь» в пространстве или во времени. И все же все легко согласятся, что у нас никогда не было никаких данных[168] ни о наличии, ни об отсутствии жизни на других планетах. Не хочу никого огорчать, но так и есть, и именно поэтому нам очень повезло, что мы изобрели себе в утешение пиво и шоколад.
Но гнетущее одиночество и незнание ничуть не мешали нам на протяжении тысячелетий выступать с грандиозными гипотезами. Едва ли не самое интересное и соблазнительное направление мысли о природе жизни за всю историю человечества – это идея множественности миров. С ней мы уже сталкивались; человечество вынашивало ее долго, еще со времен великих философов античности.
Древние греки, и прежде всего атомист Демокрит, полагали, что у реальности зернистая структура, состоящая из неделимых атомов и пустоты, а из этого следовало, что существует бесконечное множество разнообразных небесных тел, планет, солнц и лун. Причем мыслители древности не предполагали, что все эти тела существуют в пределах осязаемой Вселенной – возможности для наблюдений были весьма ограниченны: просто они «где-то есть». Такое необычайно широкое мировоззрение привело некоторых сторонников этой философской школы, например, Метродора, жившего в IV веке до н. э., к идее, что было бы очень странно и невероятно, если бы в бесконечном пространстве нашлось только одно место, подобное нашей Земле. Но когда несколько десятилетий спустя на сцену вышел Платон и его последователи, в том числе и Аристотель, они умудрились задавить эту идею и утверждали, что Земля – это венец творения и центр мироздания.
Несмотря на периоды забвения, идея, что на свете существует множество других миров, как я уже говорил, продолжала занимать воображение человечества. Прошло много лет с тех пор, как Греция в III веке до н. э. отказалась от подобных представлений, и идея множественности миров снова заявила о себе – сначала в Средние века на Ближнем Востоке, а потом в конце XVI века, когда Джордано Бруно и его единомышленники всецело согласились с принципом Коперника и со всеми его следствиями. В самом деле, когда Коперник сместил Землю с центрального места в мироздании, это открыло прямую дорогу к возрождению идеи множественности миров, и в последующие столетия она обрела немалый вес. А с точки зрения темы этой книги особенно интересно, что идея множественности миров зачастую становилась неотделимой от идеи, что эти миры еще и обитаемы. Множественность миров означала множественность жизни. Во многих отношениях такой вывод вполне логично следует из модели Коперника: Земля не центр мироздания, в ней нет ничего необычного.
В конце XVIII века блистательный Вильям Гершель[169], английский астроном немецкого происхождения, открывший планету Уран, присоединился к дискуссии о жизни на других планетах. Ему, как и многим другим ученым, казалось логичным и естественным, что другие планеты не пусты и бесплодны, а густо населены людьми и животными. К тому же подобная логика оставляла утешительную возможность, что где-то еще существуют такие же общественные и религиозные установления, что позволяло убить разом двух зайцев: и остаться на заурядной позиции по Копернику, и сохранить свое вселенское значение, поскольку получалось, что мы – важная часть мироустройства в целом. Ведь если мы в пасторальной Англии пьем чай в пять часов и посещаем церковь по воскресеньям, наверняка на Марсе все точно так же – ведь иначе нельзя!
Иногда Гершель давал волю фантазии еще сильнее. Например, он предполагал, что разумные существа живут и на Луне, и даже объявил, что видел в телескоп что-то очень похожее на лес в одном из лунных морей, они же равнины: «Внимание мое было в основном поглощено Морем Влажности, и теперь я полагаю, что оно представляет собою лес – разумеется, в широком смысле этого слова: оно покрыто крупными растущими субстанциями… и я полагаю, что по опушкам леса растут деревья, которые должны быть высотою в 4, 5 или 6 раз больше наших, иначе их не было бы видно. Однако мысль о лесах, лужайках и пастбищах по-прежнему представляется мне весьма правдоподобной…»
Мало того, Гершель считал, что у Солнца есть раскаленная атмосфера, которая покрывает его холодную поверхность, и что именно она виднеется сквозь пятна (Гершель ошибочно полагал, что это просветы в горящем газе). Разумеется, Солнце тоже обитаемо. Как писал Гершель в 1794 году, «Солнце… судя по всему, не что иное, как очень примечательная, большая и светоносная планета… что ведет нас к предположению, что и оно, весьма вероятно, тоже обитаемо, как и прочие планеты, и населено существами, чьи органы приспособлены к необычным условиям на этой огромной сфере».
Представления Гершеля о жизни на Луне и Солнце, конечно, были далеки от общепринятых, однако и не то чтобы маргинальны. О возможности жизни на других планетах Солнечной системы задумывался даже знаменитый Пьер-Симон Лаплас, гениальный французский физик и математик. А несколько позднее, в 1830-е годы, Томас Дик[170], шотландский священник и астроном-любитель, человек научного склада, не пожалел усилий для оценки численности живых существ во всей Вселенной. Исходил он из предположения, что плотность населения на любой другой планете или астероиде равна плотности населения Соединенного Королевства в те годы – современному человеку очевидно, что это феерическая глупость.
Из этого Дик сделал вывод, что на Венере живет более 50 миллиардов особей, на Марсе – 15 миллиардов, а на Юпитере, страшно сказать, целых 7 триллионов. Далее Дик прибегает к еще более вольным обобщениям – и предполагает, что на кольцах Сатурна живет около 8 триллионов живых существ. На одних только кольцах! В итоге этой неуемной экстраполяции Дик оценил численность населения Солнечной системы примерно в 22 триллиона, не считая Солнца, на котором, по его мнению, может обитать в 31 раз больше живых существ. Останавливаться на достигнутом Дик не пожелал. Он оценил, что во всей Вселенной насчитывается свыше 2 миллиардов планет, каждая из которых тоже обитаема, и плотность ее населения примерно такая же, как и на его родном острове в 1830-е годы. Конечно, теперь-то мы понимаем, что такая оценка прискорбно занижена, однако надо отдать Дику должное: в его времена никто не знал подлинных размеров и масштабов Вселенной.
Мотивы, которые вдохновили Дика на эти оценки (само собой, это были крайние проявления плюралистического мировоззрения), стоит принимать во внимание и сегодня, поскольку они свойственны многим серьезным ученым. В те годы не было никакой возможности добыть неопровержимое доказательство, что другие планеты обитаемы или, наоборот, необитаемы, и многим было проще принять как данность, что жизнь где-то есть. Даже самые лучшие телескопы того времени едва ли позволили бы всерьез подтвердить или опровергнуть наличие признаков жизни на других планетах. Нечего было и мечтать получить изображения с необходимым разрешением и своими глазами пронаблюдать суету внеземных существ.
А поскольку никаких свидетельств о существовании или невозможности жизни на других планетах, кроме Земли, у человечества не было, изобилие жизни на всех небесных телах казалось естественным следствием существования планет как таковых: жизнь виделась словно дополнительный слой вещества на планете, помимо камня и почвы. Если жизни на других планетах нет, надо найти основательную причину, почему так вышло. С подобной логикой трудно спорить. Ведь все, что выделяет Землю из массы других планет, должно нас смущать, если мы совершенно согласны с Коперником, а научное сообщество было с ним согласно. Проще было заселить весь космос, чем признать, что Земля уникальна.
Однако время шло, телескопы стали несоизмеримо мощнее, а наши представления о свойствах жизни как таковой необратимо поменялись, поскольку мы поняли, что живые организмы – не неизменная данность. Это продукт постоянного сложного процесса эволюции и естественного отбора. И по мере развития этого направления научной мысли в какой-то момент планеты перестали по умолчанию означать жизнь. Живые организмы не возникают ниоткуда. Теперь мы понимаем, что жизнь могла появиться в определенных местах, а могла и не появиться. Самые радикальные идеи о множественности обитаемых миров мало-помалу исчезли, и сегодня все согласны, что место им на свалке истории. Исследования Солнечной системы похоронили всякую надежду на наличие сложных форм жизни на Луне, Венере и прочих соседних небесных телах. И хотя теперь мы понимаем, что во Вселенной неисчислимое множество других планет, нам также известно, что не на всех из них могут жить существа вроде нас – тамошние условия этого не позволяют.
В результате мы застряли в очень интересной интеллектуальной точке, поскольку Вселенная очень велика, с этим не поспоришь. В пределах наблюдаемой области – на расстоянии, куда успел добраться свет за 13,8 миллионов лет с момента Большого Взрыва – насчитываются несколько сотен миллиардов галактик и – теоретически – более миллиарда триллионов звезд[171]. При этом в каждый момент до нас доходит не одномоментный срез, а разномоментный слепок Вселенной – комбинация бесчисленных моментов, далекий свет которых дошел до нас с разного расстояния именно сейчас. Задайтесь вопросом, сколько звезд существовало во Вселенной за последние 13,8 миллиарда лет – и у вас не просто затрещит голова от попыток разобраться в концепциях пространства и времени в релятивистском космосе, но еще и придется отрастить очень длинные руки, чтобы показывать в воздухе, какое большое число в результате получается.
Этот эмпирический факт имеет непосредственное отношение к нашему основному вопросу о нашем месте в мироздании – простому и древнему вопросу о том, есть во Вселенной еще кто-нибудь или нет. Если мы понимаем, что Вселенная очень велика, ответ на него будет совсем не такой, как в случае, если бы Вселенная была малюсенькая и подходящих мест в ней было мало, и этот ответ мы уже слышали и даже, возможно, сформулировали самостоятельно. Поскольку Вселенная очень велика и наполнена миллиардом триллионов звезд, наверняка где-то да найдется кто-то похожий на нас.
На первый взгляд утверждение вполне логичное. Однако, даже если видимая Вселенная неимоверно огромна, обязательно ли из этого следует, что где-то в ней должна быть жизнь? Вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной, тоже многослоен. В частности, когда мы его задаем, то, подобно нашим предкам, сторонникам идеи множественности обитаемых планет, обычно имеем в виду, есть ли во Вселенной существа вроде нас – мыслящие, рефлексирующие существа, создавшие технологию и философию, существа со своими верованиями и теориями, со своим искусством, поэзией и, конечно, наукой. Как и во многих других случаях, когда какие-то явления нашего мира представляются нам очевидными, имеет смысл на миг взглянуть на все со стороны и задуматься о подробностях. Главный вопрос – можем ли мы подвергнуть все следствия из того, что Вселенная так велика, строгому математическому анализу. Можем ли мы сформулировать достоверный научный ответ, который позволит нам избавиться от весьма понятных и естественных для человека фантазий сторонников идеи множественности миров, сбросить старые добрые розовые очки?
Оказывается, можем. И формулировка подобного ответа лежит в неожиданной области – ее дает нам теория вероятности.
Когда читаешь биографические сведения о Томасе Байесе[172], невольно замечаешь одно забавное обстоятельство: многие из них начинаются с утверждения, что родился он, вероятно, в 1701 году. В сущности, исторические данные о его жизни и даже о его математическом наследии полны неопределенностей, поскольку документов сохранилось относительно мало, а сам ученый, похоже, не особенно стремился опубликовать все свои научные труды (если учесть, чем он, собственно, прославился, становится понятно, какой это восхитительный парадокс). Достоверно нам известно немногое: Байес был сыном английского пресвитерианского священника и изучал математику и богословие в Эдинбургском университете, а в конце 1720 года был рукоположен в сан.
Примерно тогда же Байес опубликовал свой богословский труд, однако на самом деле в это время его обуревали научные интересы. Ньютонова теория дифференциального исчисления, которую тогда чаще называли «методом производных», еще не стала общепринятой. В сущности, метод производных позволяет описывать скорость изменения любой математической функции, от дуги, по которой летит пушечное ядро, до изгиба поверхности, по мере изменения параметров этой функции, и опирается он на деление на бесконечно малые части. Словом «производные» Ньютон обозначал само понятие течения, переменчивости.
Помимо богословских работ, за всю жизнь Байес официально опубликовал лишь одну научную работу, и это была попытка поддержать теорию Ньютона при помощи более строгих доказательств математических свойств производных. Казалось бы, это не слишком увлекательно, однако подобной работы было достаточно, чтобы обеспечить Байесу желанное для многих место в Королевском научном обществе и вдохновить его на продолжение научных изысканий.
В дальнейшем Байеса заинтересовала теория вероятности – отрасль математики, возникшая лишь за сто лет до этого. Интерес был достаточно рискованный, не в последнюю очередь потому, что теория вероятности занималась вопросами, которые могли смутить человека, обладавшего твердой верой в высшую силу. Ученые начали понимать, что во Вселенной есть место неопределенности в буквальном смысле слова, что события могут происходить совершенно случайно, без цели и умысла. Это открытие имело далеко идущие следствия – оно знаменовало сдвиг в наших представлениях об устройстве мироздания.
Однако лишь в 1761 году, когда после смерти Байеса его друг Ричард Прайс[173], философ и проповедник, разобрал его архив, было обнаружено, что Байес существенно продвинулся на пути к решению одной из самых наболевших проблем, занимавших центральное место в теме математических «случайностей». Именно Прайс собрал воедино наследие Байеса и спустя два года после его смерти добился, чтобы Королевское общество опубликовало его труды. В результате мы помним Байеса в основном за то, что он решил задачу, которая в то время называлась «обратной вероятностью». В наши дни этот термин используется редко, вместо него чаще употребляется словосочетание «апостериорная вероятность». В последующие десятки и сотни лет многие ученые, в том числе, например, Пьер-Симон Лаплас, независимо открыли и развили подобные понятия, и теперь на них строится почти вся современная наука. Однако имя Байеса стоит особняком и увековечено в названии «Теоремы Байеса»[174], в которой отражена суть его последней и величайшей работы по теории вероятностей.
Формулировка теоремы очень проста. Она позволяет математически вычислить вероятность, что та или иная модель или гипотеза верна, при наличии набора наблюдений. А главное – она сводится к тому, как найти точку зрения, позволяющую адекватно оценить свою уверенность в точности теории или прогноза.
Суть этого фундаментального метода можно пояснить при помощи небольшой аллегории, которую придумал и опубликовал в виде примечания[175] к посмертной публикации труда Томаса Байеса его друг Прайс. Перескажу ее своими словами. Жил-был математически одаренный, но, к сожалению, крайне наивный цыпленок. Вылупившись из яйца, он в первый день своей жизни с удивлением обнаружил, что Солнце пересекает небосклон и скрывается из виду. Цыпленок не знает, увидит ли он когда-нибудь снова этот сверкающий диск. Поскольку он обладает аналитическим складом ума (что для цыпленка просто поразительно), то формулирует простую гипотезу: вероятность того, что Солнце появится снова, равна вероятности того, что этого не произойдет, то есть шансы распределяются как 1 к 1 или 50 на 50.
Разумеется, проходит несколько часов, и Солнце восходит. Снова пересекает небосклон и снова исчезает. Цыпленок решает пересмотреть свои ожидания (или уверенность в своих прогнозах). Он наблюдал уже два восхода, однако по-прежнему остается вероятность, что это не повторится, поэтому шансы на третий восход составляют уже 2 к 1 (66,7%). Со следующим восходом цыпленок снова пересматривает свой прогноз – теперь шансы, что назавтра Солнце вернется, уже 3 к 1 (75%). С каждым днем цыпленок уверяется в неизбежности восхода все сильнее и сильнее – и шансы на восход все ближе и ближе к 100%. К сотому утру подросший петушок уверен, что Солнце взойдет, уже на 99% – и ко всеобщей досаде решает, что можно больше не просыпаться ни свет ни заря, чтобы прокукарекать перед рассветом.