Космос. Эволюция Вселенной, жизни и цивилизации Саган Карл
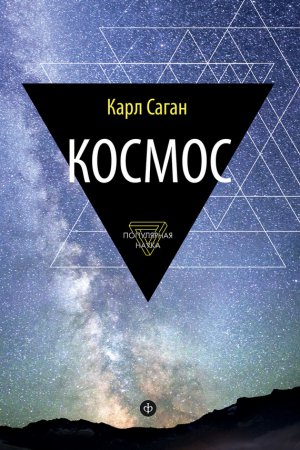
Возможно, крупные живые организмы и существуют на Марсе, но не в тех двух местах, что были выбраны для посадки. Не исключено, что малые организмы таятся в каждой скале, на каждой песчинке. Большую часть своей истории районы Земли, которые не покрывала вода, по виду очень напоминали современный Марс: богатая углекислотой атмосфера, палящий ультрафиолет, беспрепятственно доходящий до поверхности через воздух, лишенный озона. Крупные растения и животные заселили сушу лишь в последние 10 процентов истории Земли. А в течение трех миллиардов лет повсюду на Земле обитали одни микроорганизмы. Чтобы найти жизнь на Марсе, нам следует искать микробов.
Посадочный модуль «Викинга» простер сферу восприятия человеческих чувств до ландшафтов чужого мира. Одни оценки по сложности устройства приравнивают этот аппарат к саранче, другие — к бактерии. В таком сравнении нет ничего уничижительного. Природе потребовались сотни миллионов лет, чтобы создать в ходе эволюции бактерию, и миллиарды лет, чтобы появилась саранча. Опыт наш в такого рода делах пока невелик, но мы быстро набираемся мастерства. Подобно нам, «Викинг» имел два глаза, но они работали также в инфракрасном диапазоне, в котором мы не видим. Он был снабжен рукой-манипулятором, способной передвигать камни, копать почву и отбирать ее образцы; чем-то вроде пальца, который он поднимал кверху, чтобы измерить скорость и направление ветра; аналогами обонятельных и вкусовых рецепторов, намного более чувствительными, чем наши, обнаруживающими самые незначительные следы веществ; «внутренним ухом», одинаково чуткими к отзвукам марсотрясений, и к мягкому покачиванию аппарата под порывами ветра; средствами для выявления микробов. Энергией космический аппарат снабжал автономный радиоактивный источник. Всю собранную научную информацию «Викинг» по радио передавал на Землю. А с Земли получал инструкции, так что люди могли обдумать значение полученных результатов и дать аппарату новую команду.
Но каков все-таки оптимальный способ поиска микробов на Марсе при имеющихся жестких ограничениях на размер, стоимость и потребление энергии? Мы не можем, по крайней мере пока, отправить туда микробиолога. Когда-то у меня был друг, выдающийся микробиолог, Вольф Вишняк из Рочестерского университета, в штате Нью-Йорк. В конце 1950-х годов, когда мы только начинали серьезно задумываться о поисках жизни на Марсе, он оказался на научном совещании, где один астроном выразил удивление, что у биологов нет простого, надежного автоматического инструмента, способного обнаруживать микроорганизмы. Вишняк решил попытаться создать нечто подобное.
Он разработал маленькое устройство для отправки на планеты. Его приятели называли это «волчьей ловушкой»[94]. Требовалось доставить на Марс небольшой сосуд с питательными органическими веществами, поместить в него образец марсианской почвы, перемешать и вести наблюдение за тем, как по мере роста (если он будет) марсианской «живности» (если она существует) меняется замутненность жидкости. Волчья ловушка была отобрана наряду с тремя другими микробиологическими установками для оснащения посадочных аппаратов «Викинг». Два из трех других экспериментов также предполагали отправку пищи марсианам. Успех охоты с волчьей ловушкой зависел от того, любят ли обитатели Марса жидкую воду. Кое-кто считал, что Вишняк просто утопит маленьких марсиан. Несомненным достоинством волчьей ловушки было то, что она оставляла за марсианскими микробами свободу распорядиться пищей как им угодно — лишь бы росли. Прочие опыты строились на предположениях о том, какие газы должны выделяться или поглощаться микробами, предположениях, которые, по большому счету, были лишь догадками.
Бюджет национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), которое осуществляет американскую программу межпланетных исследований, часто подвергается непредвиденным сокращениям. Гораздо реже случается, чтобы его вдруг увеличили. Исследовательские программы НАСА пользуются очень небольшой поддержкой в правительстве, и потому наука чаще всего попадает под удар, когда возникает необходимость отобрать деньги у НАСА. В 1971 году было решено поступиться одним из четырех микробиологических экспериментов, и выбор пал на волчью ловушку. Для Вишняка, который потратил на нее двенадцать лет, это стало сокрушительным разочарованием.
Многие на его месте могли бы вовсе уйти из биологической группы проекта «Викинг». Но Вишняк был мягким и преданным делу человеком. Он решил, что сможет лучше послужить поиску жизни на Марсе, если отправится в тот район Земли, где условия более всего похожи на марсианские, — в свободные ото льда антарктические оазисы. Исследователи, уже изучавшие антарктическую почву, полагали, что немногочисленные микробы, которых им удалось там обнаружить, не местного происхождения, а занесены ветром из районов с более мягким климатом. Вишняк же, памятуя об экспериментахс марсианскими консервами, считал, что жизнь обладает прекрасной способностью к адаптации и что в Антарктиде вполне может быть своя микрофлора. Если земные микроорганизмы могут жить на Марсе, думал он, то почему не в Антарктиде, где гораздо теплее, выше влажность, больше кислорода и не такое интенсивное ультрафиолетовое излучение. По его мысли, обнаружение жизни в антарктических оазисах увеличивает шансы найти ее и на Марсе. Вишняк считал несостоятельными экспериментальные методы, которые использовались ранее для доказательства того, что в Антарктиде нет местных бактерий. Питательные вещества, подходящие для комфортных условий университетской микробиологической лаборатории, не годились для безводной полярной пустыни.
Итак, 8 ноября 1973 года Вишняк, вооруженный новым микробиологическим оборудованием, и его напарник-геолог были доставлены вертолетом со станции Мак-Мердо в оазис горного массива Асгард, вблизи горы Балдера. Задача Вишняка сводилась к тому, чтобы поместить в антарктическую почву ряд небольших микробиологических станций и вернуться за ними месяц спустя. Десятого декабря он отправился собирать образцы на горе Балдера. На фотографии, сделанной с расстояния три километра, видно, как он уходит. Это был последний раз, когда его видели живым. Спустя восемнадцать часов его тело нашли у основания ледяного обрыва. Он заблудился, попал в неисследованный район и, вероятно поскользнувшись на льду, упал с крутого склона высотой 150 метров. Может быть, он увидел что-то неожиданное, например место, подходящее для жизни микробов, или клочок зелени там, где ее не должно быть. Но если и так, мы этого никогда не узнаем. Последняя запись в небольшом коричневом блокноте, который он взял с собой в тот день, сообщает: «Извлечена станция 202. 10 декабря 1973. 2230 часов. Температура почвы -10°. Температура воздуха -16°». Это были типичные для Марса летние температуры.
Многие микробиологические станции Вишняка так и остались в Антарктиде. Но те из них, которые удалось вернуть, его коллеги и друзья исследовали, пользуясь разработанными им методами. И в каждом были найдены разновидности микробов, которые не удалось бы обнаружить при помощи обычных приемов. Его вдова Елена Симпсон-Вишняк выявила в образцах новый вид дрожжевой культуры, по-видимому, уникальный для Антарктики. В больших камнях, привезенных этой экспедицией из Антарктиды, Имре Фридман[95] обнаружил крошечный, но удивительный микробиологический мир: в мельчайших включениях жидкой воды, таящихся на глубине один-два миллиметра внутри камня, поселились водоросли. На Марсе подобный выбор местообитания оказался бы еще более удачным, поскольку видимый свет, необходимый для фотосинтеза, может проникнуть на такую глубину, тогда как смертельный для бактерий ультрафиолет заметно ослабеет.
Поскольку конструирование космических аппаратов «Викинг» было завершено за много лет до запуска, а Вишняка не стало, результаты его антарктических экспериментов не оказали влияния на программу поиска марсианской жизни. Микробиологические эксперименты проводились не при тех низких температурах, которые характерны для Марса, и в большинстве своем не предусматривали длительного инкубационного периода. Все они основывались на вполне определенных допущениях, каким именно должен быть марсианский метаболизм. Не было и возможности искать жизнь внутри камней.
Каждый из посадочных модулей «Викингов» был снабжен манипулятором, который подбирал вещество с поверхности, аккуратно переносил его внутрь космического аппарата и помещал частицы грунта на небольшой электрический транспортер наподобие вагона-хоппера[96], который доставлял их к пяти экспериментальным установкам: одна исследовала неорганические составляющие почвы, другая искала в песке и пыли органические молекулы, остальные три пытались обнаружить живых микробов. Надеясь отыскать жизнь на планете, мы выдвигаем определенные предположения. По возможности мы стараемся не загадывать, что жизнь везде будет такой же, как у нас. Но всему есть предел. Ведь мы хорошо знакомы только с земной жизнью. Поскольку биологические эксперименты «Викингов» были первыми в своем роде, вряд ли стоило ожидать, что они окончательно разрешат вопрос о жизни на Марсе. Итог получился дразнящим, внушающим беспокойство, провокационным, побуждающим к действию и оставался, по крайней мере до последнего времени, существенно неполным.
В каждом из трех микробиологических экспериментов исследовалась своя проблема, но все они касались марсианского метаболизма. Если в марсианской почве есть микроорганизмы, то они должны потреблять пищу и выделять газообразные продукты жизнедеятельности; или они должны захватывать газы из атмосферы и превращать их, возможно при помощи солнечного света, в необходимые для жизни вещества. Поэтому мы доставляем на Марс пищу и надеемся, что марсиане, если они существуют, сочтут ее достаточно вкусной. И тогда мы посмотрим, не выделятся ли из почвы какие-нибудь новые, интересные газы. Или можно ввести в эксперимент наш собственный, помеченный радиоактивными изотопами газ и проследить, не будет ли он преобразован в органическое вещество, что указывало бы на существование маленьких марсиан.
Если придерживаться критериев, утвержденных до запуска, то два из трех микробиологических экспериментов проекта «Викинг» дали положительные результаты. Во-первых, когда марсианский грунт был смешан с земным стерилизованным органическим бульоном, что-то в составе почвы привело к химическому расщеплению бульона, как будто он поглощался микробами, усваивавшими продуктовую посылку с Земли. Во-вторых, когда земные газы были введены в образец марсианской почвы, они вступили с ней в химическую связь — почти как в присутствии фотосинтезирующих микробов, создающих органические вещества из атмосферных газов. Положительные результаты микробиологических экспериментов были получены для семи проб, взятых в двух точках Марса, удаленных друг от друга на 5000 километров.
Но на самом деле все обстоит гораздо сложнее, критерии успеха экспериментов могли оказаться неадекватными. В разработку микробиологических экспериментов проекта «Викинг» и их проверку на различных видах микробов была вложена уйма сил. Значительно меньше внимания уделялось калибровке экспериментов с учетом неорганических веществ, которые могут встретиться на марсианской поверхности. Марс не Земля. И, как свидетельствует история Персиваля Лоуэлла, он может нас одурачить. Не исключено, что неорганический марсианский грунт способен сам, в отсутствие каких-либо микробов, окислять пищу. Возможно, в нем есть какие-то особые неорганические, неживые катализаторы, которые захватывают атмосферные газы и превращают их в органические молекулы.
Недавние эксперименты подтверждают, что такое вполне вероятно. Во время грандиозной марсианской песчаной бури в 1971 году инфракрасный спектрометр «Маринера-9» исследовал спектральные особенности поднятой пыли. Анализируя эти спектры, О. Б. Тун, Дж. Б. Поллак и я обнаружили в них детали, которые лучше всего объяснялись присутствием монтмориллонита[97] и других видов глины. Позднее посадочные аппараты «Викингов» подтвердили присутствие на Марсе переносимых ветром глиняных частиц. А недавно А. Банин и Дж. Ришпон смогли воспроизвести в лабораторных тестах, где вместо марсианской почвы использовались такие глины, ключевые особенности «успешных» микробиологических экспериментов «Викингов» — и тех, что выглядели как фотосинтез, и напоминавших дыхание. Глиняные частицы имеют сложную активную поверхность, способную захватывать и выделять газы, а также катализировать химические реакции. Пока еще слишком рано говорить, что все результаты микробиологических экспериментов «Викингов» объяснимы в рамках неорганической химии, но подобный вывод никого бы уже не удивил. «Глиняная» гипотеза вовсе не исключает возможности жизни на Марсе, но, безусловно, она заставляет нас признать, что неопровержимых свидетельств существования марсианской микрофлоры пока нет.
При всем том результаты Банина и Ришпона имеют огромное значение для биологии, поскольку они продемонстрировали, что даже в отсутствие жизни в некоторых почвах возможны химические реакции, дающие почти такой же эффект, как жизнь. Еще до возникновения живого на Земле в почве могли протекать химические процессы, напоминающие циклы дыхания и фотосинтеза. Не исключено, что, появившись, жизнь включила в себя эти процессы. Известно, кроме того, что монтмориллонитовые глины служат мощным катализатором соединения аминокислот в длинные цепочки, похожие на протеины. Глины первобытной Земли могли быть местом зарождения жизни, а химия современного Марса способна дать ключ к пониманию происхождения и ранней истории жизни на нашей планете.
На поверхности Марса расположено множество ударных кратеров, большинство из которых названы именами ученых. Кратер Вишняк находится в антарктическом регионе Марса, что вполне уместно. Вишняк не утверждал, будто на Марсе есть жизнь, — он лишь говорил, что такое возможно и что крайне важно узнать, существует ли она там на самом деле. Если да, то у нас появляется уникальный шанс проверить, насколько общей для Вселен-ной является наша форма жизни. А если на Марсе, планете, столь похожей на Землю, жизни нет, то необходимо понять почему, ибо в этом случае, как подчеркивал Вишняк, мы имеем классический для науки пример расхождения между основным и контрольным экспериментом. Открытие того, что результаты микробиологических экспериментов проекта «Викинг» можно объяснить присутствием глинистых пород, что они не доказывают существования жизни, помогает объяснить другую загадку: химические эксперименты «Викингов» не обнаружили в марсианской почве даже следов органических веществ. Если на Марсе есть жизнь, то где же ее мертвые останки? Никаких органических молекул не найдено: ни составляющих протеинов и нуклеиновых кислот, ни простых углеводородов — ничего из строительных блоков земной жизни. В этом еще нет противоречия, поскольку микробиологические эксперименты «Викингов» в расчете на один атом углерода были в тысячи раз более чувствительными, чем химические, и они, похоже, смогли выявить органическое вещество, образовавшееся в марсианской почве. Но это не оставляет большой надежды. Земная почва наполнена органическими остатками некогда живших организмов; в марсианском грунте органического вещества меньше, чем на поверхности Луны. Если мы придерживаемся гипотезы о существовании жизни, то можно допустить, что мертвые тела на поверхности Марса были уничтожены в результате окислительных химических реакций, как уничтожаются микробы в пробирке с перекисью водорода; другая возможность состоит в том, что жизнь существует, но органическая химия играет в ней не такую центральную роль, как на Земле.
Однако последнее представляется мне маловероятным. Вынужден признаться, но я — убежденный углеродный шовинист. Углерод широко распространен во Вселенной. Он создает поразительно сложные молекулы, наилучшим образом подходящие для жизни. Вдобавок я еще и водный шовинист. Вода идеальна в качестве растворителя для органики, способствует протеканию химических реакций и остается жидкой в широком диапазоне температур. Но иногда меня берут сомнения. Вдруг мое пристрастие к этим веществам как-то связано с тем, что я сам по большей части состою из них? Не потому ли мы сложены из углерода и воды, что эти вещества были широко распространены на Земле в период зарождения жизни? Может быть, где-то в другом месте, скажем на Марсе, жизнь строится из другого материала? Я есть совокупность воды, кальция и органических молекул, называемая Карлом Саганом. Вы представляете собой почти такую же систему молекул с другим совокупным названием. И только-то? Неужели в нас нет ничего, кроме молекул? Кое-кому кажется, что это унижает человеческое достоинство. Лично я нахожу вдохновляющим то, что наш мир позволяет развиваться столь тонким и сложным молекулярным машинам, какими являемся мы с вами.
Однако сущность жизни заключена не столько в самих атомах и простых молекулах, из которых мы состоим, сколько в способе их взаиморасположения. Время от времени читаешь, что вещества, составляющие человеческое тело, стоят то ли 97 центов, то ли 10 долларов. Такая низкая стоимость наших тел нагоняет уныние. Но эти цены высчитаны для человеческого тела, разложенного на простейшие компоненты. В основном мы состоим из воды, которая не стоит почти ничего; углерод можно оценить по стоимости угля; кальций наших костей — по цене мела; азот, входящий в состав белков, — по цене воздуха (тоже недорого); железо в нашей крови — по цене ржавых гвоздей. Если не знать ничего больше, то можно попробовать свалить все составляющие нас атомы в один большой котел и начать помешивать. Заниматься этим можно сколь угодно долго. Но в конце концов мы получим все ту же смесь атомов. А с чего бы там возникло что-то другое?
Гарольд Моровиц подсчитал, во что обойдется комплект правильных молекулярных составляющих человеческого тела, если приобретать их по рыночным ценам. Получилось около десяти миллионов долларов, что позволяет нам чувствовать себя немного лучше. Но даже в этом случае мы не можем смешать все эти реактивы и вывести человека в пробирке. Это выходит далеко за пределы наших возможностей, и, вероятно, так будет еще очень долго. К счастью, существует гораздо менее дорогой и притом очень надежный метод создания человеческих существ.
Я думаю, что во многих мирах различные формы жизни будут состоять в основном из тех же атомов, что и мы, возможно, даже из тех же основных молекул — протеинов и нуклеиновых кислот, — но соединенных иным, незнакомым нам способом. Не исключено, что организмы, плавающие в плотной атмосфере планеты, окажутся очень похожи на нас по своему элементному составу, но у них может не быть костей, а значит, им не понадобится много кальция. Возможно, где-то основу жизни составляет не вода, а другой растворитель. На эту роль неплохо подходит фтористоводородная (плавиковая) кислота, хотя Вселенная небогата фтором. Плавиковая кислота разрушает молекулы, из которых мы состоим, но другие органические молекулы, например твердый парафин, совершенно устойчивы к ее воздействию. Аммиак еще лучше подошел бы на роль растворителя ввиду его широкой распространенности во Вселенной. Но он становится жидким только на планетах, намного более холодных, чем Земля или Мара На Земле аммиак обычно находится в газообразном состоянии, подобно воде на Венере. Наконец, может быть, существуют живые объекты, вообще не основанные на растворах, — твердотельная жизнь, в которой вместо плавающих молекул распространяются электрические сигналы.
Но всем этим идеям не спасти представления, будто «Викинги» обнаружили на Марсе жизнь. В этом очень похожем на Землю мире, богатом углеродом и водой, жизнь, если она существует, должна быть основана на органической химии. Результаты экспериментов по органической химии, равно как снимки и микробиологические тесты, не противоречат тому, что в мелких частицах, собранных в районах Хрис и Утопия в конце 1970-х годов, жизни не было. Возможно, на глубине нескольких миллиметров внутри камней (как в антарктических оазисах), или где-то в другом районе планеты, или когда-то в прошлом, в более подходящие времена, она и существовала. Но не там, где мы ее искали, и не тогда.
Исследование Марса «Викингами» — миссия большого исторического значения, первая серьезная попытка поиска иного типа жизни, первый случай, когда космический аппарат успешно функционировал на другой планете больше часа с небольшим[98] («Викинг-1» оставался работоспособным несколько лет). Программа снабдила нас огромным массивом данных по марсианской геологии, сейсмологии, минералогии, метеорологии и ряду других наук. Как нам развивать эти выдающиеся достижения? Некоторые ученые хотят отправить автоматический аппарат, который совершит посадку, возьмет образцы грунта и вернет их на Землю, где в крупнейших исследовательских центрах будет проведен гораздо более подробный анализ, чем в стесненных условиях микроминиатюрных лабораторий, которые мы можем заслать на Марс. В этом случае большинство неоднозначностей микробиологических экспериментов проекта «Викинг» удалось бы исключить. Мы могли бы определить химический и минералогический состав грунта, расколоть камни и поискать жизнь под их поверхностью, провести сотни экспериментов для изучения органической химии и выявления жизни, включая непосредственное наблюдение в микроскоп в широком диапазоне условий. Мы даже могли бы использовать технику Вишняка. Хотя подобная миссия обошлась бы очень дорого, она, вероятно, не выходит за пределы наших технических возможностей.
Однако здесь появляется новая опасность — так называемое обратное загрязнение. Чтобы в земных условиях исследовать на наличие микробов образцы марсианской почвы, мы, естественно, не должны предварительно их стерилизовать. Цель экспедиции как раз и состоит в том, чтобы доставить на Землю живых микробов. Но что же тогда получается? Ведь завезенные к нам марсианские микробы могут представлять опасность для здоровья людей. Марсиане Герберта Уэллса и Орсона Уэллса, занятые покорением Борнмута и Джерси-Сити, до последнего момента не обращали внимания на то, что их иммунная защита неэффективна против земных микробов. А не может ли случиться наоборот? Это серьезный и сложный вопрос. Возможно, никаких микромарсиан не существует. А если они существуют, вполне вероятно, что мы можем съесть их целый килограмм без всякого вреда здоровью. Но уверенности нет а ставки очень высоки. Если мы хотим доставить на Землю нестерилизованные марсианские образцы, следует принять чрезвычайные меры предосторожности. Некоторые государства разработали системы бактериологического оружия и накопили его запасы. Иногда у них случались аварии, но пока они ни разу не привели к возникновению глобальной пандемии. Не исключено, что марсианские образцы можно привезти на Землю, не навлекая на себя опасности. Но я хочу быть абсолютно уверен в этом, прежде чем рассматривать миссию по доставке образцов.
Существует другой путь к исследованию Марса, ко всем тем восторгам и открытиям, которые готовит нам многообразный мир этой планеты. Работая над изображениями, полученными с посадочных модулей «Викингов», я постоянно досадовал на неподвижность нашей техники. Как же мне хотелось, чтобы аппарат хотя бы встал на цыпочки, — как будто эта лаборатория, созданная неподвижной, нарочно отказывалась хоть немножечко подпрыгнуть. Как мы мечтали разровнять манипулятором вон ту дюну, поискать жизнь под этим камнем, разглядеть, действительно ли тот отдаленный хребет — это вал кратера! Я знал, что не так уж далеко к юго-востоку расположено место слияния четырех русел равнины Хриса. Но сколь бы дразнящими и провокационными ни были данные «Викингов», я не сомневался, что на Марсе есть сотни мест, гораздо более интересных, чем выбранные нами для посадки. Идеальное средство — это передвижной аппарат, снабженный улучшенным оборудованием, особенно для видеосъемки, химических и биологических исследований. НАСА сейчас ведет разработку прототипов подобных самоходных машин (роверов). Они должны самостоятельно объезжать камни, избегать падения в трещины, выбираться из трудных положений. Сейчас в наших силах доставить на Марс самоходный аппарат, который сможет обследовать окрестности, выбирать в поле зрения наиболее интересное место и на следующий день достигать его. Каждый день новая точка, сложный, извилистый путь по пересеченной местности этой прекрасной планеты.
Подобная миссия принесла бы неизмеримую пользу науке, даже если на Марсе нет жизни. Мы могли бы спуститься в долины древних рек, подняться по склонам величайших вулканических конусов, пройти вдоль странных ступенчатых ледовых полярных террас, рассмотреть вблизи загадочные марсианские пирамиды[99]. Общественный интерес к подобной миссии был бы очень большим. Каждый день на экранах наших телевизоров появлялись бы новые панорамы. Мы могли бы следить за маршрутом, обсуждать находки, предлагать новые цели. Путешествие ровера, послушного командам с Земли, будет долгим. У нас хватит времени для того, чтобы включить в план миссии новые удачные идеи. Миллиард людей сможет принять участие в исследовании другого мира[100].
Площадь поверхности Марса почти равняется площади суши на Земле. Для его основательного исследования понадобятся столетия. Но рано или поздно Марс будет изучен — после того, как летательные аппараты картируют его с воздуха; после того, как самоходные аппараты прочешут его поверхность; после того, как образцы будут благополучно доставлены на Землю; после того, как люди пройдут по марсианским пескам. Что потом? Что нам делать с Марсом?
Земная история преподносит столько примеров злоупотреблений, совершенных людьми, что от одного этого вопроса у меня мороз идет по коже. Если на Марсе есть жизнь, надеюсь, мы не станем ничего с ним делать. Марс в таком случае принадлежит марсианам, даже если они всего лишь микробы. Существование независимой биологии на соседней планете — это неоценимое сокровище, и сохранение этой жизни, я полагаю, важнее любой другой пользы, которую мы можем извлечь из Марса. Но, предположим, что жизни на Марсе нет. Вряд ли он может служить источником сырья: перевозка грузов с Марса на Землю еще многие сотни лет будет оставаться слишком дорогим удовольствием. Быть может, мы сумеем обжить Марс? Нельзя ли сделать его обитаемым?
Замечательный мир, в самом деле, но у него полно — с нашей ограниченной точки зрения — серьезных недостатков: главным образом это малое количество кислорода, отсутствие жидкой воды и сильное ультрафиолетовое излучение. (Как показал опыт постоянно действующих антарктических научных станций, низкие температуры не являются непреодолимым препятствием.) Все эти проблемы можно решить, если удастся произвести больше воздуха. Будь атмосферное давление повыше, могла бы существовать жидкая вода. В атмосфере, более насыщенной кислородом, мы смогли бы дышать, а образующийся озон защитил бы поверхность от солнечного ультрафиолетового излучения. Извилистые русла, слоистые полярные плато и другие признаки указывают на то, что когда-то у Марса была более плотная газовая оболочка. Эти газы вряд ли улетучились с Марса. Значит, они остались где-то на планете. Некоторые из них химически связаны поверхностными горными породами. Другие заключены в под поверхностных льдах. Но большая часть может содержаться в современных полярных шапках.
Для испарения полярных шапок их надо нагреть; этого можно достичь, посыпав их темным порошком, что приведет к нагреву за счет поглощения большего количества солнечного света Действие прямо противоположное тому, что мы предпринимаем на Земле, уничтожая леса и луга. Однако площадь поверхности полярных шапок очень велика. Для доставки необходимого количества пыли с Земли на Марс потребовалось бы 1200 ракет класса «Сатурн-5»[101], но и тогда ветер мог бы сдуть эту пыль. Гораздо лучше было бы изобрести темный материал, способный самовоспроизводиться, маленькую темную машинку, которая после доставки на Марс станет производить самое себя из местного сырья, распространяясь по всей площади полярных шапок. Оказывается, класс подобных машин существует. Мы называем их растениями. Среди них есть очень выносливые. Мы знаем, что некоторые земные микробы могут выжить на Марсе. Таким образом, нужна программа, которая при помощи искусственного отбора и генной инженерии выведет темные растения, вероятно лишайники, которые смогут приспособиться к крайне суровым марсианским условиям. Представьте себе, что такие растения удалось вывести, ими засеяли огромные ледяные пространства марсианских полярных шапок, они проросли, размножились, покрыли льды темным налетом, который поглощает солнечный свет, нагревает лед и освобождает древнюю марсианскую атмосферу из долгого плена. Можно даже вообразить марсианского Джонни Яблочное Семечко, робота или человека, бредущего по замерзшей полярной пустыне во имя блага будущих поколений людей.
Эта идея называется терраформированием — ландшафт чужого мира преобразуется в среду, более подходящую для рода человеческого. За тысячи лет деятельность человечества изменила глобальную температуру Земли всего на один градус в результате парникового эффекта и изменения альбедо, хотя при нынешних темпах сжигания ископаемого топлива и уничтожения лесов и лугов мы можем изменить глобальную температуру еще на один градус всего за одно-два столетия. Эти и другие соображения позволяют заключить, что на терраформирование Марса, вероятно, потребуется несколько сотен или тысяч лет. Возможно, в будущем развитие технологий позволит не только увеличить атмосферное давление и тем самым создать условия для существования жидкой воды, но и переправить воду тающих полярных шапок в более теплые экваториальные районы. Это вполне осуществимо. Почему бы нам не прорыть каналы?
Для транспортировки растаявшего поверхностного и подповерхностного льда понадобится огромная сеть искусственных русел. Но это как раз то, что всего сотню лет назад Персиваль Лоуэлл ошибочно считал уже существующим на Марсе. И Лоуэлл, и Уоллес понимали, что сравнительная негостеприимность Марса вызвана недостатком воды. Существуй сеть каналов, этот недостаток был бы поправим, и обитаемость Марса стала бы вполне вероятной. Лоуэлл проводил наблюдения в условиях очень плохой видимости. Другие, как Скиапарелли, видели что-то вроде каналов и называли это canali, до тех пор пока не начался роман Лоуэлла с Марсом сроком в целую жизнь. Люди, которыми движут эмоции, демонстрируют чудеса самообмана, и лишь немногие фантазии способны волновать нас больше, чем предположение о том, что соседнюю планету населяют разумные существа.
Сила идей Лоуэлла способна сделать их своего рода пророчеством. Его каналы были построены марсианами. И даже это, в принципе, может оказаться точным предсказанием: ведь если планета подвергнется терраформированию, им займутся люди, постоянно живущие и работающие на Марсе. Марсианами будем мы сами.
Глава VI. Приключения путешественников
Существует ли множество других миров, или есть только один мир? Это один из самых великих вопросов, побуждающих к изучению Природы.
Альберт Великий. XIII в.
Вначале островитяне либо считали себя единственными обитателями земли, либо, допуская существование других, не могли и помыслить о том, чтобы вести с ними торговлю, из-за разделяющего их обширного и глубокого моря, но позднее они изобрели корабли… Так что, возможно, удастся изобрести средства и для сообщения с Луной… Ныне среди нас нет Дрейка или Колумба, который предпринял бы такое путешествие, нет Дедала, который придумал бы, как передвигаться по воздуху. И все же я не сомневаюсь, что время, которое рождает новые истины и обнаруживает для нас множество вещей, скрытых от наших предков, откроет нашим потомкам, как осуществить наши нынешние желания.
Джон Уилкинс. Открытие лунного мира. 1638 г.
Мы можем подняться над этой скучной Землей и, глядя на нее с высоты, задуматься, неужели Природа всю свою силу и красоту вложила в эту крошечную каплю грязи? Подобно путешественнику, побывавшему в далеких странах, мы сможем лучше судить о том, что происходит у нас дома, научимся делать правильные выводы и постигнем истинную цену вещей. Когда мы узнаем, что существует множество планет, таких же красивых и населенных, как Земля, то умерим свои восторги относительно того, что в нашем мире считается великим, и станем снисходительно игнорировать пустяки, которыми так озабочена большая часть людей.
Христиан Гюйгенс. Небесные миры открыты. Ок. 1690
В наше замечательное время человечество лишь начало выходить в океан космоса. Современные корабли, движущиеся к планетам по Кеплеровым траекториям, являются беспилотными. Это отлично сконструированные полуразумные роботы, исследующие неизвестные миры. Путешествия во внешние области Солнечной системы контролируются из единственного места на планете Земля — из Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory — JPL) Национальной администрации по аэронавтике и исследованию космического пространства, в Пасадене, штат Калифорния.
9 июля 1979 года космический аппарат «Вояджер-2» вошел в систему Юпитера. Почти два года летел он к ней через межпланетное пространство. Корабль был собран из миллионов отдельных деталей и имел множество резервных компонентов, чтобы при отказе какого-то элемента другие взяли на себя его функции. Космический аппарат весил 0,9 тонны, а по размерам занял бы большую гостиную. Цель его полета находилась так далеко от Солнца, что он не мог вырабатывать электричество из солнечной энергии, как другие космические корабли. Взамен его снабдили небольшой атомной электростанцией, генерирующей несколько сотен ватт за счет радиоактивного распада плутониевых гранул. В базовом блоке станции располагались три объединенных между собой компьютера и основные системы поддержания работоспособности, такие как система терморегулирования. Для получения с Земли команд и передачи обратно собранных данных служила большая антенна диаметром 3,7 метра. Большинство научных инструментов размещалось на поворотной платформе, которая могла следить за Юпитером или за одним из его спутников, когда аппарат пролетал мимо. Среди множества установленных приборов были ультрафиолетовый и инфракрасный спектрометры, устройства для детектирования заряженных частиц, приборы для измерения магнитных полей и радиоизлучения Юпитера, — но самыми полезными стали две телевизионные камеры, позволившие получить десятки тысяч снимков планетных островов во внешней части Солнечной системы.
Юпитер окружен оболочкой невидимых, но чрезвычайно опасных заряженных частиц, обладающих высокой энергией. Космический аппарат должен был пройти через внешний край этого радиационного пояса, чтобы с близкого расстояния изучить Юпитер и его спутники, а затем продолжить свой полет к Сатурну и далее. Однако заряженные частицы могли повредить чувствительные инструменты и сжечь сложную электронику. Кроме того, Юпитер опоясан кольцом твердых обломков, которые открыл четырьмя месяцами раньше «Вояд-жер-1», предшественник «Вояджера-2». Столкновение даже с небольшим камнем могло вызвать беспорядочное вращение аппарата, и тогда антенна потеряла бы из виду Землю, собранные данные были бы навсегда утрачены. Перед самым сближением Центр управления полетом пребывал в большом беспокойстве. Сработали сразу несколько предупредительных и аварийных сигналов, однако объединенный разум людей на Земле и робота в космосе позволили избежать катастрофы.
Запущенный 20 августа 1977 года «Вояджер-2», двигаясь по огромной дуге, вышел за орбиту Марса, миновал пояс астероидов, приблизился к системе Юпитера и проложил себе путь мимо планеты с ее четырнадцатью спутниками. Пролет вблизи Юпитера придал «Вояджеру» ускорение и направил его на встречу с Сатурном. Тяготение Сатурна подтолкнет его к Урану. После Урана он направится к Нептуну, а затем покинет Солнечную систему, став межзвездным космическим странником, обреченным вечно скитаться по великому космическому океану.
Эти путешествия во имя исследований и открытий — последние в длинной череде странствий, ставших знаковыми для человеческой истории. В XV–XVI столетиях за несколько дней вы могли бы добраться из Испании на Азорские острова, ныне такое же время занимает путь от Земли до Луны. Несколько месяцев уходило на то, чтобы пересечь Атлантический океан и достигнуть берегов Нового Света, Америки. Сейчас за несколько месяцев можно пересечь океан внутренней Солнечной системы и совершить посадку на Марс или Венеру — новые миры[102], ожидающие нашего прибытия. В XVII–XVIII веках для путешествия из Голландии в Китай требовался год или два — столько же времени, сколько понадобилось «Вояджеру», чтобы добраться от Земли до Юпитера[103]. Ежегодные затраты той эпохи были относительно больше нынешних, но и те и другие составляют меньше одного процента валового национального продукта. Современные космические корабли с их автоматическими экипажами — это наш авангард, предвестники будущих пилотируемых экспедиций к планетам. Когда-то мы уже шли по такому пути. Период с XV по XVII столетие являет собой поворотную точку в нашей истории. Именно тогда стало ясно, что мы можем добраться до любой части планеты.
Отважные мореходы крупнейших европейских держав появлялись под парусами во всех океанах Земли. Для этих путешествий было много причин: честолюбие, алчность, национальная гордость, религиозный фанатизм, условия амнистии, научная любознательность, жажда приключений или невозможность найти себе занятие где-нибудь в Эстремадуре[104]. Эти путешествия принесли столько же зла, сколько и добра. Но в конечном счете они установили связи между всеми континентами Земли, расширили кругозор, объединили человеческие расы и невероятно умножили наши знания о планете и нас самих.
Символом эпохи Великих географических открытий может служить революционная Голландская республика XVII столетия (Республика Соединенных провинций. — Ред.). Едва провозгласив свою независимость от могущественной Испании, она более других стран восприняла дух европейского Просвещения. Это было рациональное, организованное, творческое общество. Но из-за того что испанские порты и корабли стали недоступны для голландцев, экономическое выживание крошечной республики зависело от способности построить, укомплектовать экипажем и отправить в плавание огромный флот торговых парусников.
Голландская Ост-Индская компания, предприятие со смешанной (государственной и частной) собственностью, отправляла суда в самые отдаленные уголки мира, чтобы доставлять оттуда редкие товары и с выгодой перепродавать их в Европе. Эти путешествия вливали кровь в жилы Республики. Навигационные карты и схемы сделались государственной тайной. Бывало, что команда выходила в море, не ведая до поры, какой путь следования значится в запечатанном задании. Неожиданно голландское присутствие стало обнаруживаться по всей планете. Баренцево море в Северном Ледовитом океане и остров Тасмания у берегов Австралии названы в честь голландских капитанов[105]. Хотя основной целью этих экспедиций была коммерция, их задачи не ограничивались торговлей. Для них был характерен дух научного исследования, стремление к открытию новых земель, новых растений и животных, новых народов — погоня за знанием ради знания.
Национальная гордость и светское самосознание Голландии XVII столетия отразились в архитектуре Амстердамской ратуши. Для ее возведения понадобился целый корабль мрамора. Константин Гюйгенс, поэт и дипломат того времени, отмечает, что ратуша рассеивала «отчуждающую мрачность готического стиля». Здесь до наших дней сохранилась статуя Атланта, который несет на плечах украшенное созвездиями небо. Внизу, между Смертью и Наказанием, Правосудие с золотым мечом и весами попирает Алчность и Зависть — богов торговли. Голландцы, чье благосостояние основывалось на частной инициативе, тем не менее понимали, что необузданная погоня за прибылью представляет угрозу для национального духа.
Не столь аллегорический символ можно найти на полу ратуши, под фигурами Атланта и Правосудия. Это мозаичная карта мира, которая датируется концом XVII — началом XVIII века и охватывает территорию от Западной Африки до Тихого океана. Весь мир был ареной деятельности голландцев. И на этой карте c обезоруживающей скромностью они опустили саму Голландию, обозначив свою часть Европы старым латинским названием «Бельгия».
Обычно за год корабли проходили путь, равный половине кругосветного плавания. Продвигаясь вдоль западного берега Африки, они пересекали так называемое Эфиопское море, огибали южную оконечность черного континента, проходили Мадагаскарским проливом и устремлялись мимо южных берегов Индии к одной, главной своей цели — к «Островам Пряностей», нынешней Индонезии (точнее Молуккским островам. — Ред.). Некоторые экспедиции плыли оттуда к земле, носившей тогда название Новой Голландии, а теперь называемой Австралией. Иногда предпринимались путешествия через Малаккский пролив, мимо Филиппин, в Китай. Из источников середины XVII века мы знаем о «посольстве Ост-Индской компании из Голландии в Великую Тартарию, к хану и императору Китая». Голландские бюргеры, послы и морские капитаны с огромным интересом и удивлением знакомились с иной цивилизацией имперского города Пекина[106].
Ни до ни после Голландия не была такой могущественной мировой державой. Небольшая страна, вынужденная любыми путями добывать средства к существованию, проводила миролюбивую внешнюю политику. Терпимость к неортодоксальным воззрениям сделала ее раем для мыслящих людей, которые бежали от гонений и духовного гнета, свирепствовавших повсюду в Европе. Нечто подобное имело место в 1930-е годы, когда Соединенные Штаты неизмеримо выиграли в результате массового исхода интеллектуалов из Европы, находившейся под влиянием нацистов. Голландия XVII века приютила еврейского философа Спинозу, которым восхищался Эйнштейн, Декарта, ключевую фигуру в истории математики и философии, Джона Локка, мыслителя, оказавшего влияние на группу не чуждых философии революционеров — Пейна, Гамильтона, Адамса, Франклина и Джефферсона («отцов-основателей» США, лидеров Американской революции 1776 г. — Ред.). Никогда, ни в прошлом, ни в будущем, Голландия не славилась такой плеядой художников и ученых, философов и математиков. Это было время мастеров живописи, таких как Рембрандт, Вермер и Франс Халс, время Левенгука, изобретателя микроскопа, время Гроция (Гуго де Гроота), основателя международного права, время Виллеброрда Снеллиуса, открывшего закон преломления света.
Следуя голландской традиции поощрения свободы мысли, Лейденский университет предложил должность профессора итальянскому ученому Галилею, которого католическая церковь под угрозой пыток заставила отречься от еретической идеи, что Земля обращается вокруг Солнца, а не наоборот[107]. Галилей имел тесные связи с Голландией, и его первый астрономический телескоп был усовершенствованной подзорной трубой голландской конструкции. С его помощью он открыл солнечные пятна, фазы Венеры, лунные кратеры и четыре больших спутника Юпитера, называемых в его честь галилеевыми. Вот как описывал сам Галилей свои разногласия с церковью в письме 1615 года к великой герцогине Кристине:
Несколько лет назад, как уже известно Вашей Светлости, я открыл в небесах множество вещей, которых до нашего века никому видеть не доводилось. Новизна этих вещей, а также некоторые выводы, из них вытекающие и противоречащие физическим представлениям, коих придерживаются обычно академические философы, восстановили против меня немалое число профессоров [среди них много священников], как будто я своими собственными руками поместил эти вещи на небо с целью внести беспорядок в природу и ниспровергнуть науки. Они, похоже, забывают, что умножение известных истин способствует исследованиям, законности и развитию искусств[108].
Исследовательская активность Голландии была теснейшим образом связана с ее ролью интеллектуального и культурного центра. Усовершенствование парусных судов способствовало развитию всех видов технологий. Людям нравилось работать руками. Изобретения поощрялись. Технологический прогресс требовал как можно более свободного доступа к знаниям, и Голландия стала ведущим издателем и продавцом книг в Европе, публикуя переводы с других языков и разрешая печатать труды, в других странах объявленные вне закона. Путешествия в экзотические земли, контакты с иными обществами поколебали самодовольство, заставили мыслителей пересмотреть господствующие взгляды и обнаружили, что знания (например, в области географии), считавшиеся непреложной истиной на протяжении тысячелетий, содержат принципиальные ошибки. В то время когда в мире в основном правили короли и императоры, Голландская республика управлялась, в большей мере, чем любая другая страна, народом. Открытость общества и поощрение интеллектуальной жизни, материальное благосостояние и приверженность делу исследования и освоения новых миров порождали радостную веру в человеческие начинания[109].
В Италии Галилей объявил об открытии других миров, а Джордано Бруно рассуждал об иных формах жизни. И оба были жестоко за это наказаны. В это же время в Голландии астроном Христиан Гюйгенс, признававший и то и другое, жил в почете и уважении. Его отец, Константин Гюйгенс, был выдающимся дипломатом своей эпохи, а также писателем, поэтом, композитором, музыкантом, близким другом и переводчиком английского поэта Джона Донна и главой большой патриархальной семьи. Константин восхищался живописью Рубенса и открыл молодого художника Рембрандта ван Рейна, который несколько раз изображал его на своих полотнах. После первой встречи Декарт писал о нем: «Не могу поверить, что один ум может заниматься столь многими вещами и в каждой быть настолько хорошо подготовленным». Дом Гюйгенсов наполняли вещи, привезенные со всех концов света. Частыми гостями здесь были выдающиеся мыслители из других стран. Выросший в такой среде, молодой Христиан Гюйгенс стал знатоком языков, рисования, права, естественных наук, инженерного дела, математики и музыки. Его интересы и привязанности отличались чрезвычайным разнообразием. «Весь мир — моя страна, — говорил он, — наука — моя религия».
Мотивом всей той эпохи был свет — символический свет свободы мысли, просвещения, географических открытий; свет, пронизывающий живопись того времени, особенно утонченные работы Вермера; свет как объект научного исследования — в трудах Снеллиуса по рефракции, в микроскопе, изобретенном Левенгуком, и в волновой теории света Гюйгенса[110]. Все эти виды деятельности были тесно связаны, и занимавшиеся ими часто переходили от одного к другому. Для интерьеров Вермера очень характерны навигационные приборы и карты. Микроскопы украшали художественные мастерские. Левенгук был душеприказчиком Вермера и часто появлялся в доме Гюйгенсов в Хофвяйке.
Микроскоп Левенгука ведет свое происхождение от увеличительных стекол, при помощи которых торговцы мануфактурой проверяли качество ткани. С помощью своего изобретения Левенгук обнаружил целый мир в капле воды — микробов, которых он называл animalcules и считал «очаровательными». Гюйгенс участвовал в создании первых микроскопов и сделал с их помощью множество открытий. Левенгук и Гюйгенс были в числе первых, увидевших клетки человеческой спермы, что стало отправным шагом на пути к пониманию репродукции человека. Желая объяснить, почему микроорганизмы, хотя и медленно, но появляются в воде, стерилизованной кипячением, Гюйгенс предположил, что они достаточно малы, чтобы переноситься по воздуху и размножаться после попадания во влажную среду. Тем самым он сформулировал альтернативу теории самозарождения, согласно которой жизнь возникает в забродившем виноградном соке или в испорченном мясе совершенно независимо от ранее существовавшей жизни. Прошло целых два века, прежде чем умозрительное заключение Гюйгенса было доказано Луи Пастером. И это далеко не единственная цепочка, связующая поиски жизни на Марсе в ходе проекта «Викинг» с работами Левенгука и Гюйгенса. Эти последние явились прародителями микробной теории болезней, а значит, и большей части современной медицины. Но они не ставили перед собой прагматических целей. Просто им довелось жить и работать в технологическом обществе.
Микроскоп и телескоп, появившиеся в Голландии в начале XVII века, расширили способность человека видеть очень малое и очень большое. Наши наблюдения за атомами и галактиками берут свое начало именно в это время и в этом месте. Христиан Гюйгенс любил шлифовать и полировать линзы для астрономических инструментов и сам построил телескоп с пятиметровой трубой. Открытия, сделанные при помощи этого телескопа, уже гарантировали бы ему место в истории человеческих достижений. Идя по стопам Эратосфена, он стал первым, кому удалось определить размер другой планеты. Он также первым высказал мысль, что Венера полностью покрыта облаками, и первым зарисовал деталь на поверхности Марса (огромный, открытый всем ветрам темный склон, называемый сейчас Большим Сыртом), наблюдая которую впервые определил, что марсианские сутки, как и земные, длятся около 24 часов. Он первым обнаружил, что Сатурн окружен системой колец, которые нигде не соприкасаются с планетой[111]. Наконец, им был открыт Титан, крупнейший спутник Сатурна и, как мы теперь знаем, самый большой спутник в Солнечной системе — чрезвычайно интересный и многообещающий мир. Большинство своих открытий Гюйгенс сделал, когда ему еще не было 30 лет. И между прочим, астрологию он считал полнейшим вздором.
Это еще далеко не всё, чем мы обязаны Гюйгенсу. Ключевой проблемой морской навигации в ту пору было определение долготы. Широту можно легко определить по звездам: чем дальше к югу вы смещаетесь, тем больше видно южных созвездий. Но для определения долготы требуется тщательный хронометраж. Точные корабельные часы показывают время в порту отправления; восходы и заходы Солнца и звезд позволяют определить местное корабельное время; разница между ними как раз и дает долготу. Гюйгенс изобрел маятниковые часы (положенный в их основу принцип был ранее открыт Галилеем), которые впоследствии использовались, хотя и не слишком успешно, для того, чтобы вычислять положения кораблей в открытом океане. Его усилиями точность астрономических и других научных наблюдений поднялась на невиданную дотоле высоту, и это стимулировало дальнейшее усовершенствование морских хронометров. Гюйгенс изобрел спиральную пружину балансира, которая и сейчас применяется в некоторых часах; он внес фундаментальный вклад в механику (например, нашел, как вычислять центробежную силу), а благодаря изучению игры в кости — также и в теорию вероятностей. Усовершенствованный им воздушный насос впоследствии буквально преобразил горную промышленность, а «волшебный фонарь» был предшественником диапроектора. Еще он придумал так называемый пороховой двигатель, который оказал влияние на разработку паровых машин.
Гюйгенса очень радовало, что представление Коперника о Земле как планете, движущейся вокруг Солнца, получило распространение даже среди простых голландцев. В самом деле, говорил он, взгляды Коперника приняты всеми астрономами, за исключением тех, кто «слишком медленно соображает или находится под властью предрассудков, навязанных исключительно человеческой волей». В Средние века христианские философы любили приводить такой аргумент: коль скоро небеса обращаются вокруг Земли всего за сутки, вряд ли они могут быть бесконечно велики в размерах, а значит, не может существовать бесконечного или даже большого числа миров (или даже одного другого мира). Открытие того, что вращаются не небеса, а Земля, имело серьезные последствия для представления об уникальности Земли и возможности существования жизни в иных местах. Коперник считал, что не только Солнечная система, но и вся Вселенная является гелиоцентрической, а Кеплер не допускал, что звезды могут иметь планетные системы. Первым, кто открыто высказал идею о множественности — а на самом деле о бесконечности — миров, обращающихся вокруг других солнц, по-видимому, был Джордано Бруно. Но многие считали, что множественность миров непосредственно вытекает из идей Коперника и Кеплера и находили это ужасным. В начале XVII века Роберт Мертон утверждал, что раз из гелиоцентрической гипотезы следует множественность других планетных систем, то это фактически опровергает исходную посылку путем приведения к абсурду (см. Приложение 1). В доказательство он приводил следующее, разгромное, казалось бы, рассуждение:
Если бы, как того требует Коперник, небеса были столь непомерно велики… и заполнены бесчисленными звездами, будто они вовсе бесконечны в размерах… то почему бы нам не предположить… что все эти звезды, видимые на небесах, являются солнцами, закрепленными в своих центрах, с пляшущими вокруг них планетами, noдобными тем, что окружают наше Солнце? <…>А отсюда следует, что существует бесконечное число обитаемых миров; почему нет? <…> эти и им подобные дерзкие выводы и чудовищные парадоксы с необходимостью получаются, если согласиться с… Кеплером… и другими, кто защищает движение Земли.
И все-таки Земля движется. Живи Мертон в наши дни, он был бы просто вынужден признать «бесконечность обитаемых миров». Гюйгенс не избегал этого вывода; он радостно принял его: звезды посреди космического океана — это другие солнца. Проводя аналогии с нашей Солнечной системой, Гюйгенс заключил, что звезды должны иметь свои планетные системы и что многие из этих планет могут быть обитаемыми: «Должны ли мы допустить, что планеты просто огромные пустыни… и лишить их всех тех тварей, которые столь ясно свидетельствуют о божественном архитекторе? Тем самым по красоте и величию мы поставили бы их ниже Земли, что совершенно неразумно»[112].
Эти идеи были изложены в выдающейся книге с горделивым заглавием «Небесные миры открыты: предположения, касающиеся обитателей, растений и производства других планет». Написанная незадолго до смерти Гюйгенса, в 1690 году, эта работа вызывала восхищение у многих, в том числе у Петра Великого, по приказу которого в России ее опубликовали первой из произведений западной науки. В основном книга посвящена описанию природы планет и условий на них. На одной из великолепных иллюстраций первого издания в одном масштабе с Солнцем изображены планеты-гиганты Юпитер и Сатурн. В сравнении они выглядят довольно маленькими. На другой гравюре Сатурн показан рядом с Землей: наша планета выглядит крошечным кружочком. В общем и целом Гюйгенс представлял себе условия и обитателей других планет довольно похожими на земные в XVII веке. Он допускал, что «планетяне» могут иметь «тела в целом и в каждой части сильно отличающиеся от наших… довольно смешно думать… что мыслящий Дух не может обитать в какой-либо форме, отличной от нашей собственной». Можно быть изящным, даже если выглядишь странно, говорит он. Но затем пускается в доказательства, что обитатели планет не должны выглядеть слишком необычно: им полагается иметь руки и ноги, ходить в вертикальном положении, обладать письменностью и знать геометрию; а четыре галилеевых спутника Юпитера помогают морякам в навигации по юпитерианским океанам. Безусловно, Гюйгенс был человеком своего времени. А разве не таковы же и мы сами? Он объявлял науку своей религией, а потом доказывал, что планеты не могут быть необитаемы, поскольку в таком случае Бог сотворил бы миры без всякой пользы. Он жил раньше Дарвина, и оттого его рассуждения о внеземной жизни совершенно лишены эволюционной перспективы. И все же на основе своих наблюдений он смог построить нечто похожее на современную картину космоса:
Какую чудесную, поразительную схему видим мы в величественном пространстве Вселенной… Как много солнц, как много миров… и каждый из них изобилует травами, деревьями и животными, украшен многочисленными морями и горами! <…> И как же должно возрасти наше удивление и восхищение при мысли о громадных расстояниях до звезд и об их огромном числе.
Космические аппараты «Вояджер» являются прямыми наследниками парусных поисковых экспедиций и научно-философской традиции Христиана Гюйгенса. «Вояджеры» — это каравеллы, направляющиеся к звездам и по пути исследующие те миры, которые Гюйгенс так хорошо знал и любил.
Одним из главных товаров, доставлявшихся из тех давних морских экспедиций, были рассказы о приключениях путешественников[113], о чужих землях и экзотических созданиях, которые всегда возбуждали удивление и подталкивали к новым исследованиям. Среди них попадались рассказы о горах, достигающих неба, о драконах и морских чудовищах, о повседневной посуде из золота, о тварях с рукой вместо носа, о народах, которые почитают глупостью теологические споры между протестантами, католиками, иудаистами и мусульманами, о черном обжигающем камне, о безголовых людях со ртом на груди, об овцах, живущих на деревьях. Некоторые из этих историй были правдой, некоторые — ложью. Иные содержали зерно истины, неверно понятой либо преувеличенной самим путешественником или его информаторами. Будучи обработаны, например, Вольтером или Джонатаном Свифтом, эти рассказы открывали перед европейским обществом новые перспективы, вынуждая его отказаться от замкнутости в своем мире.
Современные «Вояджеры» также рассказывают нам о своих приключениях: о мире, разбитом вдребезги, как хрустальная сфера; о планете, поверхность которой от полюса до полюса как будто затянута тонкой паутиной; о крохотных спутниках, похожих на картофелины; о мире с подземным океаном; о земле, которая пахнет тухлыми яйцами, а с виду напоминает пиццу, с озерами жидкой серы и вулканами, дымящими прямо в космос; о планете Юпитер, столь громадной, что наша Земля тысячу раз поместилась бы внутри него.
Галилеевы спутники Юпитера сравнимы по размерам с планетой Меркурий. Мы можем определить их массы и таким образом вычислить плотность, которая кое-что говорит об их составе и внутреннем строении. Мы обнаруживаем, что два внутренних спутника, Ио и Европа, по плотности близки к камню. Два внешних, Ганимед и Каллисто, имеют гораздо меньшую плотность, среднюю между камнем и льдом. Однако в смеси льда и камня внутри этих двух внешних спутников, как и в земных горных породах, должны встречаться следы радиоактивных минералов, которые разогревают их недра. Эта теплота, накопленная за миллиарды лет, не имеет выхода на поверхность и не рассеивается в космосе, а потому лед внутри Ганимеда и Каллисто должен плавиться за счет энергии радиоактивного распада. Можно предположить, что под поверхностью скрыт океан ледяной шуги; так, не получив еще первых снимков с близкого расстояния, мы догадываемся, что галилеевы спутники могут очень сильно различаться между собой. Это предсказание подтвердилось, когда мы глазами «Вояджера» детально рассмотрели их. Они совсем не похожи друг на друга и отличаются от всех миров, которые мы видели до сих пор.
Космический аппарат «Вояджер-2» никогда не вернется на Землю. Но вернулись добытые им сведения, повесть о его эпических открытиях, его приключениях. Возьмем, к примеру, 9 июля 1979 года Утром, в 8.04 од тихоокеанскому стандартному времени, на Земле были получены первые изображения нового мира, носящего название Европа.
Как попали к нам эти снимки из внешних районов Солнечной системы? Солнечный свет падает на Европу, обращающуюся по орбите вокруг Юпитера, и отражается обратно в космос, где малая его часть улавливается люминофором телевизионных камер «Вояджера», создавая изображение. Изображение считывает компьютер «Вояджера» и по радио передает его через огромное пустое пространство в полмиллиарда километров на радиотелескоп наземной станции слежения. Одна из таких станций расположена в Испании, другая — в пустыне Мохаве, Южная Калифорния, третья — в Австралии. (В то июльское утро 1979 года в сторону Юпитера и Европы смотрела австралийская станция.) Затем через коммуникационный спутник на околоземной орбите информация направляется в Южную Калифорнию, где по радиорелейной линии передается для обработки в компьютер Лаборатории реактивного движения. Полученные изображения, подобно фототелеграфным снимкам в газетах, состоят из миллионов отдельных точек разных оттенков серого цвета, настолько маленьких и близких друг к другу, что издали они незаметны. Виден только совокупный эффект. Яркость каждой точки определяется информацией, получаемой с космического аппарата. После обработки точки сохраняются на магнитном диске, напоминающем граммофонную пластинку[114]. На магнитных дисках хранится около восемнадцати тысяч фотографий, сделанных в системе Юпитера «Вояджером-1», и столько же полученных «Вояджером-2». Конечным результатом всей этой замечательной коммуникационной цепочки является отпечаток на глянцевой бумаге; в данном случае — снимок деталей на поверхности Европы, впервые в человеческой истории полученный, обработанный и исследованный 9 июля 1979 года.
Увиденное нами на снимках было совершенно поразительным. «Вояджер-1» получил великолепные изображения трех других галилеевых спутников. Но не Европы. Первым запечатлеть ее поверхность с близкого расстояния, так, чтобы отобразились детали размером всего несколько километров, выпало на долю «Воядже-ра-2». На первый взгляд вид поверхности более всего напоминает ту самую сеть каналов, которая виделась Персивалю Лоуэллу на Марсе и которой, как мы знаем теперь благодаря космическим аппаратам, вообще не существует. На Европе мы наблюдаем поразительно сложную сеть пересекающихся прямых и искривленных линий. Что это? Горные хребты, то есть возвышенности? Или желоба, то есть углубления? Как они образовались? Не результат ли это глобальных тектонических движений, не разломы ли, порожденные расширением или сжатием планеты? Есть ли здесь что-то общее с тектоникой земных плит? Проливает ли это свет на природу других спутников в системе Юпитера? В момент открытия наши хваленые технологии преподнесли нам нечто диковинное. Но сделать из этого выводы предстояло другому устройству — человеческому мозгу. Если бы не эта сеть линий, Европа выглядела бы гладкой, как бильярдный шар. Отсутствие ударных кратеров может объясняться пластичностью поверхностных льдов, приобретаемой благодаря выделяющейся при ударе теплоте. Линии — это протоки или трещины, их происхождение будет обсуждаться еще долго после завершения миссии.
Если бы полет «Вояджера» был пилотируемым, а его капитан вел бортовой журнал, в который заносил бы события, связанные с обоими аппаратами «Вояджер», мы прочитали бы примерно следующее:
1-й день. После долгих сборов и хлопот с приборами, которые то и дело норовили выйти из строя, мы наконец стартовали с мыса Канаверал и отправились в долгое путешествие к планетам и звездам.
2-й день. Возникли проблемы с развертыванием штанги, которая держит платформу с научным оборудованием. Если эту проблему решить не удастся, мы лишимся большей части фотографий и других научных данных. 13-й день. Мы оглянулись назад и сделали первый снимок висящих в космосе Земли и Луны. Очень симпатичная пара.
150-й день. Двигатели успешно отработали промежуточную коррекцию траектории.
170-й день. Плановые работы по поддержанию работоспособности. Несколько месяцев без особых событий.
185-й день. Успешно сделаны калибровочные снимки Юпитера.
207-й день. Проблема со штангой решена, но вышел из строя основной радиопередатчик. Мы перешли на использование резервного. Если он испортится, то никто на Земле никогда больше нас не услышит.
215-й день. Мы пересекли орбиту Марса. Сама планета находится сейчас по другую сторону от Солнца.
295-й день. Вошли в пояс астероидов. Здесь много крупных кувыркающихся камней — космических мелей и рифов. Большинства из них нет на картах. Выставлен дозорный. Надеемся избежать столкновения.
475-й день. Мы благополучно оставили позади основной пояс астероидов, счастливые, что уцелели. 570-й день. Юпитер становится самым заметным объектом на небе. Мы различаем на нем более тонкие детали, чем те, что видны с Земли даже в самые большие телескопы.
615-й день. Нас буквально гипнотизируют грандиозные атмосферные процессы в непрерывно меняющихся облаках Юпитера. Планета громадна. Она более чем вдвое массивнее всех остальных планет вместе взятых. Здесь нет гор, долин, вулканов, рек; нет границы между воздухом и землей — лишь огромный океан плотного газа и плывущие в нем облака, мир без поверхности. Все, что мы видим на Юпитере, плывет по его небу.
630-й день. Погода на Юпитере остается захватывающим зрелищем. Эта грандиозная планета оборачивается вокруг своей оси менее чем за десять часов. Бурные атмосферные процессы вызываются этим быстрым вращением, солнечным светом и идущим из глубины теплом.
640-й день. Рисунок облаков роскошен и совершенно отчетлив. Он немного напоминает «Звездную ночь» Ван Тога или работы Уильяма Блейка[115] и Эдварда Мунка[116]. Но только немного. Ни один художник еще не изображал подобного, поскольку никто из них никогда не покидал своей планеты. Никакой живописец, прикованный к Земле, не смог бы вообразить столь странный и восхитительный мир.
Мы внимательно наблюдаем за многоцветными поясами Юпитера. Белые пояса, вероятно, являются высотными облаками, состоящими из кристаллов аммиака; коричневатые цвета соответствуют более глубоким и горячим областям, где атмосферные потоки направлены вниз. Области синего цвета, по-видимому, представляют собой просветы в облаках, сквозь которые можно видеть чистое небо.
Нам неизвестно, почему Юпитер окрашен в красновато-коричневые тона. Возможно, за это ответственны соединения фосфора или серы. А может быть, яркую окраску придают сложные органические молекулы, возникающие в результате объединения фрагментов, на которые ультрафиолетовое излучение Солнца расщепляет в атмосфере Юпитера молекулы метана, аммиака и воды. В таком случае цвета атмосферы Юпитера повествуют нам о химических процессах, которые четыре миллиарда лет назад привели к появлению жизни на Земле.
647-й день. Большое Красное Пятно. Огромный столб газа, высоко поднимающийся над соседними облаками; настолько большой, что в нем поместилось бы несколько таких планет, как Земля. Красный цвет, возможно, связан с выносимыми на поверхность сложными молекулами, которые образуются или концентрируются на большой глубине. Не исключено, что этот гигантский циклон существует уже миллионы лет.
650-й день. Сближение. День чудес. Успешно прошли через коварные радиационные пояса Юпитера, поврежден только один инструмент — фотополяриметр. Пересекли экваториальную плоскость, благополучно избежав столкновений с частицами вновь открытых колец Юпитера. Удивительные снимки: Амальтея, крошечный спутник красного цвета и продолговатой формы, в самой глубине радиационного пояса; многоцветная Ио; линии на поверхности Европы; паутинообразные детали на Ганимеде; огромная депрессия на Каллиапо, окруженная многочисленными кольцами. Обогнув Каллисто, мы пересек-ли орбиту Юпитера-13[117], самого внешнего из известных спутников планеты, и удаляемся.
662-й день. Наши детекторы частиц и полей говорят, что мы покинули радиационный пояс Юпитера. Гравитация планеты увеличила нашу скорость. Мы наконец освободились от власти Юпитера и направляемся в открытый космос.
874-й день. Потеря ориентации на Канопус, веками служивший путеводной звездой для парусников. В темноте космоса он ведет и нас, помогая проложить курс через неизведанные просторы космического океана. Ориентация на Канопус восстановлена. Похоже, оптический датчик по ошибке принял за Канопус Альфу или Бету Центавра. Наш следующий порт захода — система Сатурна, два года пути.
Среди всех путевых заметок «Вояджера» меня больше всего заинтересовали сообщения об открытиях, сделанных им на Ио, самом внутреннем из галилеевых спутников. Еще до старта нам было известно, что на Ио творятся странные вещи. Мы мало что могли различить на его поверхности, но знали: Ио красного, ярко-красного цвета, краснее даже, чем Марс, вероятно, самый красный объект Солнечной системы. В течение ряда лет казалось, что на спутнике происходят какие-то изменения, заметные в инфракрасном диапазоне и при радарном обследовании. Мы также располагали данными, что в районе орбиты Ио Юпитер окружен своего рода огромным бубликом, который состоит из атомов серы, натрия и калия, выброшенных с Ио.
Когда «Вояджер» приблизился к гигантскому спутнику, мы увидели странную многоцветную поверхность, непохожую ни на что другое в Солнечной системе. Ио находится недалеко от пояса астероидов. На всем протяжении своей истории спутник должен был подвергаться интенсивной космической бомбардировке. Ему просто полагалось быть испещренным ударными кратерами. Но не нашлось ни одного. Значит, на Ио какой-то процесс чрезвычайно эффективно стирает или заполняет кратеры. Он не может быть атмосферным, поскольку из-за низкой гравитации газовая оболочка Ио почти полностью улетучилась в космос. Его нельзя приписать и действию воды — на поверхности Ио слишком холодно. Имелось несколько мест, напоминавших вершины вулканов. Но твердой уверенности в том, что это такое, не было.
Линда Морабито из навигационной группы проекта «Вояджер», отвечавшая за точность следования космического аппарата по намеченной траектории, затребовала у компьютера более четкое изображение края Ио, чтобы разглядеть звезды позади него. К своему удивлению, она заметила яркий столб дыма, поднимавшийся в темноте над поверхностью спутника, и вскоре определила, что столб стоит как раз над одним из тех мест, где предполагалось наличие вулканов. Так «Вояджер» открыл первый действующий внеземной вулкан. Теперь мы знаем на Ио девять больших активных вулканов, выбрасывающих газ и обломки, а еще сотни (или даже тысячи) потухших. Извергнутого вещества, которое скатывается и стекает по склонам вулканических конусов, разливается по разноцветному ландшафту огромными потоками, вполне достаточно, чтобы затопить ударные кратеры. Мы видим свежую поверхность планеты, ландшафт которой постоянно обновляется. Как подивились бы этому Галилей и Гюйгенс!
Существование вулканов Ио было предсказано до их открытия группой Стентона Пила, определившей масштабы приливов, которые должны возникать в твердых недрах Ио под влиянием совокупного действия находящейся неподалеку Европы и гигантского Юпитера. Они вывели, что горные породы внутри Ио должны плавиться не под действием радиоактивного распада, а в результате приливного трения и большая часть недр Ио должна пребывать в жидком состоянии. Сейчас считается, что через жерла вулканов Ио подземный океан выплескивает наружу жидкую серу, которая при плавлении концентрируется вблизи поверхности. Когда твердая сера нагревается чуть выше температуры кипения воды, примерно до 115oС, она плавится и меняет свой цвет. Чем выше температура, тем она темнее. Если расплавленную серу быстро охладить, ее окраска сохраняется. Цветной рисунок, обнаруженный на Ио, очень похож на то, что мы должны были бы увидеть, если бы вулканы извергали потоки серы: черная сера, самая горячая, вблизи вулканических вершин; красная и оранжевая — поблизости от них и вдоль излившихся расплавленных потоков; желтая — на огромных плато, простирающихся на большие расстояния. Поверхность Ио меняется на протяжении нескольких месяцев. Карты поверхности спутника придется выпускать с регулярностью сводок погоды на Земле. Будущие исследователи Ио должны иметь это в виду.
Обнаруженная «Вояджером» чрезвычайно разреженная и тонкая атмосфера Ио состоит в основном из диоксида серы (SO2). Но и эта тонкая газовая оболочка может приносить некоторую пользу, поскольку ее толщины, видимо, как раз хватает, чтобы защитить Ио от мощных потоков заряженных частиц радиационного пояса Юпитера, внутри которого движется спутник. Ночью температура здесь опускается настолько, что диоксид серы должен конденсироваться и оседать в виде своеобразного инея. В это время заряженные частицы интенсивно бомбардируют поверхность, и поэтому здешние ночи разумнее проводить в подземных укрытиях, пусть даже и не слишком глубоких.
Огромные султаны вулканических выбросов Ио поднимаются столь высоко, что фактически вышвыривают часть вещества прямо в космическое пространство вокруг Юпитера. Вулканы, вероятно, являются источником атомов упомянутого выше большого бублика, который окружает Юпитер вдоль орбиты Ио. Эти атомы по спирали постепенно приближаются к Юпитеру и должны оседать на поверхности внутреннего спутника, Амальтеи, придавая ему красноватую окраску. Не исключено также, что твердое вещество, которое вместе с газом выбрасывается с Ио, после многочисленных столкновений и укрупнения частиц пополняет систему колец Юпитера.
Трудно представить себе возможность появления человека на самом Юпитере, хотя, я полагаю, в далеком будущем могут появиться технологии создания огромных городов-аэростатов, постоянно плавающих в его атмосфере. При взгляде с Ио или с Европы этот громадный изменчивый мир будет заполнять большую часть неба, нависая сверху, не восходя и не заходя, поскольку почти все спутники в Солнечной системе, подобно нашей Луне, всегда повернуты к своим планетам одной и той же стороной. Для тех, кто в будущем станет осваивать луны Юпитера, эта гигантская планета послужит постоянным источником вдохновения, вечным вызовом. Когда Солнечная система конденсировалась из межзвездного газа и пыли, Юпитер захватил львиную долю вещества, которое не было выброшено в межзвездное пространство и не упало в центр, где формировалось Солнце. Окажись Юпитер в несколько десятков раз массивнее, в его недрах начались бы термоядерные реакции, и он стал бы испускать собственный свет. Самая большая из планет Солнечной системы — это несостоявшаяся звезда. Тем не менее температура внутри Юпитера настолько высока, что он испускает в космос вдвое больше энергии, чем получает от Солнца. Если ограничиться только инфракрасным диапазоном спектра, Юпитер, возможно, следовало бы даже считать звездой[118]. Стань он звездой в видимом диапазоне, мы сегодня жили бы в двойной системе с двумя солнцами на небе, а ночи были бы относительно редким явлением — обычное дело, я полагаю, для множества солнечных систем в нашей Галактике. Мы, несомненно, находили бы подобное положение дел естественным и приятным.
Глубоко под облаками Юпитера вес вышележащих слоев атмосферы создает давление, намного превосходящее то, что встречается где-либо на Земле, давление настолько большое, что электроны выдавливаются из атомов водорода и возникает замечательное вещество — жидкий металлический водород. Это особое физическое состояние никогда не наблюдалось в земных лабораториях, поскольку требует давления, недостижимого при современных технологиях. (Есть надежда, что металлический водород обладает сверхпроводимостью при умеренных температурах. Если бы его удалось получить в земных условиях, он произвел бы революцию в электронике[119].) В недрах Юпитера, где давление примерно в три миллиона раз превышает атмосферное давление на Земле, нет почти ничего, кроме плещущегося в темноте огромного океана металлического водорода. Только в самом центре Юпитера, возможно, находится сходное по составу с Землей каменно-металлическое ядро, зажатое в тисках чудовищного давления и навсегда скрытое в сердце величайшей планеты.
Электрические токи в жидких металлических недрах Юпитера могут быть источником невероятно мощного магнитного поля планеты, самого сильного в Солнечной системе, и связанных с ним радиационных поясов из захваченных электронов и протонов. Эти заряженные частицы выбрасываются Солнцем в составе солнечного ветра, а магнитное поле Юпитера задерживает и разгоняет их. Огромное множество этих частиц, захваченных высоко над облаками планеты, обречено метаться от полюса к полюсу, пока случайное столкновение с какой-нибудь залетевшей на большую высоту молекулой атмосферы не позволит им покинуть радиационный пояс. Ио движется по орбите столь близкой к Юпитеру, что проходит через самую сердцевину радиационного пояса, порождая каскады заряженных частиц, которые, в свою очередь, вызывают мощные всплески радиоизлучения. (Они также могут влиять на вулканические процессы на поверхности Ио.) Вычисляя положение Ио, эти всплески радиоизлучения Юпитера можно предсказывать даже точнее, чем погоду на Земле.
То обстоятельство, что Юпитер является источником радиоизлучения, было открыто случайно в 1950-х годах, в период зарождения радиоастрономии. Двое американцев, Бернард Бёрк и Кеннет Франклин, исследовали небо при помощи вновь построенного и по тем временам очень чувствительного радиотелескопа. Они искали фоновое космическое радиоизлучение, идущее от источников далеко за пределами Солнечной системы. Неожиданно для себя они обнаружили мощный и прежде не упоминавшийся источник, который, похоже, не был связан ни с одной заметной звездой, туманностью или галактикой. Более того, он постепенно смещался относительно далеких звезд, причем значительно быстрее, чем мог бы двигаться далекий объект[120]. Не найдя никакого подходящего объяснения на картах дальнего космоса, они однажды вышли из обсерватории взглянуть на небо невооруженным глазом: не появилось ли там что-то необычное. Они были ошеломлены, увидев прямо на нужном месте необыкновенно яркий объект, который вскоре был идентифицирован как планета Юпитер. Надо сказать, что это случайное открытие весьма типично для истории науки.
Пока «Вояджер-1» приближался к Юпитеру, каждый вечер я наблюдал в небе сияющую гигантскую планету — вид, которым наши предки могли наслаждаться миллионы лет. А в тот вечер, когда сближение состоялось, я, направляясь в Лабораторию реактивного движения изучать переданные «Вояджером» данные, подумал, что Юпитер уже никогда не будет прежним, никогда больше не будет он просто яркой точкой на ночном небе, но навсегда станет местом, которое мы исследовали и познали. Юпитер и его спутники — это своего рода миниатюрная солнечная система с разнообразными, уникальными мирами, которые многому могут нас научить.
Сатурн по своему строению и во многих других отношениях похож на Юпитер, хотя и меньше его по размерам. Совершая один оборот за десять часов, он тоже имеет разноцветные экваториальные облачные полосы, правда, не столь ярко выраженные, как на Юпитере. Его магнитное поле и радиационные пояса слабее, чем у Юпитера, зато система колец куда более впечатляющая. Он также окружен двенадцатью или более спутниками[121].
Пожалуй, наиболее интересная из лун Сатурна — Титан, самый крупный спутник в Солнечной системе и единственный, обладающий плотной атмосферой. До встречи «Вояджера-1» с Титаном в ноябре 1980 года наши знания об этом мире остаются весьма скудными и неопределенными. Единственный газ, о присутствии которого на Титане мы можем говорить с уверенностью, — это метан (СН4), обнаруженный Г. Р. Койпером. Ультрафиолетовое излучение Солнца преобразует метан в молекулы более сложных углеводородов и газообразный водород. Углеводороды должны оставаться на Титане, покрывая поверхность коричневатым, похожим на деготь органическим осадком, вроде того, что получался в экспериментах по исследованию происхождения жизни на Земле. Вследствие низкой гравитации на Титане легкий газ водород должен быстро улетучиваться в космос в ходе катастрофического процесса, называемого на жаргоне специалистов «сдуванием атмосферы» (blowoff), который захватывает также метан и другие компоненты атмосферы. Однако атмосферное давление на Титане по крайней мере не ниже, чем на Марсе. Значит, сдувания атмосферы не происходит. Возможно, в ее составе есть какая-то значительная, но пока не обнаруженная составляющая, например азот, которая делает средний молекулярный вес атмосферы относительно высоким и тем самым предотвращает сдувание. Не исключено также, что сдувание атмосферы имеет место, однако улетучивание газов в космос постоянно компенсируется выделением их из недр спутника. Средняя плотность Титана настолько низка, что на нем должны быть большие запасы водяного и других льдов, в том числе, вероятно, и метанового, темп испарения которых под действием внутреннего нагрева нам неизвестен.
При наблюдении в телескоп Титан выглядит едва различимым красноватым диском. Некоторые наблюдатели сообщали о появлении на диске изменчивых белых облаков — скорее всего, это метановые кристаллы. Но в чем причина красноватой окраски? Большинство изучавших Титан согласны, что наиболее вероятным объяснением могут служить органические молекулы. Вопросы о температуре и толщине атмосферы Титана пока остаются открытыми[122]. Судя по некоторым признакам температура поверхности несколько увеличена под влиянием атмосферного парникового эффекта. Распространенность органических молекул на поверхности и в атмосфере Титана делает его замечательным и в своем роде уникальным уголком Солнечной системы. История прежних открытий дает основания ожидать, что «Вояджер» и другие разведывательные космические аппараты в корне изменят наши знания об этом месте.
Хотя сквозь просветы в облаках с Титана, вероятно, можно заметить Сатурн и его кольца, их бледно-желтый цвет рассеивается в атмосфере. Поскольку система Сатурна в десять раз дальше от Солнца, чем Земля, интенсивность солнечного освещения на Титане составляет всего один процент от привычной нам, а температура должна быть намного ниже точки замерзания воды даже при наличии значительного парникового эффекта. Однако обилие органических веществ, солнечный свет и, возможно, вулканическое тепло не позволяют полностью исключить возможность жизни на Титане[123]. В этих, совершенно иных условиях она, конечно, должна очень сильно отличаться от жизни на Земле. Пока нет убедительных фактов, свидетельствующих за или против существования жизни на Титане. Это не более чем возможность. Вряд ли мы получим ответы на свои вопросы пока не осуществим посадку на Титан космического аппарата, оснащенного необходимым оборудованием[124]. Исследование отдельных частиц, составляющих кольца Сатурна, требует тесного сближения с ними, ибо частицы эти — снежные комья, ледяные обломки и кувыркающиеся в пространстве карликовые ледники — очень малы, порядка одного метра в поперечнике. Мы знаем, что они состоят из водяного льда, поскольку спектральные характеристики отраженного кольцами солнечного света очень похожи на лабораторный спектр льда. Для сближения космическому аппарату необходимо затормозить и начать двигаться вместе с частицами вокруг Сатурна на скорости около 72 000 километров в час (20 км/с), то есть надо выйти на орбиту вокруг Сатурна, перемещаясь с той же скоростью, что и составляющие кольца. Только тогда появится возможность рассмотреть их по отдельности, а не в виде размазанных сплошных пятен или полос.
Почему вместо системы колец у Сатурна не образовался один крупный спутник? Чем ближе находится частица к Сатурну, тем выше скорость ее орбитального движения (тем быстрее она «падает» вокруг планеты по третьему закону Кеплера); внутренние частицы обгоняют внешние (-«полоса обгона», как видим, всегда находится слева). Хотя вся совокупность частиц движется вокруг планеты со скоростью около 20 километров в секунду, относительные скорости двух соседних частиц очень малы и измеряются сантиметрами в минуту. Вследствие этого относительного движения частицы не могут слиться под действием взаимного притяжения. Как только они сближаются, небольшие различия в орбитальных скоростях вновь их разделяют. Если бы кольца не были столь близки к Сатурну, этот эффект оказался бы слабее и частицы могли бы, объединяясь, образовывать все большего размера снежные комья и в конечном счете формировать спутники. Стало быть, по всей видимости, это отнюдь не случайность, что за пределами колец Сатурна расположена система спутников, размеры которых варьируются от нескольких сотен километров до масштабов гигантского Титана, почти равного в поперечнике планете Марс. Вещество всех спутников и самих планет первоначально могло быть рассеяно в виде колец, которые, конденсируясь и уплотняясь, образовали эти небесные тела.
Как и Юпитер, Сатурн обладает магнитным полем, которое захватывает и ускоряет частицы солнечного ветра. Когда заряженная частица колеблется от одного магнитного полюса к другому, она пересекает экваториальную плоскость Сатурна. Если на пути протона или электрона попадется комок составляющего кольцо вещества, заряженная частица будет им поглощена. В результате у обеих планет кольца очищают радиационные пояса, которые существуют только внутри и вне системы колец. Ближайшие спутники Юпитера и Сатурна тоже прогрызают щели в радиационных поясах. В действительности один из недавно открытых спутников Сатурна был обнаружен как раз благодаря тому, что «Пионер-11» выявил неожиданный провал в радиационных поясах, появившийся из-за выметания заряженных частиц ранее неизвестным спутником.
Потоки солнечного ветра струятся во внешние области Солнечной системы, далеко за пределы орбиты Сатурна. Если приборы «Вояджера» будут продолжать нормально работать, когда он достигнет Урана, а затем орбит Нептуна и Плутона, то они почти наверняка обнаружат присутствие этого межпланетного ветра — внешней части солнечной атмосферы, постоянно текущей в сторону других звезд. На расстоянии, примерно в два-три раза превышающем орбиту Плутона, давление межзвездных протонов и электронов становится больше слабеющего давления солнечного ветра. Это место, называемое гелиопаузой, является, согласно одному из определений, внешней границей Империи Солнца. Продолжая свое движение, примерно в середине XXI века «Вояджер» пересечет гелиопаузу и будет дальше бороздить космический океан, никогда не заходя в другие солнечные системы, а через несколько сотен миллионов лет он завершит первый виток вокруг массивного центра нашей Галактики — Млечного Пути. Мы начали поистине легендарное путешествие.
Глава VII. Хребет ночи
Они добрались до круглого отверстия в небе… сияющего, подобно огню. «Это — звезда», — сказал Ворон.
Эскимосский миф о творении
Я бы скорее предпочел знать одну причину [вещей], чем быть царем Персии.
Демокрит из Абдеры
Но Аристарх Самосский выпустил в свет книгу о некоторых гипотезах, из которых следует, что мир гораздо больше, чем понимают обычно. Действительно, он предполагает, что неподвижные звезды и Солнце находятся в покое, а Земля обращается по окружности круга… между Солнцем и неподвижными звездами, а сфера звезд… так велика, что круг, по которому… обращается Земля, так же относится к расстоянию до неподвижных звезд, как центр сферы к ее поверхности[125].
Архимед. О числе песчинок
Если добросовестно собрать представления человека о Божественном, то придется признать, что по большей части он использует слово «боги» для выражения скрытых, отдаленных, непонятных причин явлений, которые ему приходилось наблюдать; что он применяет это слово, когда механизм действия естественных причин выпадает из его поля зрения: как только он теряет нить причинных связей, едва только его сознание не может больше проследить за их цепью, он решает возникшие трудности, прекращает исследования, ссылаясь на своих богов… Но в таком случае, когда он приписывает богам происхождение некоторых явлений… разве не подменяет он неясность своих мыслей пустым звуком, к которому привык относиться с благоговейным трепетом?
Поль Анри Гольбах. Система природы.1770
Ребенком я жил в Нью-Йорке, в бруклинском районе Бенсонхёрст. Я отлично знал окрестности: каждый многоквартирный дом, голубятню, двор, крыльцо, пустырь, большой вяз, декоративную решетку, желоб для подачи угля, каждую стену для игры в китайский ручной мяч, среди которых самой удобной была кирпичная стена театра Лоу Стиллуэлла. Я знал, где живет множество людей: Бруно и Дино, Роналд и Харви, Сэнди, Верни, Дэнни, Джеки и Майра. Но уже в нескольких кварталах, к северу от 86-й улицы с ее интенсивным автомобильным движением и железнодорожной насыпью, располагалась странная неизведанная территория, запретная для моих прогулок. Своего рода Марс в сравнении со всем, что я знал.
Даже если рано ложишься спать, зимой иногда видишь звезды. Я глядел на них, мерцающие, далекие, и думал, что же это такое. Я спрашивал о них старших ребят и взрослых, которые отвечали: «Это огни в небе, малыш». Я и сам видел, что это огни в небе. Но что они представляли собой на самом деле? Просто маленькие парящие лампочки? Для чего? Мне становилось их жаль: все о них знают, но их загадочная суть почему-то остается сокрытой от моих нелюбопытных приятелей. Должен был существовать ответ пообстоятельнее. Когда я немного подрос, родители выдали мне первую библиотечную карточку. Кажется, библиотека находилась на 85-й улице, на чужой земле. Я сразу попросил у библиотекаря что-нибудь о звездах. Она принесла альбом фотографий мужчин и женщин с именами вроде Кларк Гейбл и Джин Харлоу[126]. Я выразил недовольство, и она, улыбнувшись (по причине мне тогда непонятной), нашла другую, правильную книгу. Затаив дыхание, я открыл ее и читал, пока не дошел до нужного места. В книге говорилось нечто удивительное, это была великая мысль. В ней утверждалось, что звезды — это солнца, только очень далекие. А Солнце — это звезда, но близкая к нам.
Представьте себе, что вы взяли Солнце и удалили его настолько, что оно стало всего лишь крошечной мерцающей светлой точкой. Как далеко вы должны отодвинуть его? Я понятия не имел об угловом размера Не знал ничего о законе обратных квадратов, описывающем распространение света. У меня не было никакой возможности вычислить расстояние до звезд. Но я мог сказать, что если звезды — это солнца, они должны быть очень далеко — намного дальше, чем 85-я улица, дальше Манхэттена, вероятно, даже дальше Нью-Джерси. Космос был намного больше, чем я предполагал.
Потом я прочитал о другом поразительном факте. Земля, на которой находится Бруклин, — это планета, и она движется вокруг Солнца Существуют другие планеты. Они тоже движутся вокруг Солнца; некоторые ближе к нему, другие — дальше. Но планеты не излучают своего собственного света, как Солнце. Они просто отражают солнечные лучи. Удалившись на большое расстояние, вы вообще не смогли бы разглядеть Землю и другие планеты; они были бы лишь слабыми, едва светящимися точками, затерянными в сиянии Солнца. Ну хорошо, думал я, в таком случае другие звезды тоже должны иметь планеты, которые мы еще не обнаружили, и на некоторых из этих планет должна быть жизнь (почему бы и нет?), жизнь, возможно, не похожая на ту, что нам известна, — на жизнь в Бруклине. Поэтому я решил стать астрономом, чтобы исследовать звезды и планеты и, если получится, побывать на них.
Мне исключительно повезло: мои родители и некоторые учителя поддерживали эти странные замыслы, и к тому же я жил в то время, когда впервые в истории люди стали посещать другие миры и занялись глубокой разведкой Космоса. Родись я намного раньше, то не смог бы, сколь бы велико ни было мое рвение, понять, что представляют собой звезды и планеты. Я бы не знал, что существуют другие солнца и другие миры. Это один из величайших секретов, вырванных нашими предками у Природы после миллиона лет спокойного наблюдения и смелых размышлений.
Что такое звезды? Подобные вопросы естественны, как детская улыбка. Мы всегда задавали их. Отличие нашего времени в том, что мы знаем по крайней мере некоторые ответы. Книги и библиотеки преподносят их нам уже готовыми. В биологии существует важный, хотя и не всегда строго выполняющийся принцип рекапитуляции: в индивидуальном эмбриональном развитии мы повторяем эволюционную историю своего вида. Мне кажется, некоего рода рекапитуляция имеет место и в нашем индивидуальном интеллектуальном развитии. Мы невольно воспроизводим идеи наших далеких предков. Представьте себе время до появления науки, библиотек. Перенеситесь мыслью на сотни тысяч лет назад. Тогда мы были почти так же умны, как сейчас, так же любознательны, столь же вовлечены в социальную и сексуальную жизнь. Но эксперименты еще не были поставлены, изобретения еще не были сделаны. Это было детство рода человеческого. Вообразите эпоху, когда люди впервые приручили огонь. Как протекала тогда человеческая жизнь? Что думали наши предки о звездах? Иногда в фантазиях мне рисуется некто, думавший примерно так:
Мы едим ягоды и коренья. Орехи и листья. И мертвых животных. Некоторых животных мы находим мертвыми. Других убиваем. Мы знаем, какая пища хороша, а какая опасна. Если мы пробуем некоторую пищу, она убивает нас в наказание за то, что мы ее едим. Мы не хотели сделать ничего плохого. Но болиголов или наперстянка могут убивать. Мы любим своих детей и друзей. И мы советуем им избегать такой пищи.
Во время охоты на животных мы тоже можем погибнуть. Нас могут забодать. Или растоптать. Или съесть. То, что делают животные, для нас оборачивается жизнью или смертью: то, как они ведут себя, какие следы оставляют, когда спариваются и приносят потомство, когда кочуют. Нам нужно знать все эти вещи. Мы рассказываем о них нашим детям. А они расскажут своим детям.
Мы зависим от животных. Мы следуем за ними, особенно зимой, когда мало съедобных растений. Мы — кочевые охотники и собиратели. Мы называем себя охотничьим народом.
Большинство из нас спит под открытым небом, или под деревьями, или в их ветвях. Мы используем звериные шкуры как одежду: чтобы согреться, прикрыть наготу и иногда спать на них. Одеваясь в звериную шкуру, мы чувствуем силу зверя. Мы скачем вместе с газелью. Мы охотимся вместе с медведем. Между нами и животными существует связь. Мы охотимся на животных и едим их. Они охотятся на нас и едят нас. Мы являемся частью друг друга. Чтобы выжить, мы создаем инструменты. Среди нас есть большие знатоки того, как выбирать камни, расщеплять их, затачивать, шлифовать и полировать. Некоторые камни мы привязываем жилами животных к деревянной рукоятке, и получается топор. Топором можно рубить растения или ударить животное. Другие камни мы приматываем к длинным жердям. Если вести себя тихо и осторожно, то иногда можно подобраться близко к животному и пронзить его копьем.
Мясо портится. Иногда мы голодны и стараемся не замечать этого. Иногда мы добавляем к плохому мясу травы, чтобы скрыть его дурной вкус. Пищу, которая не испортилась, мы заворачиваем в куски звериных шкур. Или в крупные листья. Или складываем в скорлупу больших орехов. Разумно сохранить часть пищи и взять ее с собой. Если мы съедим эту пищу слишком рано, некоторые из нас вскоре будут голодать. Так что мы должны помогать друг другу. Поэтому и по многим другим причинам у нас есть обычаи. Обычаи должен соблюдать каждый. Мы всегда соблюдаем обычаи. Обычаи священны.
Однажды была гроза, много молний, грома и дождя. Малыши боятся грозы. И я иногда тоже. Тайна грозы неизвестна. Раскаты грома долгие и громкие; вспышки молний короткие и яркие. Может быть, кто-то очень могучий сильно гневается. Я думаю, он должен быть где-то на небе.
После грозы неподалеку в лесу что-то мерцало и потрескивало. Мы пошли посмотреть. Это было что-то яркое, горячее и подвижное желтого и красного цвета. Мы никогда раньше не видели подобной вещи. Теперь мы называем ее огнем. У огня особый запах. Похоже, он живой. Он ест пищу. Он пожирает траву и ветки деревьев и даже целые деревья, если вы ему позволяете. Он сильный. Но не очень умный. Если пища кончается, он умирает. Он не пойдет за пищей и не перекинется с одного дерева на другое, если по пути нет пищи. Без пищи он не может идти. Но если пищи много, он разрастается и порождает множество огненных детей.
Одному из нас пришла в голову смелая и пугающая мысль: поймать огонь, немного подкармливать его и сделать его нашим другом. Мы нашли длинные ветки лиственного дерева. Огонь ел их, но медленно. Мы взяли ветки за те концы, где не было огня. Если вы быстро побежите с маленьким огнем, он умрет. Его дети слабы. Поэтому мы не бежали. Мы медленно шли, громко повторяя добрые пожелания. «Не умирай!» — говорили мы огню. Остальные охотники смотрели на нас широко раскрытыми глазами.
С тех пор мы всегда носим его с собой. У нас есть зародыш огня, которому не надо много пищи, чтобы он не умер от голода[127]. Огонь — это чудо, и еще он очень полезен; несомненно, это дар могущественных существ. Интересно, это те же самые существа, что гневаются во время грозы?
Холодными ночами огонь доставляет нам тепло. Он дает нам свет. Он рассеивает тьму безлунных ночей. Теперь мы можем ночью чинить копья для завтрашней охоты. А если не устали, то даже в темноте можем видеть друг друга и беседовать. А еще — великая вещь! — пламя отгоняет животных. Мы были очень уязвимы по ночам. Порой нас могли съесть даже небольшие звери — гиены и волки. Теперь всё по-другому. Теперь огонь держит животных в отдалении. Мы замечаем, как они рыскают в темноте, негромко лая, а их глаза блестят в свете пламени. Они боятся огня. Но мы его не боимся. Огонь наш. Мы заботимся об огне. А огонь заботится о нас. Небо очень важно. Оно прикрывает нас. Оно говорит с нами. Еще в те дни, когда мы не знали огня, бывало, лежа на спине, мы смотрели вверх на все эти светящиеся точки. Некоторые из них соединяются в рисунки. Одна из наших женщин видит эти картины лучше других. Она научила нас, как различать звездные рисунки и как их называть. Засидевшись поздней ночью, мы сочиняли истории про нарисованных на небе львов, собак, медведей и охотников. Все-таки они какие-то странные. Может быть, это изображения могущественных небесных существ, тех, что вызывают грозы, когда сердятся?
По большей части небо не изменяется. Год за годом на нем остаются одни и те же рисунки. Луны сначала нет, потом она становится тонким ломтиком, затем шаром, а после вновь исчезает. Когда меняется Луна, у женщин случаются кровотечения. В некоторых племенах обычаи запрещают соития, когда Луна растет или убывает. Некоторые племена на специальных костях отмечают дни Луны и дни женских кровотечений. Они могут заранее предусмотреть, как соблюсти обычаи. Обычаи священны.
Звезды находятся очень далеко. Когда мы поднимаемся на возвышенность или забираемся на дерево, они не становятся ближе. Облака проходят между нами и звездами: звезды должны быть дальше облаков. Луна в своем медленном движении проходит перед звездами. Потом видно, что это не вредит звездам. Луна не ест звезды. Звезды должны быть дальше Луны. Они мерцают. Странные холодные белые далекие огни. Их много. Они по всему небу. Но только ночью. Любопытно, что же это такое?
После того как мы нашли огонь, я сидел у костра и думал о звездах. Во мне зрела мысль: звезды — это огонь, подумал я. Потом появилась другая мысль: звезды — это костры, которые другие охотничьи племена жгут по ночам. Звезды дают меньше света, чем костры. Так что они должны быть очень далекими кострами. «Но как же, — спросили меня, — как в небе могут быть костры? Почему эти костры и охотники вокруг них не падают вниз, к нашим ногам? Почему эти странные племена не спускаются к нам с неба?»
Это хорошие вопросы. Они беспокоят меня. Иногда я думаю, что небо — половинка громадной яичной или ореховой скорлупы. Я думаю, люди вокруг тех далеких костров смотрят вниз на нас — но только им кажется, что они смотрят вверх, — и говорят, что мы на их небе, и удивляются, почему мы не падаем к ним, если вы понимаете, что я имею в виду. Но охотники говорят: «Низ есть низ, а верх есть верх». Этот ответ тоже хороший.
У одного из наших охотников другая мысль. Он думает, что ночь — это огромная звериная шкура, наброшенная поверх неба. В шкуре есть дыры. Мы смотрим сквозь эти дыры. И видим огонь. Он думает, что огонь горит не только в тех отдельных местах, где мы видим звезды. Он считает, что огонь везде. Что пламя покрывает все небо. Но шкура скрывает огонь от нас. Только не там, где есть прорехи.
Некоторые звезды двигаются. Как животные, за которыми мы охотимся. Как мы. Если внимательно следишь за ними много месяцев, замечаешь, как они передвигаются. Их всего пять, как пальцев на руке. Они медленно странствуют среди остальных звезд. Если мысль о кострах верна, эти звезды должны быть кочевыми охотничьими племенами, несущими с собой большие огни. Но мне непонятно, как блуждающие звезды могут быть дырами в шкуре. Дыра остается там, где ее проделали. Дыра есть дыра. Дыры не путешествуют. А еще я не хочу, чтобы меня окружало небо из огня. Если шкура свалится, ночное небо станет ярким, слишком ярким, огонь будет повсюду. Я думаю, что огненное небо съест нас всех. Возможно, на небе есть два рода могущественных существ: плохие, которые хотят, чтобы огонь сожрал нас, и хорошие, которые прикрывают пламя шкурой, чтобы защитить нас от него. Нам нужно найти способ отблагодарить хороших.
Я не знаю, действительно ли звезды — это костры на небесах. Или это дыры в шкуре, сквозь которые вниз на нас смотрит огонь высших сил. Иногда я склоняюсь к одному. Иногда к другому. Однажды я подумал, что они не костры, не дыры, а что-то другое, слишком сложное для моего разумения.
Подложите под шею бревно. Ваша голова откинется назад. Тогда вы будете видеть только небо. Ни холмов, ни деревьев, ни охотников, ни костра. Только небо. Иногда мне кажется — я могу упасть в небо. Если звезды — это костры, я хотел бы посетить тех других охотников — особенно странствующих. И тогда мне кажется, что неплохо бы упасть вверх. Но если звезды — это дыры в шкуре, падать страшно. Я не хочу провалиться сквозь дыру в огонь.
Я хочу знать, как все обстоит на самом деле. Мне не нравится оставаться в неведении.
Не думаю, что подобные мысли о звездах беспокоили многих членов племен, занимавшихся охотой и собирательством. Возможно, лишь единицы задумывались об этом на протяжении долгих веков, и уж конечно никогда все эти идеи не приходили в голову одному человеку. Тем не менее в подобных человеческих сообществах бытуют весьма сложные представления. Например; бушмены из племени канг[128], живущие в пустыне Калахари в Ботсване, имеют свое толкование Млечного Пути, который в их широтах часто поднимается прямо над головой. Они называют его «спинным хребтом ночи», как если бы небо было огромным животным, внутри которого мы живем. Их объяснение делает Млечный Путь полезным и понятным. Племя канг считает, что Млечный Путь поддерживает ночь, что, если бы не он, осколки тьмы упали бы вниз к нашим ногам. Очень изящная идея.
Метафоры типа «небесные костры» или «галактический хребет» в большинстве человеческих культур были в конце концов заменены другими идеями: могущественные существа на небесах превратились в богов. Они получили имена и родословную, а также обязанность отвечать за разные космические службы. Для каждого человеческого дела был свой бог или богиня. Боги управляли Природой. Ничто не могло случиться без их прямого вмешательства. Если они пребывали в довольстве, то пища водилась в изобилии, и люди благоденствовали. Но стоило чем-то прогневать богов — порой для этого хватало сущей ерунды, — последствия оказывались ужасны: засухи, бури, войны, землетрясения, извержения вулканов, эпидемии. Богов следовало умиротворять, и появилось обширное сословие священников и оракулов, призванных умилостивить богов. Но поскольку боги капризны, никто не ведал, что они станут делать. Природа оставалась тайной. Понять мир было так трудно… Немногое уцелело на острове Самос в Эгейском море от Герайона — одного из чудес древнего мира, великого храма, посвященного Гере, которая начала свою карьеру в качестве богини неба. Она покровительствовала Самосу и была для него тем же, чем богиня Афина была для Афин. Значительно позже ее взял в жены Зевс, повелитель олимпийских богов. Древние легенды говорят нам, что медовый месяц они провели на Самосе. Полосу диффузного света на ночном небе греческая религия объясняет тем, что молоко, брызнувшее из груди Геры, окропило небо. Этой легенде мы обязаны названием «Млечный Путь», которым продолжаем пользоваться до сих пор. Возможно, изначально она отражала важную догадку, что небеса питают Землю. Но даже если и так, значение это, похоже, забылось тысячи лет назад.
Мы — почти все из нас — потомки тех людей, которые в ответ на тяготы жизни выдумывали истории о непредсказуемых или разгневанных божествах. Долгое время инстинктивная тяга людей к постижению мира шла вразрез с гибкими религиозными объяснениями, как было в Древней Греции эпохи Гомера, где боги повелевали небом и Землей, грозами, океанами и подземным миром, огнем и временем, любовью и войной, где каждое дерево и каждый луг служили приютом дриадам и нимфам.
Тысячи лет людей угнетало — а некоторых угнетает и теперь — представление о Вселенной как о марионетке, нити которой в руках бога (или богов), невидимого и непостижимого. А потом, 2500 лет назад, в Ионии произошло славное пробуждение. На Самосе и в других близлежащих греческих колониях, выросших на островах и в бухтах оживленной восточной части Эгейского моря[129], вдруг появились люди, которые верили, что все на свете состоит из атомов; что человеческие существа и иные животные произошли от других, более простых форм жизни; что болезни вызываются не демонами и богами; что Земля всего лишь планета, движущаяся вокруг Солнца. И что звезды находятся очень-очень далеко.
Эта революция породила Космос и Хаос. Сперва греки верили в изначальный Хаос, что перекликается с тем стихом Книги Бытия, где сказано, что земля была «безвидна»[130]. Хаос создал богиню по имени Ночь и соединился с ней, а их потомки дали жизнь всем богам и людям. Мир, сотворенный из Хаоса, идеально согласовался с греческой верой в непредсказуемую Природу, управляемую капризными богами. Однако в VI веке до нашей эры в Ионии сформировалась новая концепция, одна из величайших идей человечества. Вселенная познаваема, утверждали древние ионийцы, поскольку обнаруживает внутренний порядок: в Природе есть закономерности, позволяющие раскрыть ее секреты. Природа не является совершенно непредсказуемой; есть правила, которым даже она должна подчиняться. Этот замечательный, упорядоченный характер Вселенной получил название Космос.
Но почему именно в Ионии? Почему среди этих непритязательных, пасторальных пейзажей, на этих далеких островах и побережьях Восточного Средиземноморья? Почему не в великих городах Индии или Египта, не в Вавилонии, Китае или Центральной Америке? Китай имел тысячелетнюю астрономическую традицию; здесь изобрели бумагу и печатный станок, ракеты, часы, шелк, фарфор и методы навигации в открытом море. Некоторые историки утверждают, что это было все же слишком традиционалистское общество, активно сопротивлявшееся нововведениям. Почему не Индия, невероятно богатая, преуспевшая в математике культура? Потому, отвечает кое-кто из историков, что она была зачарована идеей вечной Вселенной, обреченной без конца повторять циклы смерти и перерождения душ и миров, где не может произойти ничего принципиально нового. Почему не майя или ацтеки, достигшие значительных успехов в астрономии и, подобно жителям Индии, тоже завороженные большими числами? Потому, заявляет ряд историков, что эти народы были лишены способностей или мотивов к созданию механических изобретений. Майя и ацтеки и колесо — то применяли только в детских игрушках.
Ионийцы имели целый ряд преимуществ. Иония — царство островов. Изоляция, даже неполная, способствует разнообразию. Множество несхожих между собой островов выработало многообразие политических систем. Не было единой силы, которая могла бы установить социальное и интеллектуальное единообразие на всех островах. Стали возможны свободные исследования. Поддержание суеверий не считалось политической необходимостью. В отличие от многих других культур ионийцы находились на перекрестке цивилизаций, а не в одном из центров. В Ионии финикийский алфавит был впервые адаптирован для греческого языка, что сделало возможным широкое распространение грамотности. Письмо больше не было монополией жрецов и переписчиков. Идеи многих людей стали доступны для рассмотрения и обсуждения. Политическая власть находилась в руках торговцев, активно содействовавших развитию техники, от которой зависело их процветание. Именно в Восточном Средиземноморье африканские, азиатские и европейские цивилизации, в том числе великие культуры Египта и Месопотамии, встречались и перекрестно опыляли друг друга в энергичном и изощренном противостоянии предубеждений, языков, идей и богов. Как быть, если сталкиваешься с тем, что сразу несколько разных богов претендует на одну и ту же территорию? Вавилонский Мардук и греческий Зевс оба считались повелителями неба и царями богов. Вы можете подумать, что Мардук и Зевс суть одно и то же божество. Однако несходство их атрибутов способно также натолкнуть вас на мысль, что один из них был выдуман жрецами. Но если один выдуман, то почему не оба?
Так родилась великая идея, осознание того, что есть путь познания мира вне гипотезы о боге, что существуют принципы, силы, законы природы, благодаря которым мир можно понять, не приписывая каждое падение воробья прямому вмешательству Зевса.
Китай, Индия и Центральная Америка, я думаю, тоже пришли бы к науке, будь у них немного больше времени. Культуры не развиваются в едином ритме, не идут в ногу. Они появляются в разное время и прогрессируют в разном темпе. Научное мировоззрение работает так хорошо, объясняет так много и настолько созвучно с наиболее развитой частью нашего мозга, что со временем, я полагаю, практически любая культура Земли, предоставленная самой себе, пришла бы к науке. Одной из культур суждено было вырваться вперед. Так случилось, что Иония стала тем местом, где впервые появилась наука.
Эта великая революция человеческого мышления началась между 600 и 400 годами до нашей эры. Ключом к перевороту послужил ремесленный труд. Многие блестящие ионийские мыслители были сыновьями мореплавателей, крестьян и ткачей. Они привыкли работать руками, в отличие от жрецов и писцов других наций, выросших в роскоши. Они отвергали предубеждения и творили чудеса. Во многих случаях у нас есть только отрывочные или позднейшие описания того, что происходило. Метафоры, которые были тогда в ходу, могут запутать нас. Почти наверняка несколько столетий спустя предпринимались сознательные усилия, чтобы скрыть новое знание. Главными фигурами в этой революции были люди с греческими именами, большей частью неизвестные нам сегодня, но ставшие истинными пионерами нашей цивилизации и нашего гуманизма.
Первым ионийским ученым был Фалес из Милета, города в Малой Азии, на противоположном берегу узкого пролива, отделяющего Самос от материка. Он путешествовал в Египет и был посвящен в знание Вавилона. Говорят, что Фалес предсказал солнечное затмение. Он знал, как измерить высоту пирамиды по длине ее тени и высоте Солнца над горизонтом — метод, применяемый сегодня для определения высоты гор на Луне. Фалес первым стал доказывать геометрические теоремы, подобные тем, что три века спустя систематизировал Евклид, например утверждение о равенстве углов при основании равнобедренного треугольника. Ясно прослеживается непрерывность мыслительной работы от Фалеса к Евклиду, а затем к Исааку Ньютону, который в 1663 году купил на Сторбриджской ярмарке «Начала геометрии» — событие, ускорившее появление современной науки и технологии.
Фалес пытался объяснить мир, не ссылаясь на вмешательство богов. Вслед за вавилонянами он считал, что весь мир состоит из воды. Чтобы объяснить существование суши, вавилоняне добавляли, что Мардук расстелил на воде ковер и выбивает из него пыль[131]. Фалес тоже придерживался подобных взглядов, но, как выразился Бенджамин Фаррингтон, «оставил в стороне Мардука». Да, изначально все было водой, но Земля образовалась из океанов благодаря естественному процессу, — подобному, полагал Фалес, заилению, которое ему довелось наблюдать в дельте Нила. Он считал воду первоосновой всей материи, как сегодня мы видим эту первооснову в электронах, протонах и нейтронах или в кварках. Правильны или нет были выводы Фалеса, не столь важно в сравнении с другим его умозаключением: мир не был создан богами, но является продуктом взаимодействующих в природе материальных сил. Из Вавилона и Египта Фалес привез семена новых наук — астрономии и геометрии, наук, которые пустили побеги и выросли на плодородной ионийской почве.
Мы очень мало знаем о жизни Фалеса, но сохранилась история, рассказанная Аристотелем в его «Политике» (книга 1, IV.4. — Пер.):
[Фалеса] попрекали бедностью, утверждая, будто занятия философией никакой выгоды не приносят. Рассказывают, он, предвидя на основании астрономических данных богатый урожай оливок, еще до истечения зимы роздал в задаток имевшуюся у него небольшую сумму денег всем владельцам маслобоен в Милете и на Хиосе, законтрактовав их дешево, так как никто с ним не конкурировал. Когда наступило время сбора оливок и сразу многим одновременно потребовались маслобойни, он, отдавая маслобойни на откуп на желательных ему условиях и собрав много денег, доказал, что философам при желании легко разбогатеть, но не это является предметом их стремлений.
Фалес был также известен как мудрый политик, убедивший милетцев отказаться от союза с Крезом, царем Лидии, но безуспешно призывавший островные государства Ионии объединиться, чтобы противостоять лидийцам.
Анаксимандр, друг и сподвижник Фалеса, был одним из первых известных нам людей, кто занимался экспериментированием. Изучая движение тени, отбрасываемой вертикальной палкой, он точно определил продолжительность года и сезонов. Веками люди использовали палку, чтобы бить и пронзать друг друга. Анаксимандр применил ее для измерения времени. Он первым в Греции построил солнечные часы, создал карту известного мира и небесный глобус с нанесенным на него рисунком созвездий. Он считал, что Солнце, Луна и звезды — это огонь, видимый сквозь перемещающиеся отверстия в небесном своде (идея, возможно зародившаяся куда раньше). Анаксимандр полагал, и это стоит отметить особо, что Земля не подвешена к небу и не поддерживается им, но сама по себе находится в центре Вселенной; поскольку она равноудалена от всех точек «небесной сферы», то нет сил, способных сдвинуть ее.
Мы рождаемся столь беспомощными, говорил он, что если бы первые человеческие детеныши были брошены в мир и оставлены на произвол судьбы, они бы немедленно умерли. Из этого Анаксимандр сделал вывод, что человеческие существа произошли от других животных, более сильных от рождения: он предполагал, что жизнь спонтанно зарождается в грязи и что первыми живыми существами были рыбы, покрытые шипами. Потомки этих рыб в конце концов покинули воду и вышли на сушу, где развились в животных, превращаясь из одной формы в другую. Он верил в существование бесконечного числа миров, сплошь населенных и проходящих через циклы распада и возрождения. «Однако, — как с сожалением отмечает святой Августин, — он не больше, чем Фалес, связывал причину всех этих непрестанных изменений с деятельностью божественного разума».
Примерно в 540 году до нашей эры на острове Самос к власти пришел тиран по имени Поликрат. Начинал он с торговли провизией, а потом занялся морским разбоем. Поликрат был щедрым покровителем искусств, наук и инженерного дела. Но он угнетал свой народ, развязал войну с соседями и справедливо опасался вторжения. Поэтому он окружил свою столицу массивной стеной протяженностью около шести километров, которая сохранилась до наших дней. Чтобы через эти укрепления доставлять воду из далекого родника, он приказал построить подземный ход. Ход этот, длиной около километра, пронизал гору насквозь. Каменотесы, прорубавшие его с двух сторон, встретились почти точно посередине. Строительство заняло около пятнадцати лет и стало свидетельством высокого инженерного искусства тех дней и показателем необычайной практической сметки ионийцев. Но у этого предприятия была и другая, зловещая сторона: частично подземный ход был проложен закованными в цепи рабами, которых захватывали пиратские корабли Поликрата.
Это было время Феодора — выдающегося инженера своего века, которому греки приписывают изобретение ключа, линейки, плотничьего угольника, уровня, токарной обработки, бронзового литья и центрального отопления. Почему этому человеку не поставлен памятник? Те, кто размышлял о законах Природы, часто беседовали с инженерами и изобретателями. Нередко это были одни и те же люди. Теоретики и практики в одном лице.
В это же время на соседнем острове Кос Гиппократ закладывал основы своей прославленной медицинской традиции, о которой в наши дни помнят в основном благодаря знаменитой врачебной клятве. Это была практичная и эффективная школа врачевания, основанная, по утверждению ее создателя, на знаниях, которые в то время играли роль физики и химии[132]. Но она также опиралась на собственную теорию. В книге «О древней медицине» Гиппократ пишет: «Люди считают эпилепсию божественной в основном потому, что не понимают ее. Но если называть божественным все, чего не понимаешь, божественному не будет конца».
Примерно тогда же ионийское влияние распространилось на территорию материковой Греции, Италии и Сицилии. Было время, когда почти никто не верил в существование воздуха. Конечно, люди знали о дыхании и считали ветер дыханием богов. Однако представление о воздухе как о неподвижном, материальном, но невидимом веществе выходило за пределы воображения. Первый описанный эксперимент с воздухом был выполнен врачом[133] Эмпедоклом (который также преуспел в филоcофии, поэзии и политике. — Ред.). Пик его деятельности пришелся примерно на 450 год до нашей эры. Если верить некоторым источникам, он считал себя богом. Возможно, он просто был настолько умен, что богом его считали другие. Он полагал, что свет движется очень быстро, но не с бесконечной скоростью. Он учил, что когда-то на Земле обитало гораздо больше разновидностей живых существ, но многие их виды «оказались, должно быть, неспособны продолжить свой род. Ибо каждому из существующих видов защитой и опорой служили особые навыки, или смелость, или скорость, изначально присущие им». Этой попыткой объяснить великолепную адаптацию организмов к среде их существования Эмпедокл, подобно Анаксимандру и Демокриту (см. ниже), отчетливо предвосхитил некоторые аспекты великой дарвиновской идеи об эволюции под действием естественного отбора.
Эмпедокл использовал в своем эксперименте кухонное приспособление, которым люди пользовались уже многие века, — так называемую клепсидру, или «водяного вора», служившего кухонным черпаком. Медная сфера с открытым горлышком и маленькими дырочками снизу наполнялась при погружении в воду. Если просто вынуть ее из воды, вода сразу польется через отверстия, как из душа. Однако если плотно закрыть горлышко большим пальцем, вода останется внутри сферы, пока вы не откроете отверстие. Попытайся наполнить клепсидру при закрытом горлышке, из этого ничего не получится. Какая-то материальная субстанция должна выйти, чтобы освободить место воде. Мы не можем увидеть данную субстанцию. Что бы это могло быть? Воздух, и ничего более, утверждал Эмпедокл. Вещь, которую мы не в состоянии увидеть, способна оказывать давление и препятствует моему желанию наполнить сосуд водой, если я по глупости оставлю палец на горлышке. Эмпедокл открыл невидимое. Воздух, думал он, должен быть веществом настолько разреженным, что его невозможно увидеть.
Говорят, Эмпедокл погиб, бросившись в экстатическом порыве в горячую лаву на вершине великого вулкана Этна. Но мне иногда кажется, что он просто оступился во время смелой попытки положить начало наблюдательной геофизике.
Новое веяние, слабый намек на существование атомов был подхвачен и развит человеком по имени Демокрит, родом из ионийской колонии Абдера, на севере Греции. Абдера служила неистощимым поводом для шуток. В 430 году до нашей эры истории о жителях Абдеры неизменно вызывали приступы хохота. Она была чем-то вроде Бруклина в наше время. Для Демокрита смысл жизни состоял в том, чтобы наслаждаться и постигать новое; постижение и наслаждение были для него одним и тем же. Он говорил, что «жизнь без веселья — это все равно, что долгая дорога без постоялого двора». Хотя Демокрит и прибыл из Абдеры, он был далеко не смешон. Он верил, что из диффузной материи в пространстве спонтанно формируется множество миров, которые эволюционируют, а потом распадаются. В то время, когда никто не знал о существовании ударных кратеров, Демокрит размышлял о том, что миры могут случайно столкнуться; он верил, что некоторые миры в одиночестве блуждают в темноте космоса, тогда как другие сопровождаются несколькими солнцами и лунами; что некоторые миры обитаемы, а другие лишены растений, животных и даже воды; что простейшие формы жизни появились из первобытных болот. Демокрит учил, что восприятие — например, суждение о том, что я сейчас держу в руке карандаш, — является в чистом виде физическим и механическим процессом; что мышление и чувства — это свойства материи, организованной достаточно тонким и сложным образом, и никак не связаны с духом, вселяемым в материю богами.
Демокрит придумал слово атом, которое в переводе с греческого буквально означает «неделимый». Атомы — это предельные частицы материи, которые никогда не могут быть разделены на меньшие части. Все сущее, говорил Демокрит, представляет собой прихотливо соединенные группы атомов. Даже мы сами. «Нет ничего, — заявлял он, — кроме атомов и пустоты».
Когда мы разрезаем яблоко, рассуждал Демокрит, нож должен пройти сквозь пустые пространства между атомами. Не будь пустот, нож встретился бы с непробиваемыми атомами и яблоко не удалось бы разрезать. Допустим, что мы вырезали из конуса тонкий слой и определили площади двух получившихся сечений. Будут ли эти площади равны? Нет, отвечает Демокрит. Наклон образующих конуса приводит к тому, что площадь одного из сечений немного меньше, чем другого. Если бы обе площади были в точности равны, мы имели бы дело с цилиндром, а не с конусом. Сколь бы острым ножом мы ни пользовались, площади срезов на двух кусках не будут равны. Почему? Потому что в очень мелком масштабе выявляется неустранимая шероховатость материи. Эту мелкомасштабную шероховатость Демокрит соотносит с миром атомов. Его аргументы отличаются от тех, что мы используем сегодня, но они тонки, изящны и получены из наблюдения за повседневной жизнью. А в своей основе сделанные Демокритом выводы совершенно верны.
А вот другая задача, связанная с предыдущей. Демокрит придумал способ вычисления объема конуса или пирамиды как совокупности очень большого числа чрезвычайно тонких пластин, размеры которых постепенно уменьшаются от основания к вершине. Тем самым он поставил задачу, которая в математике относится к теории пределов. Он уже стучался в двери дифференциального и интегрального исчисления — этого фундаментального инструмента познания, который, насколько мы можем судить по письменным источникам, не был открыт до Исаака Ньютона. Возможно, если бы работы Демокрита не были практически полностью уничтожены, это исчисление уже существовало бы к началу христианской эры[134].
Томас Райт в 1750 году поражался тому, что Демокрит считал Млечный Путь состоящим в основном из неразличимых звезд: «Можно сказать, что задолго до того, как астрономия извлекла выгоду из прогресса оптической науки, [он] мысленным взором заглянул так далеко в бесконечность, как это удавалось лишь наиболее талантливым астрономам в гораздо более благоприятные времена». Разум Демокрита поднялся выше Молока Геры, выше Хребта Ночи.
В обыденной жизни Демокрит, похоже, был чудаком. Женщины, дети и плотская любовь доставляли ему одни неудобства, отчасти потому, что отнимали время от размышлений. Однако он ценил дружбу, считал веселье целью жизни и посвятил большое философское исследование истокам и природе благодушия. Он специально отправился в Афины, чтобы посетить Сократа, но оказался слишком робок, чтобы представиться. Он был близким другом Гиппократа, восхищался красотой и совершенством физического мира, полагал, что бедность при демократии предпочтительнее богатства при тирании.
Господствовавшие в его время религии он считал злом и был уверен, что ни бессмертных душ, ни бессмертных богов не существует: «Нет ничего, кроме атомов и пустоты».
Нет никаких свидетельств, чтобы Демокрит подвергался гонениям за свои взгляды — он как-никак был из Абдеры. И все же в его время короткая традиция терпимого отношения к необщепринятым воззрениям начала расшатываться и рушиться. Людей стали наказывать за необычные идеи. Ныне портрет Демокрита украшает греческую банкноту достоинством 100 драхм[135]. Однако его озарения замалчивались и мало повлияли на ход истории. Мистики начинали брать верх.
Около 450 года до нашей эры к вершине жизненного пути подошел живший в Афинах ионийский экспериментатор Анаксагор. Богатый человек, он равнодушно относился к своему достатку, но был страстно влюблен в науку. Когда его спрашивали, в чем смысл жизни, он отвечал: «В том, чтобы исследовать Солнце, Луну и небо», — ответ истинного астронома. Анаксагор проделал эксперимент, в котором показал, что одна капля белой жидкости, например сливок, не способна заметно осветлить содержимое большого кувшина с темной жидкостью, например с вином. Отсюда он заключил, что должны существовать такие тонкие различия, которые непосредственно недоступны для нашего восприятия, но могут быть выявлены экспериментально.
Анаксагор был далеко не столь радикален, как Демокрит. Оба они являлись убежденными материалистами — не в том смысле, что высоко ценили богатство, но в том, что считали материю единственным началом нашего мира[136]. Анаксагор верил в особую разумную субстанцию и не верил в существование атомов. Он полагал, что мы, люди, умнее других животных благодаря нашим рукам, — очень ионийская идея.
Он был первым, кто со всей определенностью заявил, что Луна светит отраженным светом, и разработал теорию смены лунных фаз. Это учение посчитали настолько опасным, что манускрипты передавали из рук в руки тайно, как некий афинский самиздат. Истолкование лунных фаз и затмений через изменение геометрического взаиморасположения Земли, Луны и самосветящегося Солнца шло вразрез с тщательно оберегавшимися предрассудками того времени. Два поколения спустя Аристотель ограничился тем, что пояснил: смена фаз и затмения происходят потому, что они присущи природе Луны, — простое жонглирование словами, объяснение, которое ничего не объясняет.
В то время доминировало представление, будто Солнце и Луна — это боги. Анаксагор стоял на том, что Солнце и звезды — раскаленные камни. Мы не чувствуем тепла от звезд потому, что они слишком далеки. Он также полагал, что на Луне есть горы (верно) и живые существа (ошибка). Он держался того взгляда, что Солнце огромно, возможно, больше Пелопоннеса, южной трети Греции. Его критики находили, что эта оценка непомерно завышена и абсурдна.
В Афины Анаксагора привез Перикл — человек, стоявший у кормила власти, когда город достиг наивысшей славы, но также и тот, кто развязал Пелопоннесскую войну, разрушившую афинскую демократию. Перикл наслаждался философией и наукой, и Анаксагор был одним из его главных доверенных лиц. Некоторые считают, что благодаря этой роли Анаксагор существенно способствовал возвышению Афин. Но у Перикла возникли политические проблемы. Он был слишком могуществен, чтобы на него нападали прямо, поэтому враги накидывались на тех, кто был близок ему. Анаксагора заключили в тюрьму по обвинению в религиозном преступлении — безбожии, поскольку он считал, что Луна — это территория, состоящая из обычного вещества, а Солнце — раскаленный докрасна камень в небе. Епископ Джон Уилкинс в 1638 году так прокомментировал действия афинян: «Сии ревностные идолопоклонники [сочли] великим богохульством, что их бога сделали камнем, и это притом, что они были настолько слепы в своем поклонении идолам, что сами сделали камень своим богом». Перикл, похоже, добился освобождения Анаксагора из тюрьмы, но было уже слишком поздно. Течения в Греции начали меняться, хотя двумя столетиями позже ионийская традиция была подхвачена в александрийском Египте.
Великих ученых от Фалеса до Демокрита и Анаксагора в книгах по истории философии обычно называют «досократиками», как будто их основная роль состояла в том, чтобы держать философскую оборону до подхода Сократа, Платона и Аристотеля и, возможно, немного на них повлиять. На самом деле ранние ионийцы представляли собой иную, во многом противоположную традицию, гораздо более близкую к современной науке. То обстоятельство, что их влияние сохранилось только на протяжении двух-трех веков, обернулось невосполнимыми потерями для людей, живших после ионийского Пробуждения вплоть до итальянского Ренессанса. Вероятно, наиболее влиятельным человеком, чье имя связывают с Самосом, был Пифагор, современник Поликрата, живший в VI веке до нашей эры[137]. Согласно местной легенде, он некоторое время обитал в пещере горы Керкис на Самосе и был первым человеком в мировой истории, доказавшим, что Земля имеет сферическую форму. Возможно, он исходил из аналогии с Луной и Солнцем, или заметил искривленность земной тени на Луне во время лунного затмения, или обратил внимание, что у кораблей, покидающих Самос и скрывающихся за горизонтом, мачты исчезают из виду в последнюю очередь.
Он сам или его ученики открыли теорему Пифагора, гласящую, что сумма квадратов коротких сторон прямоугольного треугольника равна квадрату длинной стороны. Пифагор не просто привел ряд примеров, подтверждающих эту теорему, — он разработал метод математической дедукции, для того чтобы доказать это утверждение в общем виде. Современная традиция математических доказательств, чрезвычайно важная для всей нашей науки, многим обязана Пифагору. Именно он впервые использовал слово «Космос» для обозначения упорядоченной и гармонично организованной Вселенной, мира, доступного человеческому пониманию. Многие ионийцы верили, что фундаментальную гармонию мира можно обнаружить путем наблюдения и эксперимента — методами, которые доминируют в современной науке. И тем не менее Пифагор применял совершенно иной метод. Он учил, что законы Природы можно вывести из одних только умозаключений. Он и его последователи не принадлежали к числу экспериментаторов[138]. Они были математиками. И последовательными мистиками. По отзыву, возможно слишком жесткому, Бертрана Рассела, Пифагор «основал религию, главные положения которой состояли в учении о переселении душ и греховности употребления в пищу бобов. Религия Пифагора нашла свое воплощение в особом религиозном ордене, который то тут, то там приобретал контроль над государством и устанавливал правление своих святых. Но те, которые не были возрождены новой верой, жаждали бобов и рано или поздно восставали» (Б. Рассел. «История западной философии», гл. III. — Пер.).
Пифагорейцы упивались неопровержимостью математических доказательств, причастностью к чистому, незапятнанному миру, доступному человеческому интеллекту, Космосом, в котором стороны прямоугольных треугольников безупречно повинуются простым математическим соотношениям. Какой разительный контраст составляло все это с грязной, беспорядочной реальностью повседневного мира! Они верили, что благодаря своей математике заглядывают в идеальный мир, в царство богов, по отношению к которому знакомая нам реальность является лишь несовершенным отражением. В знаменитой притче Платона о пещере говорится об узниках, прикованных так, что они могут видеть только тени проходящих мимо людей и считают эти тени реальностью, не догадываясь о существовании сложного реального мира, который открылся бы им, если бы они могли обернуться. Пифагорейцы оказали большое влияние на Платона и впоследствии на христианство.
Они не поощряли свободное столкновение противоборствующих точек зрения. Наоборот, подобно всем религиозным ортодоксам, они были крайне консервативны, что мешало им исправлять собственные ошибки.
Цицерон писал:
Ведь при обсуждении следует, конечно, больше придавать значения силе доказательств, чем авторитету. Так что по большей части желающим научиться авторитет учителя приносит даже вред, потому что они перестают сами рассуждать и считают бесспорными только суждения того лица, которого они почитают. Я не одобряю того, что известно о пифагорейцах, которые, когда что-то утверждают при обсуждении, и при этом у них спросишь: «Почему так?» — обычно отвечают: «Сам сказал!». «Сам» — это значит Пифагор. Столь великой оказалась сила предвзятого мнения, что авторитет стал действовать даже без доказательств[139].
Пифагорейцев особенно занимали так называемые правильные многогранники — симметричные трехмерные тела, грани которых представляют собой одинаковые правильные многоугольники. Куб с шестью квадрат — эксперимента — методами, которые доминируют в современной науке. И тем не менее Пифагор применял совершенно иной метод. Он учил, что законы Природы можно вывести из одних только умозаключений. Он и его последователи не принадлежали к числу экспериментаторов[140]. Они были математиками. И последовательными мистиками. По отзыву, возможно слишком жесткому, Бертрана Рассела, Пифагор «основал религию, главные положения которой состояли в учении о переселении душ и греховности употребления в пищу бобов. Религия Пифагора нашла свое воплощение в особом религиозном ордене, который то тут, то там приобретал контроль над государством и устанавливал правление своих святых. Но те, которые не были возрождены новой верой, жаждали бобов и рано или поздно восставали» (Б. Рассел. «История западной философии», гл. III. — Пер.).
Про и контра пифагорейской традиции наглядно иллюстрирует труд всей жизни Иоганна Кеплера (гл. III), Представление пифагорейцев о совершенном и мистическом мире, не воспринимаемом чувствами, было с готовностью подхвачено ранними христианами и стало неотъемлемой частью знаний, полученных Кеплером в юности. С одной стороны, Кеплер был убежден, что в природе существует математическая гармония (он писал, что «природа отмечена печатью красоты гармонических пропорций»), что движение планет должны определять простые численные соотношения. С другой стороны, опять же вслед за пифагорейцами, он долгое время считал приемлемым только равномерное круговое движение. Снова и снова он обнаруживал, что движения планет не поддаются такому объяснению, и опять возвращался к нему. Однако в отличие от пифагорейцев он доверял наблюдениям и экспериментам, выполняемым в реальном мире. В конце концов подробнейшие наблюдения видимых движений планет вынудили его отбросить идею о круговых орбитах и признать, что планеты движутся по эллипсам. Притягательность пифагорейской доктрины одновременно и вдохновила Кеплера на поиски гармонии планетных движений, и задержала его работу более чем на десять лет.
Презрение к практике охватило античный мир. Платон убеждал астрономов думать о небесах, но не тратить время на их наблюдение. Аристотель держался такого мнения: «Те люди, [которые] по своей природе — рабы; для них… лучший удел — быть в подчинении у [хозяина]… Раб ведь живет в постоянном общении со своим господином; ремесленник стоит гораздо дальше, а потому не должен ли ремесленник превосходить своей добродетелью раба настолько, насколько ремесленный труд стоит выше труда рабского? Ремесленник, занимающийся низким ремеслом, находится в состоянии некоего ограниченного рабства». Плутарх писал: «Если работа восхищает вас своим изяществом, из этого еще не следует, что тот, кто ее исполнил, заслуживает уважения и почета». А вот мнение Ксенофонта: «То, что зовется у нас ремеслами, несет на себе клеймо общественного позора и справедливо презирается в наших городах». Вследствие такого отношения блестящий и многообещающий ионийский экспериментальный метод был практически полностью забыт на два тысячелетия. Без эксперимента невозможно сделать выбор между соперничающими гипотезами, невозможно развивать науку. Пифагорейский порок антиэмпиризма дожил до наших дней. Но почему? Откуда берется эта неприязнь к опыту?
Объяснение упадку античной науки дал историк Бенджамин Фаррингтон. Торговля, которая вызвала к жизни ионийскую традицию, также породила экономику, основанную на рабском труде. Владение невольниками было прямой дорогой к богатству и власти. Оборонительные сооружения Поликрата возводили рабы. В Афинах времен Перикла, Платона и Аристотеля рабы составляли значительную часть населения. Храбрые афиняне говорили о демократии, но только для привилегированного меньшинства. Уделом рабов был физический труд. Но постановка опытов как раз и представляет собой этот самый физический труд, от которого рабовладельцы по возможности дистанцировались. Между тем досуг для занятий наукой был только у рабовладельцев, которых в других общественных системах почтительно именовали «благородными» (джентльменами). В результате заниматься наукой стало некому. Ионийцы умели создавать замечательные по своему изяществу механизмы. Однако доступность рабской силы подтачивала экономические мотивы развития технологии. Вот так торговля, которая содействовала ионийскому пробуждению около 600 года до нашей эры, спустя два столетия привела к его упадку, дав толчок развитию рабства. Какая величайшая ирония судьбы…
Нечто подобное происходило во всем мире. Китайская астрономия достигла высшей точки своего развития около 1280 года в работах Го Шоу-цзина, который опирался на полуторатысячелетние наблюдения, усовершенствовал астрономические инструменты и приемы математических вычислений. Принято считать, что после него китайская астрономия быстро пришла в упадок. Натан Сивин убежден, что причины этого, по крайней мере отчасти, лежат в «нарастающей консервативности элиты, из-за которой образованные люди были менее склонны интересоваться техникой и признавать науку подходящим поприщем для благородного человека». Должность астронома стала передаваться по наследству, что делало развитие науки практически невозможным. Кроме того, «высшая ответственность за развитие астрономии была возложена на имперский суд и по большей части оставлена на откуп иноземным советникам», в основном иезуитам, которые поначалу удивили китайцев работами Евклида и Коперника, но после того как труд последнего был подвергнут цензуре, стали всеми способами искажать и замалчивать гелиоцентрическую космологию. В культурах Индии, майя и ацтеков наука, вероятно, оказалась мертворожденной по той же причине, по которой она пришла в упадок в Ионии, — вследствие повсеместного распространения рабского труда. Сегодня серьезнейшая проблема стран третьего мира состоит в том, что их образованный класс — это по преимуществу дети богатых родителей, заинтересованные в сохранении статус-кво, не привыкшие создавать что-либо своими руками или подвергать сомнению общепринятые взгляды. В результате наука пускает здесь корни очень медленно.
Платон и Аристотель вполне комфортно чувствовали себя в рабовладельческом обществе. Они находили оправдание угнетению. Они служили тиранам. Они учили, что тело чуждо разуму (довольно естественный взгляд для рабовладельческого общества); они отделяли материю от мышления, а Землю от небес, — и эти разграничения доминировали в западном мышлении более двадцати столетий. Платон, считавший, что «все вещи полны богов», в действительности использовал метафору рабства, чтобы увязать свою политику со своей космологией. Рассказывают, что он настоял на сожжении всех трудов Демокрита (так же он советовал поступить и с сочинениями Гомера), вероятно, потому, что Демокрит не признавал бессмертной души, бессмертных богов, пифагорейского мистицизма и верил в существование бесчисленного множества миров. Из семидесяти трех работ, охватывающих все стороны человеческого знания, которые, как полагают, написал Демокрит, не сохранилось ни одной. Все, что мы знаем, почерпнуто из фрагментов, касающихся в основном вопросов этики, и из различных пересказов. То же самое относится и почти ко всем другим древним ионийским ученым.
Обнаружив познаваемость Космоса и существование математической подоплеки природы, пифагорейцы и Платон внесли громадный вклад в развитие науки. Но замалчивание ими неудобных фактов, объявление науки достоянием немногочисленной элиты, их неприязнь к эксперименту, сближение с мистицизмом и одобрение рабовладельческого общества надолго задержали развитие человечества. После долгого мистического сна, когда инструменты научного познания лежали под спудом, ионийский подход, отчасти дошедший до нас через ученых Александрийской библиотеки, в конце концов был открыт вновь. Западный мир опять пробудился. Эксперимент и свободное исследование снова оказались в почете. Забытые книги и фрагменты были прочтены заново. Леонардо, Колумб, Коперник вдохновлялись наследием древнегреческой традиции или самостоятельно восстанавливали ее части. В наше время перешло многое из ионийской науки, но не из политики и религии, а еще та смелость, которая необходима для свободного исследования. Но потрясающие суеверия и убийственные этические двусмысленности пережили века. Мы расколоты античными противоречиями.
Философы школы Платона и их христианские последователи придерживались мнения, что Земля — испорченный, греховный мир, тогда как небеса совершенны и божественны. Фундаментальная идея о том, что Земля является планетой, что мы — граждане Вселенной, была отвергнута и забыта. Эту мысль впервые выдвинул Аристарх, родившийся на Самосе через три столетия после Пифагора. Аристарх был одним из последних ионийских ученых. К тому времени центр интеллектуальной жизни и просвещения уже переместился в великую Александрийскую библиотеку. Аристарх первым поместил Солнце, а не Землю в центр планетной системы, провозгласив, что планеты движутся вокруг Солнца, а не вокруг Земли. Как водится, его труды по этому вопросу были утрачены. Исходя из размеров земной тени на Луне, видимой во время лунного затмения, он заключил, что Солнце намного больше Земли и находится очень далеко от нас. Из этого он мог сделать вывод об абсурдности обращения столь огромного тела, как Солнце, вокруг совсем небольшой Земли. Он поставил Солнце в центр, приняв, что Земля оборачивается вокруг своей оси за одни сутки, а вокруг Солнца — за один год.
Эту идею мы привыкли связывать с именем Коперника, который, по отзыву Галилея, «восстановил и подтвердил», но не изобрел гелиоцентрическую гипотезу[141]. На протяжении 1800 лет, прошедших от Аристарха до Коперника, никто не знал действительного расположения планет, хотя оно было с абсолютной ясностью определено еще в 280 году до нашей эры. Эта идея оскорбляла некоторых современников ученого. Раздавались призывы покарать его за безбожие, как это было с Анаксагором, Бруно и Галилеем. Сопротивление идеям Аристарха и Коперника, своего рода геоцентризм, остается в нашей повседневности: мы продолжаем говорить, что Солнце «восходит» и «садится». Спустя 2200 лет после Аристарха наш язык продолжает считать Землю неподвижной.
Расстояния, разделяющие планеты, — сорок миллионов километров от Земли до Венеры в момент максимального сближения, шесть миллиардов километров до Плутона — ошеломили бы тех греков, которых возмущало, что Солнце может быть больше Пелопоннеса. Принято было считать, что Солнечная система гораздо компактнее. Если я выставлю перед собой палец и посмотрю на него сначала левым глазом, а затем правым, он словно бы смещается относительно далеких предметов. Чем ближе к глазам я подношу палец, тем больше смещение. По величине этого видимого перемещения, или параллакса, я могу определить расстояние до пальца. Будь мои глаза расставлены пошире, смещение пальца соответственно увеличилось бы. Чем длиннее база, с концов которой мы выполняем два наблюдения, тем больше параллакс и тем лучше удается измерить дистанцию до удаленного объекта. Но мы живем на движущемся основании, на Земле, которая за шесть месяцев перемещается на 300 000 000 километров с одного края своей орбиты на другой. Наблюдение одного и того же неподвижного небесного объекта с интервалом в шесть месяцев дает возможность измерять очень большие расстояния. Аристарх предполагал, что звезды — это далекие солнца. Он помещал Солнце «среди» неподвижных звезд. Отсутствие заметных звездных параллаксов при движении Земли указывало на то, что звезды намного дальше Солнца. Параллаксы даже ближайших к нам звезд настолько малы, что до изобретения телескопа их не удавалось обнаружить. Звездные параллаксы не были измерены вплоть до XIX века. Только тогда непосредственно на основе греческой геометрии удалось выяснить, что звезды находятся на расстояниях, измеряемых световыми годами.
Существует другой способ измерить расстояние до звезд, который ионийцы вполне могли открыть, хотя, насколько нам известно, они его не применяли. Каждый из нас знает, что чем дальше находится объект, тем меньше он выглядит. Эта обратная пропорциональная зависимость между видимыми размерами и расстоянием лежит в основе перспективы, используемой в живописи и фотографии. Таким образом, чем дальше мы находимся от Солнца, тем меньше будут его видимые размеры и тем слабее будет блеск. Насколько нам нужно удалиться от Солнца, чтобы оно стало выглядеть таким же маленьким и тусклым, как звезда? Или, что то же самое, насколько маленький кусочек Солнца надо взять, чтобы его яркость равнялась яркости звезды?
Один из первых экспериментов, призванных ответить на этот вопрос, был поставлен Христианом Гюйгенсом вполне в ионийских традициях. Гюйгенс просверлил в латунной пластине ряд маленьких отверстий и, держа ее против Солнца, на глаз оценивал, какое из отверстий по яркости соответствует блеску звезды Сириус, которую он наблюдал прошлой ночью. Эффективный[142] размер такого отверстия оказался равным 1/28 000 видимого размера Солнца. Отсюда он заключил, что Сириус должен находиться в 28 000 раз дальше от нас, чем Солнце, то есть примерно в половине светового года. Удерживать в памяти блеск звезды на протяжении нескольких часов очень трудно, но Гюйгенс великолепно справился с этим. Если бы он знал, что Сириус в действительности ярче нашего Солнца, он получил бы почти правильный ответ: Сириус удален от нас на 8,8 светового года. Тот факт, что Аристарх и Гюйгенс использовали неточные данные и получили неточный результат, не столь важен. Они настолько ясно изложили суть своих методов, что после получения более надежных наблюдений не составляло труда скорректировать выводы.
В промежутке между эпохой Аристарха и временем Гюйгенса люди нашли ответ на вопрос, который так беспокоил меня, мальчишку, подраставшего в Бруклине: что такое звезды? Оказалось, что звезды — это величественные солнца, отделенные от нас световыми годами в безбрежности мирового пространства.
Главный завет Аристарха состоит в следующем: ни мы, ни наша планета не занимаем привилегированного положения в Природе. Впоследствии это суждение было распространено ввысь — на звезды и вширь — на различные группы человеческого общества, распространено с успехом и вопреки непременному сопротивлению. Именно ему мы обязаны значительным прогрессом в астрономии, физике, биологии, антропологии, экономике и политике. И вот я думаю, не социальные ли экстраполяции идеи были основной причиной попыток похоронить ее?
Унаследованные от Аристарха идеи были распространены намного дальше царства звезд. В конце XVIII века Уильям Гершель, придворный музыкант и астроном английского короля Георга III, завершил создание карты звездного неба и обнаружил, что по обе стороны от полосы Млечного Пути находится примерно одинаковое количество звезд; из этого он сделал довольно разумный вывод о том, что мы находимся в центре Галактики[143]. Перед самым началом Первой мировой войны Харлоу Шепли из Миссури разработал технику измерения расстояний до шаровых звездных скоплений — восхитительных сферически симметричных «звездных куч», напоминающих пчелиный рой. Шепли нашел своего рода стандартную звездную свечу — тип звезд, которые хорошо заметны благодаря своей переменности и вместе с тем всегда имеют одну и ту же собственную светимость[144].
Сравнивая видимый блеск таких звезд, обнаруженных в шаровых скоплениях, с их реальной светимостью, определенной по ближайшим к нам светилам этого класса, Шепли смог вычислить, насколько далеко находятся скопления. Точно так же, находясь в поле, мы можем оценить расстояние до фонаря известной мощности по тому слабому свету, который до нас доходит. По сути, это метод Гюйгенса. Шепли открыл, что центр пространственного распределения шаровых скоплений находится не в окрестностях Солнца, а в довольно отдаленном районе Млечного Пути, в направлении созвездия Стрельца. Напрашивалась мысль, что почти сотня изученных шаровых скоплений обращается вокруг массивного центра Галактики.






