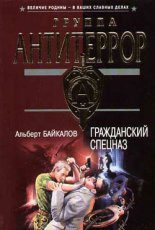Супердвое: убойный фактор Шишков Михаил

Трущев дотянулся до книжного шкафа и снял с полки обернутую в газету книгу, раскрыл и, напрягши голос – вероятно, чтоб сходство стало убедительней, – процитировал:
– Zu widerstehen der Wille mu jede militrische Unterteilung erarbeiten…[33]
Эти ожившие вопли – спустя более полвека озвученные в другой стране, зачитанные недоброжелателем и унтерменшем, – произвели странное действие не только на меня, но и на фитилек в лампе, на огонь в печи. Пламя задрожало, затрепетали тени – выстроились, сомкнулись, затаили дыхание. Одна из них, рожденная углом шифоньера и брошенной на него курткой, преобразилась, украсилась челкой и обрела неотразимо схожие черты с закатывающим глаза чудиком, решившим спасти мир от славянской чумы.
Трущев продолжал цитировать, слегка передразнивая автора древнего амбициозного текста:
– …es kann nicht eine Frage ber den Rckzug sein. In einigen Pltzen treten die tiefen Durchgriffe des Feindes nur auf. Die defensiven Positionen in der Rckseite verursachen – Phantasie. Frontseite leidet nur unter einer: im Feind ist es mehr als Soldaten. In es nicht mehr als Artillerieinstrumente. Es wars viel schlechter als wir…?[34]
Оживив прошлое, Трущев деловито уточнил:
– К записке также была приложена схема обороны Калуги. К тому моменту, как Берия докладывал Сталину, город уже освободили.
После второй рюмки Трущев внес в поток истории философскую струю.
– Все дело в воспитательной работе. Запустили вы этот участок, трудно будет рассчитывать на успех…
– А вы?
– А мы свое отбарабанили. Побарабаньте вы.
То ли обстановка подействовала, то ли насмешливый пафос, с каким этот цепной пес режима передал мне палочки, только неожиданно для себя я, расправив плечи, брякнул:
– Побарабаним!
Он одобрительно глянул на меня и неожиданно тонким, с хрипотцой, голосом пропел:
– Не для меня… цветут сады. В долине роща расцветает… там соловей весну встречает. Давай, наливай. Что-то я сегодня совсем распоясался… Он будет петь не для меня.
Закусив, Трущев продолжил:
– Возле самой партизанской базы меня ранило, – он указал на шрам у виска. – Пришлось поваляться в госпитале. Дураку командиру партизанского отряда, лейтенанту из окруженцев, именно в тот день приспичило штурмовать детский дом в окрестностях Калуги. Там, понимаешь, немцы у детишек кровь для своих раненых отымали. Нельзя было день обождать! Ведь был приказ сидеть тихо!.. Но этому окруженцу все было по барабану. Они все, кто выжил или бежал из плена, были какие-то бешеные. Им казалось, что ничего страшнее, чем первый бой, плен, знакомство с фашистскими мордами придумать невозможно. Впрочем, хрен с ними, с партизанами! – он с неожиданной легкой издевкой съехидничал. – Хрен с ними, с делами давно минувших дней, преданьями старины далекой!
Затем заголосил громче, душевней.
– …Не для меня придет Пасха… за стол родня вся соберется… «Христос воскрес» из уст польется… в пасхальный день не для меня, – и, неожиданно стукнув кулаком по столу, затянул басом: – Трущевой Татьяне Петровне ве-е-ечная па-а-амя-ять!
Насчет Пасхи это было что-то новенькое для правоверного коммуниста и ветерана НКВД, ведь в чем угодно можно было упрекнуть Трущева, только не в попытке перекраситься.
Мне стало не по себе – уместна ли ирония на поминках? И не является ли эта самая ирония чумой нашего времени?
Я поинтересовался.
– Сегодня день ее смерти.
– Чьей? Вашей жены?
– Нет, уважаемый. Сегодня разбилась Светочка. Светлана Николаевна Трущева. Прыгнула вниз головой с самолета, а парашют не раскрылся. Это было в сорок восьмом… нет, в сорок девятом году. Считай, полвека прошло, как она поступила в институт. Жена умерла в прошлом году, на Пасху… Трущевой Светлане Николаевне ве-е-ечная па-а-амя-ять! Всем павшим на войне и после войны, всем горемыкам и бедолагам, у которых фашисты высасывали кровь, ве-е-ечная па-а-амя-ять! Бом, бом!..
Он обратился ко мне:
– Скажи, малой, зачем этот инициативный окруженец без приказа отправился детей спасать? Когда мы добрались до партизанской базы, Ли-2 был забит под завязку, да еще на санях с пяток ребятишек лежало. Они не могли ходить. Немцы, к тому времени подобравшиеся к озеру, начали обстреливать лед из минометов. Меня тогда и садануло.
Он указал на висок, перевел дыхание.
– Я даже не заметил, что ранили, злой был до предела. Поджигайло, командир разведгруппы Горбунов жмутся в сторонке, робеют с этим бешеным лейтенантом схватиться. Я как старший по званию приказал высадить из самолета трех или четырех ребятишек, чтобы мы с Заслоновым могли поместиться там. Не было у меня такого права – оставлять Петруху в немецком тылу. Лейтенанту Петру Алексеевичу Заслонову, командиру артиллерийского противотанкового взвода, погибшему на Висле, ве-е-ечная па-а-амя-ять! Бом, бом!..
Окруженец совсем ополоумел, схватил меня за грудки: «Доходяг ссаживаешь?! Сам в Москву драпаешь, а нам, значит, здесь отбивайся?!» Ладно, по мне прошелся, но если бы он тогда что-нибудь насчет НКВД брякнул, я пристрелил бы его, несмотря на то что его люди, стоявшие рядом, взяли оружие на изготовку.
Одно слово, партизанщина!
Только высадили детвору из самолета, как начал кочевряжиться Заслонов! У меня голова раскалывается, а он в истерику – не полечу в тыл! Хочу с партизанами! Десантники его силком в самолет засунули. Я взял девочку из саней и вслед за ним. Поджигайло плюнул, выругался, приказал задраить люк. Кое-как взлетели, хорошо, что путь короткий, иначе я бы от холода окочурился. В Москве меня уже без сознания из Ли-2 вытаскивали. Что с той девочкой стало, с ребятишками, которых мы оставили на озере, не знаю. Ве-е-ечная па-а-амя-ять! Бом, бом!.. Бом, бом!..
Он вполне искренне пожаловался:
– А я вот живу! – Затем признался: – Мессинг лет тридцать назад напророчил, что как раз сегодня, 19 ноября, в День советской артиллерии, мне придет каюк, так что ждать осталось недолго, несколько часов. К тому же внук навещает, не забывает старика.
Я поперхнулся. Даже закусить забыл – жить ему,видите ли, осталось несколько часов! А Светочка хороша! Что же получается – наплевав на девичью честь, она родила в самом юном возрасте, а затем отправилась на аэродром прыгать с парашютом?
Вот это комсомолка!
Чудеса!
История, организовавшая эту ночную исповедь, лукаво подмигнула – это еще что!
Николай Михайлович горячо заверил меня:
– Светочка к ребенку никакого отношения не имеет. Ребенок был от Шееля. Петей назвали.
Я потерял дар речи.
Это был удивительный вечер – вечер знакомства с семейными тайнами, с заклятиями, оказавшимися не менее замысловатыми, чем история цельной страны. Удивительным было то, что эти тайны оказались неразрывно связаны с непознанным в человеческой психике, знатоком которого являлся Вольф Мессинг. Трущев наглядно продемонстрировал, как много он почерпнул у знаменитого экстрасенса, если сумел с ходу подцепить в моей голове восторг и рукопотирательское удивление, касавшиеся комсомолки Светы.
Но за всеми срамными домыслами, нервным хихиканьем, проистекающим из благоговения перед историей, – передо мной, за пределами истории, впервые за все время общения с Трущевым, въявь проступил абрис таинственного, неизвестного науке существа. Черты были стушеваны, подвижны, неокончены, однако вполне отчетливо складывались в подобие сфинкса.
Его лик, напоминавший кошачью морду, был ошеломляющ и неотразимо притягателен, как может быть притягателен идеал или вечный двигатель. В лапах он держал косу – ту самую, с которой разгуливает костлявая. Тайна этого существа была всем тайнам тайна. Это был лик вечности, а что такое история, как не ожившая, наполненная лицами и поступками вечность?
Какие житейские удовольствия, какие тончайшие наслаждения, психологические выверты или шокирующие извращения могут сравниться с радостью лицезрения бесконечной протяженности времени?!
Чего еще может желать человек?
Трущев вновь заголосил:
– А для меня в перспективе инфаркт… Может, сегодня и грянет. Вроде и водку не трескал, как некоторые. Я имею в виду, в оглушительных количествах, и на тебе!.. И слезы горькие прольются… Такая жизнь, брат, ждет меня. Бом, бом!.. Записываешь?
Я показал Николаю Михайловичу диктофон.
Он приказал:
– Антимонии вычеркни. Ни к чему…
Я не ожидал такого предательства и с надрывом в голосе воскликнул:
– Можно оставить?! – и ни с того ни с сего заявил: – Перестройка ведь!..
Николай Михайлович подцепил на вилку ворох квашеной капусты, зажевал и махнул вилкой.
– Оставляй. Мне все равно. Жаль, что редко удается свидеться с внуком. Далеко живет, за границей. Впрочем, об этом в свой черед, а в декабре сорок первого, перед самым Новым годом, я сбежал из госпиталя. Хотелось встретить Новый год и заодно отпраздновать награждение в домашней обстановке. Меня тогда представили к Красному Знамени, повысили в звании до капитана. Хотелось пройтись гоголем перед Светочкой…
Он помолчал, видно, припомнил что-то незаживающее, затем неожиданно помянул Сталина.
– Железный был человек… История его крепко выдрессировала. К окружавшим его товарищам по борьбе никаких дополнительных чувств, помимо деловых, не испытывал. Разве что к тем, кого называли сталинскими выдвиженцами, относился более заинтересованно. Петробыч любил ставить в тупик товарищей из Политбюро неожиданным решением кадровых вопросов.
Он опять взмахнул вилкой, на этот раз пустой.
– Впрочем, мне эта заумь по барабану. С точки зрения поиска согласия эти моменты несущественны – так говорил Заратустра. Согласен? Важен результат, а результат налицо. Или на лице. Спорить будешь?
Попробуй поспорь с ним!
Наворачивая квашеную капусту – вкуснейшую, должен признаться, закуску, – он подытожил.
– Победа, атомная бомба, Гагарин – это конечно, но и кулак был ого-го! А мы сами разве без кулаков? А ты говоришь, перестройка.
Он выпил, поставил рюмку, зажевал, затем подцепил ломоть жареной колбасы, положил его на хлеб и взялся за выдвиженцев.
– Таких было немного, но взлетали они вмиг и очень высоко. При этом падали чаще других и, как правило, разбивались насмерть. Вспомни Рычагова, Павлова, Вознесенского!.. [35]Но если выдвиженец не подводил, такому прощалось многое. Я побывал в их шкуре, я знаю. Так, например, случилось с молодым Закруткиным.
Еще одна рюмка окончательно развязала ему язык.
– С этими свалившимися на меня двойниками вообще происходила странная история. Петробыч, как назло, взял в привычку использовать этот случай в назидание НКВД. Он как бы ставил нам на вид – «усекли, какой я прозорливый?» Уж на что ты, Берия, хитрожопый, а не догадался, как можно использовать сына заядлого фашиста. Только товарищ Сталин в полной мере оценил солнечные дали, которые открывала эта игра.
В следующий момент в поселке дали свет. Трущев притушил фитилек и щелкнул выключателем. Залившее комнату электрическое половодье погубило тени, былое аккуратно съежилось, расползлось по углам.
Вечность растаяла – обнажился шифоньер, тряпье, яблоки.
Трущев спросил.
– Хочешь, поставлю музыку?
Я поперхнулся, потом махнул рукой – давайте.
Николай Михайлович включил допотопный магнитофон, и оттуда с потрескиванием и шипением полились незамысловатые слова:
- Для нас открылись солнечные дали,
- Горят огни победы над страной.
- На радость нам живет товарищ Сталин,
- Любимый вождь, учитель дорогой…[36]
Я не удержался:
– Так вы, Николай Михайлович, сталинист?
– Кто? Я?! Упаси Боже!..
После паузы он уточнил свою позицию:
– Сталины приходят и уходят, а Россия остается, понял, литератор?
– Но как же?..
– А вот так же. Корень следует извлекать, а не делить дроби. Для начала неплохо без пошлых воплей разобраться, кем он являлся для всей совокупности граждан и нет ли вины каждого из нас в загубленных жизнях, а уж потом орать «тиран!», «убийца!», «могущественный и гениальный злодей, вокруг замыслов которого вертелся весь мир».
Трущев устроился на стуле вполне по-энкавэдэшному, как это показывают в современном кино, – нога на ногу, в зубах папироса, правда, в руке вместо револьвера надкусанное яблоко.
Я приготовился к допросу.
– Что ты слыхал о Василии Теркине?
Вопрос был не в бровь, а в глаз. Что я мог сказать о знаменитом солдате? Не дожидаясь ответа, Николай Михайлович подытожил:
– Все слыхали, но мало кто готов признаться, что у него был прототип. Твардовский на очнике подтвердил. Что за прототип, откуда он появился, судить не берусь, для этого существовало следственное управление, а в нем такие мастера, как Свердлов и Рюмин[37]. Суть в том, что Петробыч приказал найти прототипа, и его нашли. В точности как на известной картине – разбитной такой, веселый, с гармошкой.
Во время войны в Корее, когда выяснилось, что среди наших добровольцев затесались перебежчики и боевой дух оказался не на высоте, он вызвал Берию, Булганина, шнурков из Политуправления и потребовал объяснений. Напомнил, что партия не может либеральничать с теми, кто пустил на самотек воспитательную работу. На Великой Отечественной как было? Если трудно, если враг нажимает, как должен поступить политработник? Он должен отыскать весельчака. Такого, например, как Теркин. Глядишь, лица сразу повеселеют, глазки заиграют и дело пойдет. Затем добавил, если политработник не может отыскать Теркина, пусть поднимает дух личным примером… Кстати, о Теркине. Неплохо бы отправить его в Корею, пусть поможет нашим узкоглазым братьям громить американских империалистов и своих узкоглазых реакционеров.
Лаврентий Павлович посмел возразить, что в каком-то смысле Теркин – литературный персонаж. Его нет в природе.
Петробыч даже обрадовался. «Вот именно, персонаж! А у каждого персонажа, как считают в отделе агитации и пропаганды ЦК, есть прототип. Политбюро поддерживает эту позицию. Впрочем, зачем спорить, вызовем автора и спросим, был у Теркина прототип или нет?»
Вызвали Твардовского – он тогда «Новым миром» заведовал, это недалеко от Кремля, так что долго ждать не пришлось.
Сталин спросил у нашего известного поэта: «Мы, – он указал на присутствующих, – с уважением относимся к вашему творчеству, товарищ Твардовский. Партия отметила вашу работу Сталинской премией, это высокая честь для всякого советского литератора, не правда ли?» – «Так точно, товарищ Сталин!» – «Если мы пришли к консенсусу по этому вопросу, ответьте, пожалуйста, – был у Теркина прототип или нет?»
Вообрази, с каким интересом уставились на Твардовского Берия, Булганин, особенно ребята из Политуправления РККА. Кому хотелось отправляться в Корею и личным примером на гармошке поднимать дух наших добровольцев? Твардовский тоже скис – черт его знает, что ответить Хозяину?
Был у Теркина прототип или нет?
Скажешь, не было, Петробыч спросит: как же ты, сукин сын, не зная жизни, такую великую поэму отгрохал?! Кто тебе, кулацкому отродью, навеял эти бессмертные строчки – переправа, переправа, берег левый, берег правый… Не Бухарин ли?.. Его всегда тянуло к правому берегу, может, поэтому он всегда горой стоял за кулаков.
Скажешь, был, – Хозяин поинтересуется, где он теперь.
Товарищ Твардовский был головастый мужик и вовремя сообразил, что как раз на второй вопрос ответить легче легкого.
Он так и брякнул – прототип был, но его с прототипом развела война, – и с облегчением обнаружил, что угадал. На сердце потеплело – глядишь, еще одну премию подкинут.
Петробыч раскурил трубку и заявил: «Это не беда, что развела. Наши органы отыщут. Не так ли, товарищ Берия?»
И что ты думаешь – отыскали. Отправили в Корею на гармошке играть.
Усек?
Трущев выбрал следующее яблоко – на этот раз взял антоновку. Надкусил и распорядился:
– Ешь фрукты, в них железа много. Утром отправишься домой, прихвати с собой. Мне их за год не съесть.
Я выбрал свой любимый сорт, «пепин шафранный». Яблоко было грушевидное, налитое, густо-бордовое, вкуснее не бывает.
– Скажи, уважаемый литератор, – спросил Трущев, – неужели Петробыч был настолько дремучий руководитель, что не слыхал насчет прототипов? Конечно, слыхал, он был исключительно начитанный человек, но ведь нашли! Стоит только правильно организовать воспитательную работу, и наши люди не то что Теркина, инопланетянина отыщут. А вот если у исполнителей на каждый приказ тут же сыщутся отговорки – какие, мол, инопланетяне, наука сама еще в неведении, есть ли жизнь на Марсе, – сразу все пойдет вкривь и вкось.
Усек?
В том же разрезе следует рассматривать и Закруткина с Шеелем. Петробыч усмотрел в этой сладкой парочке крепкую узду, с помощью которой он мог бы держать в страхе подчиненных. Таков, уважаемый, был дух эпохи. Вспомни, как мое руководство обошлось со Светочкой. Совсем кроху – и под взгляд заезжего экстрасенса. А вдруг он маньяк, вдруг на всю жизнь искалечит? Дочь сотрудника? Тем лучше. Пусть залетный гастролер поэкспериментирует, а отец понаблюдает.
Какие тогда могли быть антимонии?
Лаврентий Павлович, конечно, сразу учуял эту сталинскую подоплеку. Природа наградила его высшей сообразительностью в подобных делах, но заметь, этим природа не ограничилась. Также щедро наделила его стратегическим видением проблем и умением брать ответственность на себя. Это не мало. Это много, это очень даже много для руководителя, но, к сожалению, та же самая природа поскупилась для такого головастого человека, каким был Лаврентий Павлович, на элементарное уважение к людям. Хотя бы к товарищам по партии. О гуманизме я даже не заикаюсь. На этом, казалось бы, пустяке Хрущев его и подловил. Он до такой степени напугал Политбюро и Совмин, что все лапки кверху. Страшилка была из самых безыскусных – смотрите, придет Берия к власти, всем вам крышка!
Во взгляде Трущева отчетливо прорезался ужас, охвативший членов Политбюро и правительства, когда они представили, как Берия захватывает пост Предсовмина.
– Я имею право судить объективно, мне Берия ничего плохого не сделал. Однажды даже признался, что долго не мог понять: кто я, «свой» или «чужой». Ответ на этот вопрос дало мое согласие совершить рейд по тылам врага. Догадываешься, почему?
История глазами Трущева уставилась на меня.
Сознаюсь, мне стало не по себе. Над такими вопросами мне еще не приходилось задумываться. Такого рода вопросы относились к высшему политическому пилотажу.
Я отрицательно покачал головой.
– Этот нюанс мне популярно объяснил Абакумов Виктор Семенович. Тот, что колотил меня во внутренней тюрьме НКВД.
Я кивнул.
– Кстати, – продолжил Трущев, – Абакумов как раз и был из выдвиженцев. Он сразу пришелся по вкусу Петробычу. Рост громадный, в плечах косая сажень. И, конечно, голова… Светлейшая, надо отметить, голова. Канарис со всем его абвером Абакумову в подметки не годился. Он быстро пошел в гору. Берия страсть как не любил таких выдвиженцев-скорохватов. Весной 1942 года Абакумов имел со мной приватную беседу. Он предложил перейти к нему, в особые отделы[38]. «Ты, Трущев, побывал за линией фронта, поэтому в НКГБ путь к генеральским погонам тебе заказан. Кто знает, чем ты там, в немецком тылу, занимался… Я успел с тобой пообщаться и убедился – ты свой в доску. Я обещаю тебе должность зама и генеральские погоны».
Я отказался. И правильно сделал. Никому о том разговоре не докладывал, а Лаврентию все-таки стукнули. Вот тогда он и провел со мной воспитательную беседу насчет того, что рейд по тылам противника – это, конечно, существенный минус. Даже он, нарком НКВД, не в силах внести исправления в анкету, но разве анкета – это самое главное? «Послюшай, Николай Михайлович, – он тогда впервые меня по имени-отчеству назвал, – разве в анкете дело? Ты кому служишь – анкете или делу?» Я доложил – делу. Лаврентий одобрил такую позицию. «Ты, Трющев, в трудные моменты в кустах не прятался, надеюс, и дальше будешь проявлят разумную инициативу. А насчет генералских погон… Даже для знакомого тебе здоровяка это дело неподёмное, так что не переживай». С тех пор я пользовался его безусловным доверием. Что касается Закруткина-младшего, дело было за малым…
Трущев, не мигая смотревший на меня, поинтересовался.
– Догадался, к чему я клоню?
Я отрицательно покачал головой.
– Эх, молодо-зелено, – усмехнулся Николай Михайлович. – Необходимо было организовать Первому поразительные успехи в тылу врага.
Ветеран откусил от яблока. Жевал долго.
– В защиту Петробыча могу сказать, в подобных играх ему всегда удавалось соблюдать меру. Он носом чуял, чего можно требовать от исполнителей, а что вне пределов их возможностей. Конечно, ошибался – кто без греха? Но здравый смысл редко подводил его. Он сразу угадывал всякую туфту. Разве что в последние годы ослабил бдительность… Но это к делу не относится. А вот его наследники, особенно Кукурузник, эти были ту-у-п-ы-ы-ы-е! У них не то что выдумки, элементарной фантазии не хватало, чтобы не оторваться от действительности. Они от природы были лишены всяких умственных способностей, тем более наиважнейшей для правителя – умения держать аппарат в узде. Кукурузника в своем кругу вообще считали чем-то вроде пародии на Теркина. Если бы ты знал, сколько раз он перед Сталиным гопака плясал! Стоило Петробычу ткнуть в него пальцем, и тот уже помчался вприсядку. Хитрый был – да. Умный – нет. Когда наука попыталась объяснить ему, что за Полярным кругом кукуруза не растет, холодно там, он этак хитро прищурился и подмигнул – а вдруг вырастет!
Ну, не дурак?..
– Что касается Закруткина Константина Петровича, я еще в лазарете вынашивал мысль о вредительской деятельности этого грушника. Чем дальше, тем острее полковник Закруткин выявлял свое нутро. Личность оказалась крайне противоречивая, если не сказать сомнительная, и, если бы не практические соображения, я не раздумывая накатал бы на него рапорт.
К сожалению, его арест мог поставить под удар всю операцию. Это был смертельный риск, имея в виду непредсказуемость и своеволие его сыночка.
Задачка была не из простых.
Николай Михайлович бросил огрызок яблока в печку и заявил:
– Я предложил использовать папашу в качестве связника. Я так и сказал Лаврентию Павловичу – другого, более надежного средства, чтобы держать Первого в узде, не вижу.
Ну и напугал же я их!..
– Он, видите ли, не видит! – взорвался Берия и, обращаясь к Федотову, добавил: – Нам толко варягов не хватало!
Рассудительный Федотов сохранил спокойствие. Он обратился ко мне вполне по-дружески, я бы сказал, участливо:
– Николай Михайлович, вы хорошо обдумали ваше предложение?
– Так точно, товарищ комиссар второго ранга.
– Докажите.
– Несмотря на то что внедрение Первого прошло успешно, его нельзя оставлять без контроля. Обеспечивая связь, полковник Закруткин полностью снимет эту проблему, при этом число посвященных в операцию «Близнец» не увеличится. Он разделит ответственность за фортели Анатолия. С его возможностями нам будет легче поддерживать связь с оккупированной глубинкой во Франции, куда вывели на переформирование дивизию Зевеке.
– Что ты знаешь о Закруткине, Трющев?! – воскликнул Берия.
– Когда разрабатывал Анатолия, познакомился с анкетными данными.
– Вот и заткнись насчет него!
Федотов не дал разгореться страстям.
– Вы полагаете, что Первый способен еще раз выкинуть какой-нибудь фокус? – спросил он.
– Фокус может выкинуть Шеель, а Анатолий впопыхах неверно среагирует на угрозу. У него мало опыта, его вполне могут взять на подставу, на какого-нибудь липового подпольщика, который сбежал из концлагеря и со слезой в голосе обратится к нему за помощью. Закруткин сгоряча может что угодно натворить. Имея на связи Закруткина-старшего, это будет сделать куда труднее.
– Почему бы не попробовать, – внезапно поддержал меня Федотов и подбросил идею: – Пусть его ведомство разделит с нами ответственность. Наше дело предложить и обосновать…
Берия задумался.
– Ты так считаешь?..
Потом обратился ко мне:
– Трющев, можешь идти и не забудь, что ты головой отвечаешь за Первого.
Первая конспиративная встреча Закруткиных, состоявшаяся в Баварских Альпах, принесла на удивление обнадеживающие результаты. Нашему доморощенному Алексу-Еско фон Шеелю по ходатайству Зевеке и фельдмаршала Клюге без всяких помех и задержек присвоили звание лейтенанта вермахта. Эту радостную весть ему доставил Майендорф. Он нагрянул в госпиталь вместе с Магди, которая, покраснев и опустив глазки, преподнесла герою букетик скромных фиалок, чем вызвала бурные аплодисменты соседей Шееля по палате.
Дядя Людвиг от души поздравил Алекса с почетной наградой, которой его удостоили за то, что, отомстив за отца, молодой человек подтвердил звание арийца.
Соседи-фронтовики скромно захлопали – невелика награда. (Один из них потом признался: вот так всегда, дерешься с большевиками не на жизнь, а на смерть, кровь им пускаешь, а тебя за это награждают бумажонкой, свидетельствующей, что ты не «рыжий». Очень щедрые дядюшки сидят в Берлине.) Затем Майендорф пригласил Первого в гости – «ведь после ранения тебе положен отпуск, и ты, Алекс, непременно захочешь побывать в родных местах. Заодно посети Берлин. Мы с Магди ждем тебя. Думаю, господин Шахт тоже захочет повидаться с тобой».
Что могло более убедительно свидетельствовать об успешном начале части операции! Даже предстоящая встреча с Ялмаром Шахтом представлялась в Москве в розовом свете.
– Теперь, уважаемый, сообрази, в каком дерьме мы все оказались, когда спустя два месяца на Лубянке получили сообщение:
«Встреча с Тетей состоялась. Первый на грани провала. Второй – предатель. Его отпечатки пальцев хранятся в банке Lombard Odier. Ситуация три креста».
– Это был удар под дых, – вздохнул Трущев. – Факт убойный! Берия матерился так, что уши вяли.
– Что будем делать, Трющев?
Они все – Федотов, Фитин, сам Лаврентий Павлович – уставились на меня, будто я волшебник, способный на расстоянии узреть, что случилось с Первым в Берлине.
Подтекст был понятен – о чем докладывать Хозяину, если он вдруг вспомнит о Первом?
Одна надежда – в ту пору Хозяину было не до Шееля.
Шел сорок второй год. Готов подтвердить, он оказался куда более трудным, чем предыдущий, сорок первый. В конце весны немцы устроили кровавую мясорубку в Крыму, затем, смяв под Харьковом наш ударный кулак, прорвались к Воронежу. В городе завязались уличные бои, и никто не мог с уверенностью сказать, куда повернет враг, захватив этот стратегически наиважнейший пункт. От решения Гитлера зависела судьба страны. По мнению советского Генштаба, вариант поворота на север, на Саратов и Горький, в обхват Москвы, грозил, если у врага хватит сил, реальным поражением в войне. Южное направление, в сторону Сталинграда, давало надежду на передышку.
Нарком ввел меня в курс дела.
– Полковник Закруткин предлагает немедленно отозвать Первого.
Что я мог возразить? Решение очевидное со всех точек зрения. Не имея ясного представления, в чем состоит угроза и откуда она исходит, мы ничем не могли помочь Толику. Затягивая решение, мы, скорее всего, погубили бы его, а это означало внутреннее расследование, гнев Петробыча.
История впала в пронзительную ностальгию, заставила Трущева выявить нутро.
– Мне бы согласиться с грушником, но совесть партийца не позволила. Я был уверен, страхи Анатолия преувеличены. Но попробуй скажи об этом вслух. Даже если ты не за анкету, а за дело болеешь.
Усек?
Я кивнул. Что ж тут не понять.
– Это, соавтор, страшная ответственность. Известно ли тебе, что такое ответственность?
Он поднялся и, порывшись на полках, достал толстенную общую тетрадь. Раскрыл ее и прочитал:
– Вот послушай, что писал по этому поводу Вольф Мессинг.
«…ответственность – это один из самых коварных «измов», который только можно выдумать себе на погибель. Поддаваться ей значило окончательно погубить себя. Это я проверил на себе. Эта «сть», как, впрочем, и «принципиальность», предполагает, что ее носитель изначально кому-то что-то должен. Более того, несчастный чаще всего испытывает головокружащую радость оттого, что допустил эту ядовитую жидкость в свое сердце. Отравленный «ответственностью», он полагает, что ему доверили принять участие в каком-то великом и благородном деле. Его страх – это страх радостный, сходный с энтузиазмом, но от этого он не становится менее страхом».
А вот еще…
«Если кто-то из романтически настроенных читателей заинтересуется, как можно работать в таких условиях, могу заверить – испытание «ответственностью» являлось в то время нормой, modus vivendi строителей социализма. Ответственно подойти к выполнению задания считалось делом ума, чести и совести этой эпохи. Мне пришлось на собственном опыте убедиться, что «ответственность» сама по себе, вольная и осознанная, не привязанная, как служебная собака, к какому-то высокопоставленному и напыщенному «изму», способна творить чудеса».
Трущев снял очки, пристроил их на громадном, с золотистым отливом бочке антоновского яблока. Оно угрюмо, через минусовые стекла, глянуло на меня и предупредило – «не спеши с выводами».
Я доверился яблоку.
Между тем Трущев продолжал вещать:
– Доводы были самые незамысловатые. Во-первых, встреча с Тетей состоялась. Во-вторых, Первый сумел переправить сообщение через мертвый почтовый ящик, следовательно, он обладает некоторой свободой передвижения, чего просто не могло быть, если бы абвер или гестапо взяли его под колпак. В-третьих, Шеель у нас в руках, и мы обязаны по полной использовать этот фактор. Я предложил срочно вызвать барончика из лагеря и хорошенько допросить на предмет – «жизнью играешь, сукин сын? Подожди, мы тебе покажем кузькину мать!» Также незамедлительно направить Старика в Берлин, а пока, не теряя времени, по радио потребовать от Первого прояснить обстановку. Ты ухвати главное – предложенные мною меры имели смысл только в том случае, если кто-то из старших по званию рискнет взять на себя ответственность.
Берия рискнул.
После чего Трущев объявл:
– На этом и закончим. Пора на боковую.
Я не выдержал:
– Издеваетесь?! В ваших записках нет ни слова о каких-то Тетях, Первых, Вторых, крестах, мертвых почтовых ящиках! Только общие слова и цитаты из классиков марксизма-ленинизма, а также из воспоминаний небезызвестного Мессинга. Теперь вдруг оказывается, что ответственность перед каким-то «измом» – это самая страшная напасть, которая может овладеть человеком!.. Просто чума какая-то!
Трущев поправил меня:
– Чумой нашего времени является ирония, – и, отыскав в своей многостраничной библии очередную цитату, снял очки с яблока и продекламировал: – «Чумой нашего времени яляется ирония. Эта как бы «насмешка», а точнее, презрение позволяет повысить собственную значимость, оскорбить любое чувство, высмеять самый благородный порыв. Ирония безжалостна, бесчеловечна, пуста, лишена способности творить. Она превращает человека в надменного скота, считающего допустимым оскорблять невинных, терзать слабых, насмехаться над мудрыми».
– Это тоже Мессинг сказал? – с нескрываемым сарказмом спросил я.
– Нет, граф Сен-Жермен.
Что я мог возразить Сен-Жермену? И тем не менее, вечер удался. За эти несколько часов мне повезло пообщаться с историей, ощутить присутствие вечности, пусть даже вооруженной знаменитой косой, побывать в сталинском дурдоме и, что особенно радовало, приобщиться к тайнам согласия. Не много ли за раз, тем более что мне надо будет каким-то образом упаковывать этот материал в читабельный, упрощенный для дуриков роман. Как прикажете работать с таким материалом? С какой буквы писать этих Дядей, Тетей, Первых, Вторых? С прописной или строчной?
Я выложил эти сомнения полковнику в отставке.
Трущев не задумываясь наложил резолюцию.
– Буря в стакане воды! – затем неожиданно смилостивился – наверное, водочка подействовала – и добавил: – Объясняю вкратце – три креста означают провал. Мертвым ящиком называют такой способ передачи информации, при котором неизвестно, кто закладывает сообщение, и неизвестно, кто вынимает. Принимающий передает сообщение пианисту, который просто должен отстучать его в эфир. Инструкции Первый получал по радио. В Москве мы обговорили время и частоты, однако проблему с обратной связью нам до конца войны так и не удалось решить удовлетворительно.
Николай Михайлович поднялся, дал последние инструкции:
– Что касается Светочки, я отговаривал ее от занятий парашютным спортом. Толковая девушка. Красавица. Горячая, энергичная… «Папа, как ты не понимаешь, что прыжок с парашютом – это прыжок в будущее. Десантные войска – самые важные». Я попытался объяснить ей, что самыми важными войсками следует считать танки. Или атомную бомбу, о которой тогда ходило множество слухов. Например, одна бомба – один город. Судоплатов усиленно работал по этой тематике. Но разве вас, молодых, можно в чем-нибудь убедить. Так что война достала нас с Таней через четыре года. Я этот полет с нераскрывшимся парашютом до сих пор забыть не могу. Остался у нас мальчик, пусть даже чужой, пусть даже поднадзорный, но наш. Он называл меня «деда», а Таню «баба».
На прощание смилостивился:
– Я пошел спать, а ты, если хочешь, можешь познакомиться с отрывком из воспоминаний Мессинга. Это подлинный материал, а не седьмая вода на киселе, опубликованная в журнале «Наука и религия». Правда, здесь тоже много туфты и умолчаний, но зерно истины есть. Имей в виду, Вольф Григорьевич, к сожалению, перепутал последовательность событий. Он много чего напутал, например, насчет меня. Он на сегодняшний день знаешь что мне напророчил? Мол, сдохну я от разрыва сердца, а я, как видишь еще ого-го. Еще вполне огурчик. Вольф Григорьевич также перепутал даты – не знаю, сознательно или нет. Вас, сочинителей, трудно понять, чем вы руководствуетесь, прибегая к хронологии.
Ладно, проехали. К тому моменту, когда Мессинг был подключен к операции, мы еще не знали, какая именно угроза нависла над Первым, а он уже пишет о мерах, на которые решилось руководство НКВД, чтобы справиться с кризисом. Рассказать об этом надо с юмором, с легким налетом сенсационности. Насчет использования экстрасенсорики и прочей телепатической ерунды не стесняйся.
Уже с порога добавил:
– Мысль о привлечении Мессинга к расшифровке угрозы, нависшей над Первым, первым высказал Берия.
Затем он дружески предупредил меня:
– Но об этом писать не следует. Так будет лучше, дружище, – и улыбнулся на прощание.
Глава 5
Отрывок из воспоминаний Мессинга я привожу полностью, не редактируя, только изредка, для лучшего понимания событий, внося уточнения в текст.
Лично я в таком сотрудничестве с автором не вижу никакого криминала.
А вы?