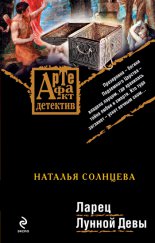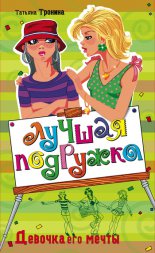Преодоление тревоги. Как рождается мир в душе Колпакова Марианна

Введение
Тревога — состояние распространенное и знакомое, пожалуй, каждому человеку. Она может охватить нас в ожидании известий о наших близких, в период резких жизненных изменений, в ситуациях неопределенности, во времена испытаний и во многих других случаях. Тревога нарастает, и, пытаясь справиться с ней и успокоиться, мы перебираем возможные варианты развития событий, но тревожное чувство не покидает нас. Тревога, в отличие от страха, — не опасение чего-то конкретного, но ожидание чего-то ужасающего, страх перед чем-то неопределенным, состояние безысходной тоски и беспокойства, связанное с предчувствием неминуемой и неясной опасности, будущего горя.
Если тревожное состояние обусловлено некоторыми внешними причинами, например, если речь идет о беспокойстве за здоровье и благополучие близкого человека, которому может угрожать опасность, то исследователи склонны считать такую тревогу нормальной. Однако со временем она может усилиться, и парализовать, и даже нарушить ход жизни человека, и в этом случае тревогу признают патологической.
Это состояние, связанное с нашими страхами не справиться с опасностью, оказаться в катастрофической ситуации, названо «страхом страха», то есть безымянным и бесформенным беспокойством перед безобъектной угрозой. Толковые словари русского языка трактуют слово «тревога» не только как сильное беспокойство, волнение и даже смятение (обычно — в ожидании грядущих перемен), но и как сигнал о наступающей опасности. Охваченному тревогой человеку кажется, что он должен куда-то бежать, что-то срочно предпринимать, одним словом, как-то действовать, но он не знает, как именно, и одновременно подозревает, что все его усилия вполне могут оказаться неуместными, что у него нет никаких рычагов воздействия на ход вещей и надо просто ждать. Впрочем, с таким течением событий смириться он не может… При дальнейшем погружении в тревогу ощущение щемящей тоски нарастает и доходит до панического состояния, изматывающего человека, после которого он ощущает полную опустошенность, бессилие, гнев, а иногда, наоборот, безразличие. Однако, как только появляются новые силы, этот цикл повторяется вновь.
В основе тревоги лежит восприятие человеком окружающей его действительности как нестабильной, непредсказуемой и несущей угрозу. Но разве такое представление о реальности неразумно? Разве окружающая нас действительность неизменна, предсказуема и не содержит совершенно никаких угроз? Вряд ли кто-либо согласится с утверждением о постоянстве и стабильности мира, напротив, человек видит, что неожиданные и бедственные изменения происходят стремительно: нечто, вчера еще казавшееся немыслимым, вдруг становится реальностью. Но если мы живем в постоянно изменяющемся и нестабильном мире, то тревога — это неизбежное, нормальное и даже полезное состояние, не позволяющее нам забывать об опасностях окружающей действительности и мобилизующее нас.
Однако исследователи рассматривают тревожность в качестве предпосылки к развитию различных нарушений, в том числе и соматических [1], как препятствие для личностного развития, общения и деятельности. Тревога расценивается как негативное эмоциональное состояние, как мощный фактор формирования болезненных нарушений самого различного рода.
Почему же состояние, которое должно предупреждать о надвигающейся опасности, само становится источником опасности для человека? В чем причины тревоги? Почему формируется тревожность как устойчивое эмоциональное состояние? На эти и другие вопросы мы и постараемся ответить в этой книге.
Размышления о тревоге приобрели особую популярность после выхода в свет в 1950 году книги американского психолога Р. Мэя «Смысл тревоги», в которой автор утверждал, что к середине XX века эта тема стала центральной в науке и искусстве, религии и политике, а эпоха «скрытой тревоги» сменилась эпохой «явной тревоги». В это время в США отмечается подъем уровня жизни, улучшение материального положения, растет уровень потребления. Ф. Кушман (Ph. Cushman) так описывает послевоенное время: «Из развалин Второй мировой выросла новая эпоха богатства и изобилия, о котором и не мечталось, телевизионных шоу, кредитных карт, производства пепси и призывов: „Смотри на окружающий мир из окон своего шевроле“» [2].
В это же время формируются новые жизненные стандарты, широко распространяются представления о том, что полнота жизни связана с высоким уровнем потребления. Декларируется, что человек есть то, что он потребляет, включая развлечения, отдых, путешествия. (Примерно то же самое с небольшими вариациями мы наблюдали и в нашей стране в нулевые годы нынешнего столетия.)
Почему же именно в такое время тревога широко распространяется и становится столь явной? Дело в том, что, помимо психологических причин, она обусловливается еще и причинами духовными, связанными с нарушением внутреннего диалога с самим собой, результатом которого становится исчезновение истинного смысла жизни, опустошенность, доминирование стремления к материальным благам, внешнему успеху и, как следствие, утрата душевного согласия и мира в душе. В этой книге мы поговорим не только о психологической, но и духовной составляющей тревоги, о том, что избавление от тревоги или, по крайней мере, ее ослабление невозможно без наших личных усилий по разрешению глубинных внутренних конфликтов.
Глава 1
Что такое тревога?
Что означает сам термин «тревога», что выражают слова, которыми люди разных культур ее обозначают? Рассмотрение происхождения и значения слов, относящихся к тревожным состояниям, позволяет выделить общее в понимании сути тревоги в разных культурах. Сразу же отметим, что терминология, описывающая тревожные состояния, сложна и неопределенна. Так, индоевропейский [3] и производные от него языки указывают на близость тревоги и гнева, а также на связь тревоги с болезненной односторонностью, неполнотой, свертыванием, сжатием. Среди множества терминов — русские («тревога», «тревожность», «опасение» и «беспокойство»), английские: «anxiety» (тревога, беспокойство, страх), «anguish» (боль, мучение, страдание), «fear» (боязнь, страх) и «worry» (беспокойство, волнение, тревога, озабоченность, забота).
Слово «anxiety» используется в психологическом контексте, начиная с 1904 года. Впрочем, в английском языке для обозначения тревоги используется и немецкое слово «Angst» — нервный страх, волнение, раскаяние. Это слово обрело популярность в середине XX века, после распространения переводов работ Зигмунда Фрейда [4]. Американский исследователь Дэвид Барлоу (D. Barlow), посвятивший более двадцати лет изучению феномена тревоги, отмечает, что Фрейд в своих работах использовал слово «Angst» для обозначения тревоги, не связанной с каким-то определенным объектом. В иных же случаях он использовал немецкое слово «Furcht», близкое по значению к английскому «fear» (страх).
Термин «Angst» подразумевает гораздо более сильную эмоциональную реакцию, нежели «anxiety». Слово «Angst» происходит от старонемецкого «Angust», родственного слову «anger», которое с начала XIII столетия используется в значении «волновать», «раздражать». Значение «разозлить», «привести в ярость» и «гневаться» прослеживается с конца XIV века. Таким образом, немецкий язык недвусмысленно указывает на близость тревоги и гнева.
Слово «anger» происходит от протогерманского «Angus» (когнат [5] в староанглийском языке — «enge»: узкий, болезненный; в готском [6] — «aggwus»: узкий) и восходит к протоиндоевропейскому «angh».
В свою очередь, слово «anguish» происходит от старофранцузского «angoisse», означающего чувство удушения, тревоги, горя и безысходности, и латинского «angustia» (скованность, узость) и восходит к тому же индоевропейскому корню «angh».
Таким образом, корни всех этих слов восходят к протоиндоевропейскому «angh», имеющему два значения: первое — «узость», «ограниченность», «односторонность», «стесненность», «болезненность» и второе — «свертывание», «сжатие», «стягивание», «сокращение». Производные от этого корня в различных языках развиваются по-своему, отражая разные оттенки состояния тревоги, однако значения ограничения, свертывания, сжатия и болезненного стеснения сохраняются в любом случае. Это — характерный аспект тревоги, на который указывает лингвистика.
Как отмечается в «Этимологическом словаре русского языка» Макса Фасмера, русское слово «тревога» происходит от немецких слов «Waage» (весы) и «wagen» (рисковать, отваживаться), а также польского «wazyc» (взвешивать); отсюда — польское «odwaga» и русское «отвага» — состояние души, позволяющее принять решение, перейти от взвешивания и осмысления к решительным действиям.
Древнеславянская приставка «тре» указывает на превосходную степень чего-либо (например, трезвон, треволнение). В таком случае слово «тревога» означает неоправданно длительные колебания и нерешительность. В этом слове подчеркивается неопределенность, смятение, неспособность сделать сознательный выбор и принять ответственное решение. Синонимы слова «тревога»: беспокойство, волнение, забота, суматоха, кутерьма, смятение, переполох, потрясение, смута, предчувствие дурного, страх, трепет, опасение, нервозность, паника, переполох, внутреннее напряжение, смущение, растерянность, дрожь, мучение — отражают различные оттенки этого состояния, сходные с теми, на которые указывают и рассмотренные выше «anxiety», «anguish», «anger» и «angoisse».
Кроме того, слово «тревога» тесно связано с различными терминами, описывающими депрессивные состояния. Прибавление к термину «тревога» таких определений, как «бессознательная», «осознаваемая», «когнитивная», «соматическая»[7], «свободно плавающая», «пограничная» или «сигнальная», вызывает некоторую путаницу. Современное понимание тревоги представляет собой запутанную комбинацию новых и классических подходов. Мы вкратце рассмотрим некоторые из них.
Глава 2
Современные научные представления о тревоге
Психоаналитические теории
Довольно популярными до сих пор остаются психоаналитические концепции тревоги. В ее происхождении основная роль отводится детским конфликтам между инстинктами, влечениями и запретами взрослых на реализацию этих влечений. Попытки следования влечениям наталкиваются на запреты и наказания от старших, в результате требования инстинктов становятся опасными, а стремление ребенка следованию своим влечениям вызывает тревогу. Таким образом, в психоанализе подчеркивается положительное значение тревоги: она препятствует осуществлению влечений, помогая адаптироваться к окружению, к требованиям взрослых, отражающим определенные культурные нормы.
Не вдаваясь в детальный анализ психоаналитических теорий тревоги, нужно отметить противоречивость психоаналитических концепций. В психоанализе причинами невротических отклонений, в том числе и невротической тревоги, считается вытеснение человеком некоторых влечений (например, сексуальных или влечения к смерти), осуществление которых несет угрозу окружающим и ему самому. Такие влечения понимаются как центральные, корневые. Психоаналитическое лечение направлено на устранение вытеснения, то есть на осознание и принятие вытесненных импульсов. Психоаналитики полагают, что при осознании вытесненных влечений присущая им энергия переходит на иные, более конструктивные и более значимые цели. Но возможно ли это? Не стоят ли за созиданием и разрушением «энергии разного рода»?
Положение о возможности переключения при осознании вытесняемого на более значимые и конструктивные цели противоречит и основным положениям самого психоанализа. Согласно им, влечения составляют самую сердцевину человеческого существа, именно они являются самыми значимыми, важными и центральными в жизни человека. В соответствии с психоаналитическими представлениями другим, более значимым целям просто неоткуда взяться, следовательно, никакого переключения на них и произойти не может. Таким образом, остается неясным, как осознание и принятие вытесненных влечений нормализует психическое состояние человека. Тем не менее, психоаналитики считают необходимым осознание психических механизмов вытеснения и принятие вытесненных импульсов для преодоления тревоги.
При этом утверждается, что специалисты не воздействуют на пациента, а лишь способствуют лучшему пониманию человеком самого себя, помогают развитию сознания клиента, который становится субъектом, то есть активным действующим лицом психологических изменений и собственной жизни. Однако так ли все происходит на самом деле? Действительно ли лучшее понимание человеком себя, которому способствует психоаналитик, совершенно не зависит от мировоззренческих оснований и теоретических представлений психоанализа?
Принятие человеком вытесненных импульсов, в любом случае, предполагает изменение его представлений о жизни, ведет к радикальному изменению его картины мира, поскольку именно существующие у него представления о недопустимости подобных импульсов и приводят к вытеснению последних. Для осознания и принятия ранее вытесняемого необходимо формирование у человека иных представлений о мире, о жизни, о других людях, о самом себе, что и проделывает специалист. Психоаналитик изменяет понимание пациента, работая над его мышлением, интерпретируя происходящее в психоаналитическом ключе. Он помогает своему клиенту осознать совершенно определенные бессознательные влечения, в общем виде заранее известные психоаналитику. Помогает обнаружить совершенно определенный смысл происходящего и приводит клиента к определенному пониманию себя, соответствующему теоретическим представлениям психоанализа.
Нацеленность психоаналитика на осознание пациентом совершенно определенных механизмов психики и совершенно определенных тенденций и влечений является реализацией властных отношений. Аналитик играет активную роль — он воздействует на клиента, в то время как тот пассивно предоставляет аналитику материал для воздействия. Психоаналитик рассматривает симптомы клиента в свете психоаналитического знания о причинах нарушения, в свете психоаналитической концепции человека, помогая клиенту прийти к определенному, а именно психоаналитическому пониманию смысла симптомов, к психоаналитическому пониманию происходящего. Понимание ситуации совершается в терминах и понятиях, предлагаемых специалистом; пациент овладевает языком психоаналитика. Специалист направляет осмысление человеком различных событий и жизненных коллизий в определенное русло, изменяя сознание клиента в заданном направлении и подчеркивая при этом, что он лишь способствует пациенту в обнаружении и понимании смыслов. Профессиональное видение специалиста становится своеобразной матрицей формирования сознания клиента, который, в отличие от психоаналитика, заранее не знает направление изменений сознания и поведения. По завершению психоанализа пациент осознает себя изменившимся, но вот достигнутый результат устраивает его далеко не всегда…
За психоанализом в разных его вариантах стоит образ человека как человекозверя. Предполагается, что человек, овладевая культурой, в то же время остается зверем; он просто вытесняет свои неприемлемые, звериные влечения, импульсы, что, в конце концов, приводит к тревоге. То есть зверь создает ложное, приукрашенное представление о себе и вытесняет неприемлемые и несоответствующие приукрашенному образу влечения. Но как ввести в сознание неприемлемое для человека и ослабить вытеснение, да так, чтобы оно вновь не сработало? Следует оправдать зверя.
Такое оправдание и производит психоаналитик, трансформируя мировоззрение человека. Человек изменяется, и заявленная проблема нередко уходит, но нередко пациент не хочет платить такую цену за избавление от проблемы. В качестве примера можно привести один из случаев обращения за помощью в психологическую консультацию после прохождения курса психоанализа. Девушка обратилась к психоаналитику по поводу своей тревожности, которая
особенно мешала ей при знакомстве с юношами. После прохождения курса психоанализа заявленная ею проблема была разрешена, однако, наряду с этим, она констатировала изменение ее представлений об окружающих, об отношениях между людьми. Она обнаружила, что сама сделалась другой, причем характер произошедших с ней перемен ее совершенно не устроил: «Проблема разрешилась, но я стала такой, какой быть не хочу».
Конфликт между влечениями и культурными нормами, приводящий к тревоге, в психоанализе не разрешим и не устраним. Понимание человека в психоанализе неизбежно приводит, по словам Карен Хорни [8], к его обреченности и к невозможности избавиться от тревоги: «Он не может изжить удовлетворительно свои примитивные влечения, не вредя себе и культуре. Он не может быть счастлив ни в одиночку, ни с другими. У него — единственный выбор: страдать самому или пусть страдают другие. <.. > В рамках психоаналитического мышления нет выхода из выбора между двух зол. В лучшем случае можно достичь менее неблагоприятного распределения сил, большего контроля и „сублимации“».
К. Хорни предложила свое понимание личностного развития и одну из самых интересных концепций тревоги, которую мы коротко рассмотрим.
Теория тревоги Карен Хорни
Работы Карен Хорни, посвященные тревоге, вызывают интерес и пользуются неизменной популярностью. К. Хорни относят к неофрейдистам — создателям немецкий и американский психолог, и последователям направления в психологии, признающего значимую роль детских конфликтов в жизни человека, но не сводящих содержание этих конфликтов к тому, что рассматривал в своих работах З. Фрейд. Кроме того, в отличие от Фрейда, Хорни не считает необходимым углубляться в содержание детских конфликтов и пристально рассматривать их, подчеркивая необходимость рассмотрения структуры, сложившейся в настоящем ситуации, и понимания того, какую роль играют детские конфликты в этом неблагополучии. С точки зрения Хорни, основной внутренний конфликт, приводящий к тревоге, заключается в стремлении ребенка к любви и привязанности и в неспособности окружающих взрослых к теплым эмоциональным отношениям с ним, в их неспособности ответить на призыв малыша. В таких случаях он чувствует себя нелюбимым, одиноким, ненужным, беспомощным в окружающем холодном и враждебном мире и переживает тревогу. У него формируется тревожность как устойчивое личностное качество.
Размышляя о том, каким образом ребенок может справиться с тревогой, с ощущением изоляции, отчужденности и одиночества, Карен Хорни выделяет три возможных способа. Один из них — постараться заслужить любовь и одобрение взрослых, выполняя их требования и подлаживаясь к ним, приблизиться к наиболее могущественному лицу из своего окружения и привязать его к себе. Существует и другой способ — попытаться заставить старших если не любить, то опасаться себя, показать им, что он способен постоять за свои интересы. Он может возмутиться и вступить в борьбу с ними. И, наконец, третий способ — отстраниться от окружающих, сформировать некоторую нечувствительность по отношению к ним, закрыться, занять в определенной мере стоическую позицию. Один из выбранных ребенком способов справиться с тревогой закрепляется, становится привычным методом реагирования, начинает доминировать и определять личностное развитие ребенка и его последующую жизнь.
Однако ни один из этих способов избавления от тревоги, становясь ведущим, навязчивым, ригидным [9], не является конструктивным и эффективным. Хорни показывает, каким образом они приводят к формированию невротических [10] личностей: уступчивой, агрессивной или отстраненной. При этом в здоровых человеческих отношениях, по словам Хорни, эти пути не исключают друг друга: «Способность принимать и дарить привязанность, способность бороться и способность оставаться самому по себе — это все дополняющие друг друга способности, необходимые для хороших отношений с людьми» [11]. В то же время Хорни признает, что и в неврозе отмеченные ригидные невротические тенденции сосуществуют, причем их несовместимость создает для человека дополнительные трудности.
Что же имеют в виду, говоря о невротической личности? Невротическая личность формируется при отчуждении от себя, от своего реального «Я», и ключевым моментом в этом отчуждении является отвержение собственных искренних чувств, желаний и мыслей под влиянием тревоги. По мысли Хорни, возникающее у ребенка при отсутствии благоприятных отношений с взрослыми чувство беспомощности во враждебном мире, то есть базальная [12] тревога, приводит к опасению выражать собственные чувства и мысли, к отчуждению от реального собственного «Я». Под реальным собственным «Я» понимается в данном случае некоторый присущий человеку потенциал, некоторые задатки и склонности. Отчуждение вследствие тревоги от собственных чувств, от реального «Я» приводит к формированию идеального «Я», наделенного жесткими внутренними предписаниями, принуждениями. «Идеальное Я», по Хорни, это идеальный образ, навязанный ребенку его окружением. Остается не совсем понятным, почему такой возвеличенный образ, далекий от реального «Я» ребенка, построенный на усвоении родительских требований и ожиданий, создается у агрессивного и отстраненного типов? Только «подлаживающиеся, уступчивые и угодливые» склонны принимать требования взрослых и на их основании выстраивать совершенный образ себя и следовать ему. Но «агрессивные» не стремятся к совершенству такого рода, как и «отстраненные», — они по определению не хотят подлаживаться к требованиям окружения, не стремятся им соответствовать. Их «идеализированное Я» формируется не в соответствии, а вопреки тому образу ребенка, который навязывают взрослые, он не строится на усвоении родительских требований.
Хорни не согласна с утверждением Фрейда об изначальной и центральной пораженности человека агрессией и злобой. С ее точки зрения, мы наделены возможностью развития, стремлением к самореализации, и это стремление является фундаментальным стремлением человека. Что понимается под стремлением к развитию, росту? Некие «конструктивные силы развития, эволюции, побуждающие человека к реализации заложенных в нем возможностей». По словам Хорни, «человек по своей природе стремится к самореализации, и его система ценностей вырастает из этого потенциала» [13].
Причиной сбоя в реализации фундаментального и мощнейшего стремления к росту является, с точки зрения Хорни, предъявление взрослыми требований, вводимые ими ограничения и принуждение.
Пафос работ Карен Хорни — в реализации внутреннего природного потенциала человека. Она выступает против насилия, и это вызывает уважение. Однако Хорни выступает не только против насилия, но против любого принуждения и ограничений, подчеркивая, что любой вид принуждения, вызывая тревогу, вполне может направить внутренний потенциал развития по деструктивному руслу.
Если речь идет о требованиях, идущих вразрез с особенностями и способностями ребенка, о невнимании взрослых к каким-то его специфическим способностям, к его индивидуальности, о стремлении переделать его темперамент, характер, то такие попытки, конечно, не способствуют развитию собственного потенциала ребенка. Например, у него есть художественные задатки, и он хочет рисовать, но взрослые препятствуют развитию его способностей и побуждают к занятиям музыкой или спортом. Взрослые, конечно, могут заставлять физически активного, неусидчивого ребенка, стремящегося к подвижным играм с другими детьми, проводить время исключительно за книгами или решением шахматных задач; от чувствительного, тонко чувствующего ребенка — требовать жесткости в отношениях с другими детьми, напористого лидерства в группе сверстников, — и такие требования не способствуют развитию ребенка. Но в том возрасте, о котором идет речь у Хорни, как возрасте возникновения базальной тревоги, до подобных проблем еще далеко.
Возможно, речь идет о слишком жестких требованиях, предъявляемых к маленькому ребенку, о попытках родителей выстроить его поведение в соответствии со своими представлениями о том, каким оно должно быть (например, определенный режим кормления и сна). Но жесткие установки родителей по отношению к воспитанию малыша — первое, над чем ребенок одерживает победу. Не родители, а ребенок устанавливает режим сна и бодрствования, как и режим кормления. Если он просыпается по ночам, плачет от голода и не засыпает, пока его не накормят, то, как бы мы ни хотели заставить его спать, мы не сможем этого сделать. Если же мы будем упорствовать, то последствия бурного и чрезмерно долгого плача не замедлят появиться, и, столкнувшись с новыми проблемами, мы не раз пожалеем о своем упрямстве.
В неравной борьбе взрослых и ребенка, если таковая возникнет и будет по неразумию родителей разворачиваться, победа будет за ребенком… Хотя бы потому, что он просто не знает опасностей этой борьбы, он может идти до конца, а взрослые, несмотря на всю, возможно, свойственную им ригидность и жесткость, знают, чем может быть чревата для малыша такая борьба. (Как и К. Хорни, мы исходим из представления о близких ребенку взрослых, как о людях, по крайней мере, не желающих ему зла и не стремящихся уморить его в процессе борьбы, направленной на соблюдение дисциплинарных и режимных правил.)
По мере роста малыша, взрослые, конечно, могут проявлять всё больше упорства в своих требованиях, например, в приучении его к туалету. Но и в таких случаях чрезмерное упрямство и жесткость приведут, скорее, к обратным результатам. И не потому, что ребенок сознательно захочет сопротивляться родителям, — просто ситуация станет для него травматичной, пугающей, и в такой ситуации он просто не сможет сделать то, чего от него хотят. И чем более жесткими будут взрослые, тем более негативным окажется результат. Так что, в конце концов «победа» и здесь будет за ребенком… Таким образом, не совсем понятно, как возникает отчуждение от собственной внутренней реальности у ребенка, поскольку, хотят этого взрослые или нет, именно ее, эту внутреннюю реальность, он довольно искренне выражает и будет выражать.
Вспомним, что причину возникновения тревоги и формирования «идеализированного Я», самовозвеличивания, гордыни, ненависти к «реальному Я», отвержения собственных чувств и стремлений Хорни видит в нарушении отношений с взрослыми, в отсутствии эмоциональной близости.
Такое утверждение стало общим местом в популярной психологии. Конечно, отсутствие теплых эмоциональных отношений с близкими взрослыми негативно сказывается на развитии ребенка. Но вот что удивительно: пожалуй, не менее распространены случаи, когда ребенок эмоционально принимается взрослыми, есть и «чувство мы», и теплота в отношениях, но это нисколько не препятствует формированию возвеличенного «Я». Напротив, формируется преувеличенное, грандиозное представление о себе. И такое возвеличенное «Я» не только не мешает ребенку следовать своим внутренним желаниям, но, напротив, в соответствии с переживанием своего превосходства, следуя своим внутренним стремлениям, ребенок проявляет и напористость, и агрессию, и высокомерие, и пренебрежение по отношению к окружающим. В то время как, по утверждению Хорни, такое возвеличенное «Я» возникает из-за отвержения реального «Я», ненависти к нему и отвержению собственных чувств и стремлений.
В таком случае ребенок именно свое «Я» и реализует, но оправданно ли говорить о ярком личностном развитии, личностном росте? Формирование отстраненного или агрессивного типов также не обязательно происходит при нарушении эмоциональных отношений ребенка с взрослыми. Например, Илья Обломов или Александр Адуев («Обыкновенная история» И. А. Гончарова) не были лишены в детстве ни тепла, ни участия, ни позитивных эмоциональных отношений, однако ни тот, ни другой не реализуют свой личностный потенциал, свое «реальное Я» в терминологии Хорни. Обломов становится скорее отстраненным от жизни, а Адуев, в конце концов, превращается в ловкого, агрессивного дельца. По-видимому, только теплых эмоциональных отношений с ребенком недостаточно для личностного развития человека.
Рассматривая отчуждение от собственных чувств, стремлений и мыслей как основную причину невротического развития личности, Хорни подчеркивает, что для личностного развития, напротив, необходимо следование своим желаниям, чувствам, мыслям. Человеку для преодоления тревоги следует научиться именно этому. Настаивая на необходимости реализовывать стремления внутреннего, реального «Я», несмотря на препятствующую этому тревогу, Хорни предвосхищает гуманистическую психологию, которой формируется положение о необходимости «идти сквозь тревогу». Казалось бы, действительно, чьим же чувствам и стремлениям мы должны следовать, как не своим собственным? Если мы руководствуемся не своими желаниями и представлениями, то начинается наше отчуждение от самих себя, мы проживаем не свою жизнь. Такое утверждение, на первый взгляд, кажется бесспорным. Вопрос, однако, состоит в том, не уводит ли нас от самих себя следование некоторым собственным стремлениям и желаниям, и означает ли истинная верность себе — следование всем своим внутренним импульсам? Например, стремление использовать ближнего, обогатиться за его счет или оттолкнуть его в сторону, поскольку это видится целесообразным для достижения личного блага? Не станет ли осуществление таких стремлений отчуждением от себя настоящего, подлинного?
Чтобы не упрощать позицию Хорни, необходимо признать, что она также не считает все внутренние стремления человека равнозначными и достойными реализации. Среди внутренних стремлений она различает действительно собственные стремления, навязанные окружением, которые исследователь называет «внутренними запретами и предписаниями». Иными словами, она проводит границу между внутренними желаниями и «внутренними запретами», системой долженствований идеализированного «Я», изначально бывших внешними.
Первым надо следовать, поскольку их реализация и есть личностное развитие, а вторых необходимо избегать, так как они уводят человека от его реального «Я», препятствуя личностному росту. Вопрос о том, какие внутренние чувства и стремления помогают личностному развитию, а какие уводят от него, рассматривается не содержательно, а в плоскости внешнее-внутреннее. Внешнее, порожденное требованиями взрослых или социокультурными нормами, — не подлинное, а идущее изнутри — истинное, а следовательно, способствует развитию. При этом сама возможность соответствия внешних требований и запретов внутренним устремлениям не рассматривается вовсе, как будто ее не может существовать в принципе.
Остается неясным, как понять человеку, какие чувства и желания являются его собственными, а какие — навязанными окружением? Действительно, как отличить внутренние диктаты и предписания от собственных чувств, мыслей, стремлений? Сложность, как отмечает и Хорни, как раз и состоит в том, что именно диктаты и предписания идеализированного «Я» воспринимаются человеком как его подлинные и внутренние.
Исходя из того, что главное качество реального «Я» — это способность к росту, Хорни предложила считать критерием выбора стремлений и желаний то, насколько они препятствуют или, наоборот, способствуют «человеческому росту». Иными словами, если внутреннее стремление способствует личностному росту человека, развитию его реального «Я», умножению его собственного внутреннего потенциала, то такому стремлению надо следовать. Если же стремление, которое человек также воспринимает как внутреннее и личное, препятствует реализации его собственного потенциала, то ему следовать не нужно, потому что оно навязанное, неподлинное.
Но здесь сразу же возникает другой вопрос: как определить, что есть «собственный внутренний потенциал»? Поскольку основное качество внутреннего потенциала, реального собственного «Я», по Хорни, — это стремление к росту и развитию, но при этом содержательные моменты, цели развития ученым не рассматриваются, то получается замкнутый круг. Критерием подлинности желаний является их направленность на развитие «Я», основной характеристикой которого является то же развитие. Но как же нам понять, какие стремления способствуют личностному развитию, а какие нет? Что вообще следует понимать под «личностным развитием»?
Хорни понимает под личностным ростом «свободное здоровое развитие в соответствии с заложенным в данном человеке индивидуально и наследственно». Она подчеркивает необходимость ориентироваться на индивидуальность ребенка. Однако как быть, если в число заложенного «индивидуально и наследственно» входят не только положительные, но и явно негативные тенденции, препятствующие развитию? Или нужно отвергнуть саму мысль о такой возможности и исходить из представления об исключительно положительных стремлениях и желаниях, свойственных природе человека, что характерно для гуманистической психологии?
Хорни ведь и сама не согласна с таким гуманистическим пониманием человека. Она не считает человека по природе своей ни добрым, ни злым. В его природе, по мнению ученого, содержатся как разрушительные влечения, так и позитивные устремления. Исследователь предлагает другой выход: самое существенное в заложенных индивидуально и наследственно тенденциях — стремление к росту и развитию. Человек обладает сильнейшим потенциалом личностного роста и со временем просто перерастает свои негативные тенденции. Лучший способ справиться с деструктивными внутренними силами, по мнению Хорни, это перерасти их. Для преодоления негативных стремлений полагается необходимой только непосредственность, спонтанность, а внутренняя дисциплина, самоконтроль, так же, как и внешний контроль, считаются не только излишними, но и вредными. Остается не совсем понятным, как происходит перерастание негативных устремлений и какова роль человека в таком перерастании? Играет ли он в этом какую-то активную роль, или нужно просто подождать, пока негативные тенденции перерастут в нечто иное? Если, внутренние, они просто перерастают сами себя, почему же такие негативные тенденции, как стремление к славе, идеализация себя (представление о себе в комплементарном тоне, создание идеализированного образа себя), описанные Хорни, не изживают себя сами? Почему самая главная, по Хорни, негативная тенденция — тревога и отказ от реализации собственного «Я» — формируют довольно устойчивые типы невротической личности?
Средством освобождения сил спонтанного развития, с позиции Хорни, являются осознание и понимание себя. Следовательно, работа психолога, психотерапевта и должна быть направлена на содействие человеку в понимании им самого себя. Рост самопонимания помогает преодолеть негативные последствия тревоги, преодолеть отчуждение от своего реального «Я». Однако под осознанием и пониманием себя имеется в виду не что иное, как понимание человеком механизмов формирования тревоги, механизмов формирования типов невротической личности. Полагается, что обнаружение действия этих механизмов в ходе самоанализа, понимание закономерностей формирования невротических тенденций препятствует действию этих механизмов и реализации закономерностей. Знание о существовании невротических тенденций и их формировании, конечно, полезно, но дело в том, что такое знание не слишком помогает избегнуть их влияния.
Проиллюстрируем это на примере главного действующего лица такого широко известного произведения, как «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Печорин прекрасно сознает, что он разрушает жизнь, благополучие других людей, что ему нет дела до их страданий: «Я чувствую в себе ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои силы» [14]. Он понимает и причины этого: «Такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных чувств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, — другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть…» [15]. Но это знание совсем не освобождает никаких спонтанных сил развития и не способствует никаким позитивным личностным изменениям.
По словам Хорни, в отличие от Фрейда, целью которого является уменьшение строгости внутренних предписаний и запретов, — ее цель состоит в том, «чтобы человек полностью мог обходиться без внутренних предписаний и обрел направление в жизни согласно его истинным желаниям и убеждениям» [16]. Но как быть, если истинное убеждение человека в том, что некоторые внутренние предписания, внутренние запреты необходимы? В рамках теоретических представлений Хорни просто не существует возможности, что некоторые «надо» и «нельзя» необходимы для реализации подлинного «Я» человека, соответствуют его истинным желаниям и стремлениям. Для нее «надо и нельзя, любого вида и в любой степени, всецело невротическое явление, противостоящее нравственности и совести»[17]. Совесть не сводится к запретам и долженствованиям, при этом она все же предполагает их, но в системе теоретических представлений Хорни это не так.
Как пример тирании «нельзя» и «надо», отказа от собственного «Я» и стремления к возвеличенному «Я» приводится образ Родиона Раскольникова. По словам Хорни, «Раскольников считает, что ему НАДО убить человека, чтобы доказать свои наполеоновские качества. Несмотря на то, что Раскольников во многом негодует на устройство мира, ничто так не противно его чувствительной душе, как убийство. Ему приходится замордовать себя до такой степени, что он становится способен его совершить. То, что он чувствует при этом, выражено в его сне о лядащей лошаденке, которую пьяный мужик пытается заставить тащить непосильную телегу…Это сновидение посещает его в то время, когда внутри него самого происходит страшная борьба. Он считает, что ДОЛЖЕН быть в состоянии убивать, но ему это настолько мерзко, что он просто этого не может. В сновидении ему является бесчувственная жестокость, с которой он заставляет сделать себя нечто столь же невозможное, как невозможно для лошаденки тянуть воз с бревнами. Из глубин его существа поднимается сострадание к себе за то, что он учиняет над собой. Испытав во сне свои собственные чувства, он ощущает себя более цельно с самим собой и решает никого не убивать. Но вскоре после этого наполеоновское „Собственное Я“ снова берет верх, потому что в этот момент его реальное „Собственное Я“ настолько же беспомощно против него, как надрывающаяся лошаденка против пьяного мужика»[18]. В описанном примере упущено, что идеализированное, наполеоновское «Я» Раскольникова — это «Я», лишенное системы внутренних предписаний и запретов, лишенное всех «надо» и «нельзя». Хорни так же, как Раскольников, выступает против любых внутренних ограничений. Идеализированное, возвеличенное «Я» Раскольникова отрицает все запреты, кроме одного: запрещен любой запрет. Его реальное собственное «Я» как раз принимает внутренние запреты и предписания, связанные с совестью, его реальное «Я» как раз наделено совестью. Однако он считает, что все запреты надо преодолеть, что они только мешают руководствоваться своими, исключительно своими внутренними позывами, мешают свободе. Великие люди лишены системы внутренних предписаний, поэтому они самореализуются без препятствий, следуя принципу «почему бы и нет». Раскольников стремится к этому же и встает на путь самореализации, путь избавления от «внутренних предписаний и запретов»… И вот тут оказывается, что его настоящее «Я» голосом совести дает ему понять, что внутренние предписания и запреты, от которых он стремится избавиться, являются его собственными внутренними устремлениями и, разрушая их, он себя убивает.
Иными словами, Хорни утверждает, что внутренние запреты и предписания неоправданны, но для иллюстрации этого положения приводит пример Раскольникова, показывая, что именно внутренний запрет на убийство является его подлинным внутренним устремлением.
Вместе с тем она рассматривает мучения Раскольникова как свидетельство того, что стремление к убийству, к освобождению от тирании «надо» и «нельзя» было не его подлинным внутренним устремлением, а тираническим долженствованием. Получается, что, если бы ему это не было противно, так это и было бы его настоящим внутренним устремлением. И тогда — вперед, к намеченной цели? Можно предположить, что, например, для Наполеона, Гитлера или Сталина организованные ими мучения людей не были предметом их собственных страданий, и тогда получается, они реализовывали свои подлинные внутренние стремления. В таком случае они получаются самыми личностно развитыми людьми… Но Хорни, конечно, сама бы не согласилась с таким выводом (она совершенно иначе рассматривает поведение, например, Гитлера), хотя именно такой вывод и следует из ее теории.
Хорни считает внутренние предписания и запреты чем-то ложным, наносным, мешающим подлинной аутентичности, а с другой стороны, она не может согласиться с тем, что люди, лишенные внутренних запретов, и являются наиболее приблизившимися к своему подлинному «Я», личностно развитыми. В своих работах она описывает губительность для человека стремления к превосходству над другими, к мстительному торжеству, погони за славой, стремления к власти, рассматривает, как такие стремления порождаются тревогой и, в свою очередь, поддерживают и усиливают ее.
Много страниц посвящено описанию того, как губительна для человека погоня за призраком, которым является возвеличенное собственное «Я». Хорни отмечает, что гордыня, стремление к собственному возвеличенному, напыщенному «Я» порождается тревогой и сопровождается ненавистью к реальному «Я» — слабому и презираемому. Она описывает, как погоня за славой оборачивается саморазрушением человека. Но стремление к славе она отождествляет со стремлением к бесконечному и неограниченному и, в конце концов, заключает, что человек стремится к бесконечному и неограниченному исключительно под влиянием внутреннего расстройства.
«Под прессом внутреннего расстройства человек начинает тянуться к бесконечному и неограниченному, чего ему достичь не дано, хотя его ограничения и не жесткие; и сам этот процесс разрушает его»[19].
Стремление к идеалу, к совершенству, она отождествляет со стремлением к идеализированному «Я», гордыней, и получается, что стремление к идеалу — это исключительно невротическое, навязчивое стремление и также погоня за призраком.
Рассматривая детские тревоги, Хорни предупреждает, что неуважение к ребенку, обесценивание его оценок и суждений, требование слепого подчинения не способствует личностному развитию, подрывает доверие к себе, разрушает его, порождая внутреннюю систему тиранических долженствований и тревожность. Проницательность Хорни состоит в том, что она видит невроз, развивающийся вследствие тревоги, как трагическую потерю человеческого опыта, свидетельствующего человеку о том, что для него хорошо, а что плохо. Отчужденность от опыта собственной жизни, от правды собственных чувств уводит человека от понимания себя и от своего призвания. Впрочем, причину такого отчуждения Хорни видит исключительно в запретах, в принуждении и давлении, оказываемом взрослыми на ребенка, вследствие которых возникает тревога. Однако взрослые не могут обойтись без введения некоторых правил, норм и ограничений; другое дело, каково содержание этих правил и каковы способы их введения в отношения с ребенком. Так ли уж болезненны требования взрослых, направленные на поддержание внутренних устремлений ребенка к развитию, и действительно ли они мешают его собственному развитию? Хорни полагает, что в человеке есть конструктивные творческие силы, и им препятствуют деструктивные силы, но для нее не существует ситуации, в которой запрет направлен против деструктивных сил на помощь и побуждение конструктивным творческим импульсам. Любой запрет и принуждение для нее деструктивен, мешает развитию, порождает отчуждение от себя и тревогу. Под конструктивными силами она понимает стремление к самореализации, а главной характеристикой реального «Я» — стремление к развитию, к самоосуществлению. Развитие для нее — максимально полное выявление и реализация всех заложенных природой потенций человека, и в этом К. Хорни предвосхищает гуманистическую психологию.
Гуманистические теории тревоги
Один из основателей гуманистической психологии, американский психолог Ролло Мэй, обратил пристальное внимание на феномен тревоги, посвятив много лет размышлениям и изучению этого феномена и пробудив интерес к этой теме в психологии [20]. Он считал, что тревога является неотъемлемым элементом человеческого существования, создает напряжение и ощущение риска: древние люди испытывали тревогу, когда опасность угрожала их жизни; современный человек испытывает тревогу в ситуациях, чреватых потерей самоуважения, отвержения группой, проигрыша в соревнованиях с другими людьми. Тревога, по его мнению, играет положительную роль в жизни человека, она может освободить нас от скуки, может обострить наше восприятие, она свидетельствует о некоторой внутренней борьбе. Исчезновение тревоги, по его мнению, означает, что борьба проиграна. По словам Мэя, «если есть тревога, значит, человек живет» [21].
О какой внутренней борьбе здесь идет речь? О борьбе между развитием и стагнацией, между новыми возможностями, новой потенциальностью и угрозой проигрыша. Перед человеком открываются новые возможности, но он страшится посметь реализовать их, и возникает тревога. По мнению Мэя, тревога — это состояние человека, когда он сопротивляется осуществлению своих открывающихся возможностей, сопротивляется личностному росту.
Дело в том, что гуманистическая психология исходит из понимания природы человека, как исключительно позитивной. «Самость», «селф», «внутреннее природное Я», наделенное исключительно положительными природными потенциями, стремится к реализации, к росту. Личностный рост, личностное развитие — это самореализация, выявление «внутреннего Я». В контексте гуманистической психологии выявление природных потенций «внутреннего Я» — это и есть путь к себе, которому нужно просто не мешать.
Поскольку «внутреннее Я» исключительно положительно и является подлинным, аутентичным, то нужно полностью принимать его и, тем самым, не мешать его росту. Любая потенция имеет право на выявление и осуществление, потому полное и безусловное принятие себя обеспечивает лучшие условия для всесторонней и полной реализации природных потенций, то есть личностного роста, выявляет свое «внутреннее Я». То есть, следуя по пути самореализации, человек становится аутентичным. Подчеркивается необходимость полного и безусловного принятия ребенка, полной и безусловной любви, как условия его личностного роста.
Понятие «личностный рост» становится популярным по мере распространения в культуре гуманистической психологии, но за ним стоит совершенно определенное понимание человека, личности, развития личности. Употребление этого понятия более уместно в контексте гуманистической психологии (как употребление понятия «комплекс» в контексте психологии фрейдистской). В этом контексте личностный рост, самореализация — главная цель и смысл жизни. Упование гуманистической психологии выражено известным психологом Ф. Перлзом: «Я — это Я, а Ты — это Ты. Я делаю свое дело, а Ты свое. Я живу в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, и ты живешь в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям. Ты — это ты, а я — это я. Если мы случайно встретились и нашли друг друга, то это прекрасно. Если нет — ничего не поделаешь, этому нельзя помочь».
Но акцент на индивидуальность, обожествление человека приводят к довольно разочаровывающим и непривлекательным результатам. Свобода становится правом на удовлетворение своих желаний и потребностей. Возникает культура нарциссизма (самолюбования, самовлюбленности, самодостаточности), в которой человек считает себя свободным от каких-либо обязательств и идеалов, кроме одного — удовлетворения своих потребностей, к которым и сводится, в конце концов, личностный рост и самореализация. Полнота жизни мыслится как полное удовлетворение потребностей и желаний «внутреннего Я», удовлетворение жажды жизни, и постепенно сводится к высокому уровню потребления.
Любопытный казус: в 1987 году в связи с юбилеем Конституции США, газета «The Boston Globe» провела опрос среди читателей, для того чтобы выяснить, насколько хорошо американцы знают свою Конституцию. Был составлен список высказываний, и у респондентов спрашивали, какие из них содержатся в Конституции. Более 50 % опрошенных сказали, что высказывание «от каждого по способностям, каждому по потребностям» (определение коммунизма, данное К. Марксом) принадлежит Конституции США.
В нарциссической культуре подчеркивается необходимость освобождения от «деспотических стандартов», устаревших норм и морали, подчеркивается, что нельзя слепо следовать традициям и нормам, подчеркивается ценность самоосуществления, ценность самопознания как наиболее полного познания своих потребностей и желаний. А наиболее полное познание своих потребностей и желаний считается необходимым для осуществления полноты жизни. И слова вроде бы правильные. (Опять же Раскольников, когда поглубже заглянул в себя, почувствовал неправду своих стремлений и желаний самореализации.) Но только не стоит забывать, что совесть и самопожертвование в логике гуманистической психологии (и не только гуманистической) считаются не то чтобы ненужными, они просто подменяются, наполняются иным содержанием. Например, совесть понимается примерно так, как и у Хорни: это то, что помогает реализовывать свои настоящие внутренние потребности и стремления, а настоящие — это те, которые способствуют развитию «реального Я». А что же такое это реальное «Я» и как отличить его от фальшивого? Его основное свойство — развитие, и это же его главная черта, характеристика, особенность и цель.
В целом, поощряется некоторая сфокусированность на себе, на своем «Я», хотя в то же самое время говорится и о необходимости некоторого альтруизма, даже самоотрицания, но главное — не заходить в этом слишком далеко. Пока ваш альтруизм повышает вашу самооценку, улучшает ваше представление о себе, пока ваша помощь другому помогает вам лучше думать о самом себе, он считается оправданным, полезным вам и будет поддержан гуманистическим психологом. То есть, он полезен, пока вы по-прежнему сконцентрированы на себе. Парадоксальным образом, несмотря на то, что нарциссизм считается личностным нарушением, требующим медицинского вмешательства, профессионалы в области психического здоровья внесли свой вклад в построение культуры нарциссизма. Причем такая сфокусированность на собственном «Я» воспринималась как освобождение от «деспотизма морально-нравственных требований», однако риторика освобождения скрывала новые способы манипуляции, представлявшие собой более утонченные и изощренные формы контроля.
Гуманистическая психология возникла и обрела популярность в послевоенные годы в США. Как уже отмечалось, в это время в Соединенных Штатах наблюдается улучшение материального благополучия, растет уровень потребления. Появляется новая эпоха изобилия, тучные годы. В это время формируются новые стандарты жизни и представления о том, что полнота жизни означает высокий уровень потребления, причем не только материальных продуктов, но и развлечений, впечатлений, переживаний. Складывается представление о том, что ключ к хорошей жизни — стремление к лишнему, к богатству и разнообразию переживаний и ощущению.
В XX столетии формировались новые ценности, такие как досуг, растрачивание, аполитичная пассивность и самореализация. В обществе наблюдался ценностный сдвиг по направлению к потребительству, индивидуализму, осуществился радикальный поворот от установок на сбережение, рачительность, труд и терпение, отказ от ценностей ответственности, долга. В XIX веке, по словам У. Сасман (W. Susman), существовала «культура характера»[22]. В понятии «характер» подчеркивалась моральная интегрированность, целостность и стабильность; в качестве средств развития характера и достижения моральной целостности рассматривались дисциплина, бережливость, работа и религия. В XX веке «культура характера» не исчезла моментально, но стремительно развивалась другая культура, основанная на ином понимании человека. На первый план выходит понятие «Я» («self»), в котором акцент делается не на верном выборе и ответственности, а на системе личностных свойств и черт, благодаря которым человек может нравиться другим, вызывать у окружающих чувства восхищения, уважения, доверия, производить на них благоприятное впечатление, на харизме [23]. Именно такие качества — личная привлекательность, «блеск в глазах», уверенность, способность вызывать чувство доверия, умение убеждать — оказались востребованы, и помощь многочисленных специалистов: психотерапевтов, помогающих решить личностные проблемы — изжить комплексы, повысить самооценку, принять себя, выработать собственный стиль; имиджмейкеров; стилистов; специалистов в области ведения переговоров; специалистов по прохождению собеседований в кампаниях и других специалистов по приобретению харизмы, стала необходимой [24]. По замечанию Т. Лирс (T. Lears), каждый отдельно взятый специалист, работающий в этом направлении, мог быть сколь угодно искренним и уверенным в социальной полезности своей деятельности, но все вместе совместными усилиями они создавали культуру и общество потребления. Благодаря широкому распространению таких представлений, консюмеризм (от англ. «consumerism» — «потребление») становится своего рода орудием управления как отдельными индивидами, так и обществом в целом. Слово «харизма» означает особую одаренность человека, но в современном контексте оно стало означать умение эмоционально воздействовать на другого человека, очаровывать, вызывать у окружающих чувства восхищения, уважения, доверия, производить нужное впечатление уверенного, знающего, сильного, ответственного, и благодаря этому управлять другими людьми, легко и непринужденно прививая им свою идеологию. Харизматичный человек может быть не очень порядочным, безответственным, не очень умным, но он умеет создать впечатление, что это не так. Он умеет влюбить в себя, эмоционально воздействовать, убедить в своей правоте, зажечь, повести за собой. Правда, нередко он и сам не знает куда, но его выступления кружат голову, наполнены уверенностью, «заводят» других.
В это время в массовой культуре появляется новый тип героя: звезда, знаменитость, харизматичный лидер, обладающие личностным магнетизмом — средством к достижению успеха. У. Сасман (W. Susman) отметил, что не случайно в художественной литературе конца XIX века успех зависит не от умения, мастерства, трудолюбия, а от умения производить впечатление. Ранее создавался образ героя, как трудолюбивого человека, обладающего сильным характером, моралью, дисциплиной. Теперь появляется новый герой: яркий, самореализующийся, харизматичный, но харизматичность свелась к способности «заводить» других, способности влиять на людей, покорять и очаровывать. Функция «звезд» — транслировать в массы неглубокие, поверхностные суждения, создавать стереотипы. Новый герой способствует формированию нового национального типа. Личная привлекательность становится более важной и значимой, чем морально верный выбор и действие. Предлагается и новый образ жизни, и в соответствии с ним достойная жизнь — это жизнь, прежде всего, характеризующаяся высоким уровнем потребления. Красочно рассказывается о быте и жизни обеспеченных: домах, дачах, яхтах, богатых празднествах, путешествиях как новых стандартах жизни. Свобода оказалась связанной в сознании человека, прежде всего, с потреблением и интенсивными переживаниями. Свобода понимается как свобода «взять от жизни всё», поскольку «ты этого достоин».
Широко распространилось представление о том, что для поддержания психического благополучия необходима самореализация, удовлетворение потребностей и желаний «внутреннего Я». Убеждая человека в наличии неразрывной связи между благополучием, здоровьем и реализацией желаний «внутреннего Я», его побуждали к осуществлению своих желаний. Одновременно возникла целая индустрия формирования таких стремлений. Личностное развитие связывалось не только с развитием харизмы, но и с потреблением. Свою лепту в формирование таких представлений внесла реклама, связывающая высокий уровень потребления со счастьем, энергичностью, популярностью и успехом.
Наиболее успешные рекламные технологи не только привлекали внимание к рекламируемым продуктам, но и формировали потребности, направленные на удовлетворение страстных желаний «self», внутреннего «Я». Самореализация свелась к высокому уровню потребления материальных и культурных благ, а человек — к потребляемому им: чем выше уровень потребления, тем он считается более развитым.
Психология и психотерапия поддерживали «self»-центрированный способ жизни. Работники прессы, телевидения и школы популяризировали терапевтические подходы, повышающие самопринятие, то есть положительную оценку себя и собственной природы, доверие к собственным инстинктам и способностям. К середине XX столетия сформировалась так называемая «терапевтическая культура» [25], характерной чертой которой является селф-фокусированность. Согласно тезису Ф. Рифф (Ph. Rieff), развиваемому в книге «Триумф терапии», христианство не служит более неким связующим в организации общества, оно замещено фрейдовским психоанализом, предложившим индивидуализм. Порождением терапевтической культуры является человек психологический, который рождается для того, чтобы получать удовольствие, в отличие от религиозного человека, рождающегося, чтобы спастись. Характерные особенности такой культуры: направленность на самореализацию и отсутствие твердых моральных установок [26].
Психотерапевтические подходы, распространенные в популярной культуре, способствовали «selfo-принятию (самопринятию), определяемому как глубоко чувствуемая положительная оценка себя и собственной природы, доверие к собственным инстинктам и способностям. 1970-е и 1980-е годы — золотой век гуманистической психологии и психотерапии, находившихся в это время на пике популярности.
После увлечения гуманистическими теориями последовало более критичное отношение к ее положениям. Психологи, восхищавшиеся видением Ф. Перлза (F. Peris), выразившим в своем широко известном терапевтическом обращении, приведенном выше, чаяния и упования гуманистической психологии, теперь признают односторонность таких взглядов. «Когда я впервые в жизни читал эти слова в середине 70-х, я был восхищен их видением и смелостью. Теперь меня ужасает односторонность такого взгляда. Я видел так много родителей, уходящих от детей, так много супругов, отброшенных, когда появлялась привлекательная альтернатива, и так много людей, избегающих социальной ответственности под рубрикой „это не мое дело“» [27].
В 1980-х — 1990-х годах за рубежом появляется много текстов, посвященных анализу «selfo-фокусированности психологии и психотерапии. В одной из первых работ, критикующих «selfo-поклонение терапии и нарциссический характер большей части современной психологии как формы секулярного гуманизма, Пауль Витс (Paul C. Vitz) утверждал, что психология стала секулярным культом «self» [28].
В 1978 году Кристофер Лэш (Christopher Lasch) в книге «The culture of Narcissism» аргументировал, что эгоизм и нарциссизм современного американского общества во многом производен от психологии, психотерапии и других помогающих профессий. В 1983 г. Микаель и Лиза Уоллак (Michael и Lisa Wallach) представили систематическую критику основных психологических теорий [29]. Авторы пишут, что все современные психологические теории человеческой мотивации и личности рассматривают эгоизм как единственный функциональный этический принцип. Подчеркивается, что практики психологии, пытаясь помочь человеку, способствовали в то же самое время сохранению причин проблем [30], поскольку усиливали и укрепляли в нем такие качества, как автономность, изолированность, ограниченность (поддержание границ с другими), властность и индивидуализм.
Ценность индивидуализма подчеркивается в массовой культуре США, в художественной литературе, кинематографе и политической риторике. Индивидуалистическая направленность на себя воспитывается с детства, уже в дошкольных группа проводятся программы по самопринятию (полному и безусловному принятию себя). Однако, по замечанию известного американского психолога Дэвида Майерса (D. Myers), в своем крайнем варианте индивидуализм оборачивается эгоизмом, который приводит к тому, что человек думает о мире исключительно в связи со своими потребностями и предпочитает себя всему остальному миру [31].
Современное выражение индивидуализма стало экстремальным, и психологические теории в немалой степени способствовали этому [32]. Р. Мэй, долгое время отстаивавший ценности гуманистической терапии, в 1992 году в предисловии к сборнику, выпущенному в честь столетия Американской психологической ассоциации, писал: «Мы стали обществом, посвященным „индивидуальному Я“» [33]. Он указывал на опасность того, что психотерапия сделалась «селф-озабоченной» и создала новый тип клиента — нарциссическую личность. Ролло Мэй признал, что терапия стала новым культом. Психотерапевты нанимаются клиентом, чтобы вести его к успеху и процветанию. Редко кто говорит об обязанностях, почти каждый вступает в терапию, чтобы достичь цели индивидуалистического процветания, и психотерапевт нужен для того, чтобы ассистировать в этом предприятии. Он обращает внимание на то, что терапия становится скучной, превращаясь в «Макдональдс»-терапию, когда терапевт начинает чувствовать, что он снова и снова слушает одну и ту же историю о существовании множества практических проблем, мешающих процветанию.
Без вертикального (духовного) измерения забота об индивидуальном развитии оборачивается крайним индивидуализмом и эгоизмом. Материализм и индивидуализм, поддержанные психологией, стоили, по замечанию Дэвида Майерса (D. Myers), слишком дорого. На культурном уровне битва за освобождение индивидуальности от давления обычаев, норм и религии выиграна, но плод победы отнюдь не сладок. В настоящее время, когда мы с энтузиазмом верим в необходимость аутентичности и самореализации, зарубежные психологи уже не столь категоричны в своих утверждениях и не столь стремятся к освобождению от этики самопожертвования и неаутентичности.
В гуманистической психологии говорится о необходимости расширения сознания, саморазвития, самоактуализации, даже духовного роста, но содержательно это не рассматривается, не соотносится ни с какими ценностями, кроме ценности развития. Главная ценность — саморазвитие, основная характеристика которого — развитие, основная цель развития — опять развитие…
Гуманистическая психология не лишена мировоззренческих предпосылок, в основе ее лежит совершенно определенное понимание человека и его развития. Если в основании фрейдизма лежит понимание человека как человекозверя, то в основании гуманистически-экзистенциальной психологии — понимание человека как человекобога. Понятие души (духа), за которым стоит понимание человека как творения Божия, здесь заменено на природное «внутреннее Я», наделенное способностью к саморазвитию. Движение здесь — всё, конечная цель — ничто. То есть, конечной целью такого саморазвития, самоактуализации и аутентичности в самом прямом смысле слова является «ничто». В результате такой самоактуализации человек приближается к «ничто», и нарастает его тревога…
Тревога как ответ на стресс
Еще одним типом теорий тревоги являются так называемые стрессовые теории. Их приверженцы полагают, что нормальная и болезненная тревоги имеют общее происхождение и основание. Болезненная тревога рассматривается как чрезмерно длительный и слишком сильный ответ человека на стрессовую ситуацию. Различие между нормальной и болезненной тревогой мыслится как имеющее количественный характер. Невротическая тревога видится как характеризующаяся большим количеством нарушений по сравнению с нормальной тревогой. Авторы, придерживающиеся этих теорий, отмечают полезную адаптивную функцию тревоги. Единое понимание тревоги как компоненты нормальной душевной жизни, как черты тревожной личности и как симптома различных душевных расстройств рассматривается в качестве преимущества данных теорий.
Однако недостаточно внимания уделяется глубинным личностным причинам тревоги, что приводит к некоторой поверхностности понимания тревоги как ответа на стресс. Вопрос в том, почему у некоторых людей стрессовые ситуации носят такой затяжной характер, а другие успешно справляются со стрессом и обладают большей стрессоустойчивостью? Как минимизировать негативные последствия стресса, как повысить стрессоустойчивость? Разрабатываются стратегии совладения со стрессом и повышения стрессоустойчивости.
Сторонники стрессовых концепций тревоги в качестве способов ее преодоления предлагают как выражение безопасным для себя и окружающих способом своих чувств, возникающих в стрессовой ситуации: гнева, протеста (бить подушку, махать руками, кричать, если это возможно), — так и упражнения по релаксации, например аутотренинг.
Выражение своих негативных эмоциональных состояний: гнева, обиды, раздражения безопасным для окружающих и себя образом, наверное, лучше, чем опасным. Но оно само по себе поддерживает и закрепляет такие способы реагирования на стресс, как гнев, обида, раздражение, что психологическому благополучию никак не способствует. Заняться релаксацией — хороший совет. Но для занятий упражнениями по релаксации человек должен обеспокоиться своим состоянием, на нем сконцентрироваться, посчитать его неадекватным, неверным и попытаться от него избавиться. В стрессовой ситуации человек, охваченный тревогой, не на своем состоянии сконцентрирован, в этот момент не оно его больше всего беспокоит. Его беспокоит потрясение, горе, утрата или грядущее сильное беспокойство. Поскольку предвосхищаемое потрясение кажется ему весьма близким и вероятным, то в таком состоянии занятия релаксацией воспринимаются как неадекватные, неоправданные. Это в определенной мере видится ровно так же, как занятия релаксацией при реальной, а не только предвосхищаемой потере, потрясении. Человек в стрессовой ситуации, испытывая тревогу, с ужасом думает, что произошло что-то непоправимое, робкая надежда на благополучный исход тает или уже растаяла. Ситуация близка к ситуации переживания горя. Для занятий релаксацией он должен уже пережить горе, смириться с потерей, принять необходимость жить дальше, найти смысл такой жизни…
Тревога в когнитивных и поведенческих подходах
В бихевиоральных (поведенческих) подходах психолог не озабочен причинами тревоги, он стремится помочь клиенту изменить нежелательное поведение и сформировавшиеся нежелательные способы реагирования. Предлагаются различные тренировки, упражнения, направленные на разрушение сложившихся связей между стимулами и тревожной реакцией. Например, предлагается постепенное введение вызывающих тревогу стимулов в комфортной, дружественной для клиента обстановке. Такие подходы хорошо работают и вполне оправданны, особенно если человека беспокоят какие-то частные проявления тревоги, от которых он хотел бы избавиться (боязнь лифта, страх публичных выступлений), или тревога после острой психической травмы. Однако воздействие в таком случае направлено на уменьшение тревожной симптоматики, не затрагивая глубинных причин тревоги, потому вполне вероятно появление новой симптоматики.
При когнитивных подходах причинами тревоги видятся искаженные представления человека об окружающем мире, его неверные, навязчивые мысли и оценки происходящего, так называемые алогизмы, мысленные автоматизмы. Психолог помогает обнаружить такие алогизмы, определяющие его неверное восприятие ситуации, оценить их как ложные и изменить, заменить на более адаптивные. Специалист оказывает помощь человеку в разрушении стереотипов мышления, которые порождают болезненную тревожную реакцию. Врачи выделяют следующие негативные стереотипы мышления, запускающие тревогу: человек предвосхищает отрицательные события в будущем, считает необходимым соответствовать высоким стандартам количества и качества выполняемой работы (то есть считает необходимым очень хорошо выполнять работу), при этом убежден в собственной некомпетентности, в своей неспособности ладить с окружающими, боится быть осмеянным или отвергнутым вследствие этой некомпетентности. Получается, для того чтобы не испытывать тревогу, нужно в определенной мере закрыть глаза на происходящее в мире, не стараться хорошо работать, при этом быть уверенным в собственной компетентности, умении ладить с людьми и не бояться быть осмеянным или отвергнутым (уволенным) вследствие некомпетентности? Пожалуй, такие умозаключения также будут ошибочными. Постоянная убежденность в собственной компетентности не менее настораживает, чем постоянная неуверенность.
Стремление к высоким стандартам качества, перфекционизм, наверное, не делает жизнь человека более легкой. Но от него могут требовать соответствия выполняемой им работы высоким стандартам качества, причем требовать будет даже не начальник, а, что называется, сама жизнь. Сделаешь хуже — столкнутся поезда, снизишь стандарты качества — не будет работать программа и так далее. Это — реальность. Как быть в такой ситуации? (Психолог, наверное, скажет, что это типичный образец ложного мышления, потому что человек слишком много берет на себя…)
В когнитивной психологии человек понимается как машина, перерабатывающая информацию, а ее цель — улучшение адаптации к окружающей среде. И основная неприятность заключается в неверной переработке информации, это и надо поправить. И ведь действительно можно поправить! Можно научить человека не предвосхищать негативные события, но не будет ли это привычкой закрывать глаза на происходящее в мире: «Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо»? Можно помочь человеку преодолеть негативные стереотипы и ожидания, убедив его в собственной компетентности. Он будет так думать и либо игнорировать любой опыт, свидетельствующий об обратном, либо интерпретировать его таким образом, что дело вовсе не в нем. И до поры до времени будет удаваться и первое, и второе. (Да мы и сами так нередко делаем без всякого обучения!)
Но человек все же не машина, ошибочные мысли не существуют изолированно от него самого, от направления, способа его жизни. Человек думает и видит так, потому что он таков, он живет так. Если проанализировать выделенные специалистами типы автоматических мыслей, предубеждений, характерные для тревожных и депрессивных людей, то они будут свидетельствовать о сфокусированности человека на себе, и, пока не преодолена такая фиксация, восприятие мира не изменится. Для преодоления сфокусированности на себе осознания своих стереотипных негативных мыслей недостаточно. Можно, конечно, и сфокусированность человека на себе расценивать как ложный мысленный стереотип, но как помочь человеку преодолеть его, при этом не сфокусировав его на себе еще больше? Ошибки мысли связаны с направлением жизни человека, если не меняется направление, то и мышление не изменится.
В качестве способов преодоления тревоги почти во всех рассмотренных направлениях (кроме сугубо бихевиорального) предлагается усиление, упрочение связей со своим «Я», движение к себе самому, сфокусированность на себе. Однако опыт подсказывает, что если мы сосредотачиваем свое внимание на себе, начинаем трепетно прислушиваться к себе, к своему наличному Я, то тут-то нас и поджидают хандра и болезни…
Глава 3
Причины тревоги
Тревога — феномен, остающийся во многом непонятным, несмотря на огромное количество посвященных этой проблеме исследований в психологии, психиатрии и физиологии. Но главное даже не в том, что тревога остается непонятной и неясной, дело в том, что новые знания по проблеме тревоги и тревожности не очень помогают решению этой проблемы на практике.
Слова, сказанные Р. Мэем в 1977 году, остаются актуальными и сегодня: «К настоящему времени можно насчитать до шести тысяч публикаций и диссертаций, касающихся тревоги и связанных с ней вопросов… Наши познания возросли, но мы до сих пор не знаем, что нам делать с нашей тревогой»[34].
Угрозы переполняют нашу жизнь, вопрос в том, какие внутренние психологические образования делают нас более уязвимыми к этим угрозам? Казалось бы, очевидный ответ на вопрос, что делает нас уязвимыми, — недостаток веры в себя, в свои силы, низкая самооценка, ложный мысленный автоматизм: «Я не справлюсь». Именно такой ответ предлагается гуманистической психологией, отчасти и психологией когнитивной, поэтому помощь заключается в повышении самооценки, веры в себя. Экзистенциально-гуманистические (от лат. «existentia» — «существование») психологи убеждают, что от самого человека зависит его жизнь, зависит то, что с ним будет, зависит его успешность, благополучие, стоит только овладеть инструментами активного влияния на свою жизнь. Парадоксальным образом, такие утверждения оказываются близки советской идеологии, которую экзистенциально-гуманистическая психология вообще-то не жалует: «человек — это звучит гордо», «всё зависит от самого человека», «всё в твоих руках».
Особенно эффектно такие утверждения звучат в контексте опыта, пережитого и описанного А. И. Солженицыным («Архипелаг ГУЛАГ»), В. Т. Шаламовым («Колымские рассказы»), Н. Н. Никулиным («Воспоминания о войне»), Э. М. Ремарком («На Западном фронте без перемен»), Д. Стейнбеком («Зима тревоги нашей»). Утверждения о всесилии человека проходят мимо трагического человеческого опыта, который свидетельствует, что отнюдь не всё зависит от нас. Как нашему современнику в информационную эпоху верить в себя, в свои силы, когда он видит и слышит, что опасность может подстерегать на каждом шагу? Нужно быть совсем слепым и глухим, чтобы не видеть, что довольно благополучный уклад жизни, когда ничто, казалось бы, не предвещало беды, может измениться в один момент, после чего наступит разруха и хаос. Как можно видеть это и не тревожиться?
То, что греки называли неумолимой судьбой, преследует нас. И каждый человек на собственном опыте нередко убеждается в тщетности своих планов, устремлений и надежд. Вполне естественно, что наблюдается рост тревоги, что и констатируют психологи. Можно ли видеть мир не через розовые очки, понимать его трагичность и при этом не тревожиться о будущем?
Тревога не связана напрямую с уровнем материальной жизни и расширением возможностей, дающих некоторое богатство переживаний, ощущений и повышающих самореализацию. Технологические достижения обеспечивают высокий уровень комфорта и наличие свободного времени для достаточно широкого слоя людей в западных странах. Однако освобождение от тяжелой работы, легкость быта не приводит к снижению тревоги. Уровень материального благосостояния и средний уровень жизни в западных странах, в США и Японии высоки, но депрессия и тревога — весьма распространены и в этих странах. Люди, ведущие комфортный образ жизни, не менее подвержены тревоге. По мере того, как жизнь становится все более легкой, все большее значение придается несущественному, и круг тревог расширяется. По замечанию Т. Лирса, по мере распространения комфортной жизни, тревога, нервное измождение, нервная усталость становятся настоящим бедствием для обеспеченных слоев населения [35].
С повышением уровня комфорта ежедневного существования у человека появляется чувство, что он не сможет справиться с опасностями реальной, трудной жизни, которые в любой момент могут обрушиться на него. Он начинает всего опасаться. Казалось бы, у него есть положение, высокие заработки, недвижимость, деньги, инвестиции, но ничто не гарантирует, что все это не обесценится в любую минуту. По мере роста уровня приспособления растет и тревога. Трудность заключается в том, что человек полагается на нечто такое, что сам не считает и не может считать надежным.
Р. Мэй обратил внимание на то, что тревога распространилась и стала явной к середине XX века, подчеркнув, что она оказалась связана с утратой ценностей. Но это время роста благосостояния, даже изобилия материальных благ, роста возможностей для самореализации и широкого распространения представлений о необходимости и полезности самореализации (осуществления стремлений и желаний внутреннего «Я»). Таким образом, к середине XX столетия, наряду с ростом материального благополучия и ростом возможностей для самореализации, распространилось переживание бессмысленности жизни.
В литературе этого времени тревога осмысляется, как связанная с бездомностью, одиночеством и отчаянным, навязчивым и обреченным на неудачу поиском безопасности[36]. В романе Т. Вулфа «Домой возврата нет» тревога обусловлена изменением устоявшихся и привычных связей, норм, ценностей, образа жизни, утратой дома, утратой укорененности. Одиночество, потерю ценностей, смысла жизни и невозможность вернуться в утраченный мир описывает Э. М. Ремарк в романе «На Западном фронте без перемен». В поэме Уинстона Одена, которая так и называется «Век тревоги» («Эпоха тревоги»), ее истоки видятся в утрате корней, традиций. За этим следуют переживания неприкаянности, ненужности и одиночества. То, что является только средством жизни, становится ее целью:
- …Дурацкий мир,
- Где поклоняются техническим новинкам,
- Мы говорим и говорим друг с другом,
- Но мы одиноки. Живые, одинокие.
- Чьи мы?
- Как перекати поле без корней [37].
Чувство беспомощности, дезориентация, переживание одиночества, отчужденности, потерянности характерны для героев Кафки и Пруста. Размышляя о глубинных истоках тревоги, Карл Ясперс [38] отмечает, что она растет по мере утраты традиций и ценностей. По мере того, как то, что веками составляло мир человека, расползается по швам, «всё становится несостоятельным; нет ничего, что не вызывает сомнения, ничто подлинное не подтверждается; существует лишь бесконечный круговорот, состоящий во взаимном обмане и самообмане посредством идеологий. Сознание эпохи отделяется от всякого бытия и заменяется самим собой. Тот, кто так думает, ощущает и самого себя как ничто» [39].
Таким образом, причинами тревоги являются слом традиций, утрата ценностей, норм и правил, регулировавших поведение, помогавших вырабатывать определенное видение, понимание мира.
Но разве слом традиций не приводит к освобождению от условностей, рамок, к избавлению от «тирании долженствований»? А ведь именно они, как считается, и вызывают тревогу. Следовательно, разрушение традиций, норм, правил и условностей должно бы приводить к уменьшению тревоги. В такие времена ослабевает «моральный гнет», взрослые часто не понимают, как воспитывать детей, что передавать им, поскольку сам мир изменился. Они росли и жили в одном мире, а потом оказались в совершенно другой реальности. Кажется, что времена настолько изменились, что нет ничего общего между прошлым и настоящим, прошлая система ориентации непригодна в новых условиях. О таких временах и настроениях писала Марина Цветаева:
- Наша совесть — не ваша совесть!
- Полно! — Вольно! — О всем забыв,
- Дети, сами пишите повесть
- Дней своих и страстей своих.
Освобождение от традиций, разрушение системы сложившихся правил и запретов, казалось бы, должно способствовать внутреннему раскрепощению, свободе самовыражения, самореализации, свободному выбору, выбору реальных, подлинных внутренних устремлений, а не навязанных извне (родителями или социумом). Почему же в такие времена, когда разрушаются традиции, наблюдается рост тревоги?
Возможно, рост неопределенности, неизвестности, связанный с разрушением традиции, изменениями общественных представлений, сменой норм, правил, регулировавших поведение, помогавших вырабатывать определенное видение мира, сам по себе может вызывать тревогу. По своему опыту каждый из нас знает, что тревога действительно может быть вызвана переменами, новыми открывающимися путями, связанными с неизвестностью. Но, обратившись к собственному опыту, мы также можем заметить, что смена устоявшегося образа жизни, правил и норм далеко не всегда повышает тревогу; нередко люди ждут изменений, радуются им как новым открывающимся возможностям.
На такое противоречие, которое каждый может заметить на собственном опыте, обратил внимание известный философ Пауль Тиллих, отметив, что объяснение тревоги неизвестностью будущего и страхом неизвестного — страдает неполнотой: «Существует бесчисленное число областей неизвестного, различных для каждого субъекта и встречаемых без всякой тревоги». Неизвестное, которое вызывает тревогу — это «неизвестное, которое по самой своей природе не может быть узнано, это небытие» [40]. О том, что тревога коренится в страхе небытия или бессмысленности, писал и С. Кьеркегор [41].
П. Тиллих утверждает, что тревога является реакцией на угрозу небытия. Что такое небытие? Это не просто физическая смерть, это угроза пустоты. Угроза небытия, угроза превратиться в ничто лежит в основании любой частной тревоги. За всеми частными тревогами во множестве частных ситуаций лежит тревога небытия, которая их питает.
Тревога не обязательно связана с отказом от осуществления новых возможностей, с отказом от утверждения себя. Выше подробно рассматривалось, что большинством психологов различных направлений тревога связывается именно с отчуждением от себя, с отказом от утверждения себя, своего реального «Я». Тиллих же обращает внимание, что утверждение себя, напротив, может быть очень сильным, очень выраженным, но вот «Я», которое утверждает, подтверждает человек, — это уменьшенное, суженное, редуцированное «Я». «Он утверждает что-то меньшее, чем его основное или потенциальное бытие»[42]. В таком случае человек переживает тревогу [43].
Примером яркого и сильного самоутверждения может послужить Николай Ставрогин (Ф. М. Достоевский. «Бесы»), «свободный человек», осуществлявший все свои внутренние спонтанные импульсы, реализовывавший на своем пути многие из открывавшихся возможностей, «во всем он пробовал свою силу и развил ее до беспредельности». Нельзя сказать, что он обременен внутренними запретами и долженствованиями. Он не следует тому, что должно и принято, игнорирует общественные нормы, — «надо», «нельзя», руководствуется исключительно внутренними устремлениями. Он вполне приблизился к идеалу сверхчеловека Ницше [44] и может утвердительно ответить на его вопрос: «Можешь ли дать себе свое добро и зло и навесить на себя свою волю как закон? Можешь ли ты быть сам своим судьей и мстителем своего закона?» Он сам решает, каким будет в следующий момент времени, сам формирует себя и направлен исключительно на реализацию собственного «Я». Он берет на себя и ответственность за свою судьбу. Казалось бы, в данном случае можно говорить о личностном росте, личностном развитии, но результат такого «развития» — болезнь…
Не о личностном развитии, а о самоутверждении, утверждении самости, самореализации уместнее говорить в данном случае. Надо различать самость, природное «внутреннее Я» и личность. Самоутверждение, самореализация в данном случае очень развита, человеку кажется, что он идет к себе настоящему, но личностного развития не происходит. Оказывается, в результате взращивания свободы реализации спонтанных желаний, внутренних устремлений происходит не развитие, а разрушение личности, как раз свое подлинное «Я» человек и не реализует.
Глава 4
Тревога и ценность свободного выбора в жизни
Ценность свободы, свободного выбора подчеркивается в экзистенциально-гуманистической психологии. Несвободный выбор человека, то есть выбор, сделанный им под влиянием долженствований, внешних моральных норм, или выбор, определяемый тревогой, не ведет к личностному росту. Свободная воля человека, свободный выбор новых путей и возможностей, то есть выбор в согласии с внутренними устремлениями, считается необходимым для личностного роста. Отмечается, что это не всегда легко, и реализация новых возможностей тревожит человека, содержит в себе некоторый вызов для него, требует напряжения сил и чревата неудачей. Человек может бояться не только неуспеха, но и успеха, как бы парадоксально это ни звучало; его может страшить сама возможность смочь, суметь. Однако если человек выбирает безопасность, покой и избегает тревоги, то его личностный рост останавливается. Избегание тревоги, отказ от движения сквозь нее означает отказ от развития. Такой тип человека воссоздан Гончаровым в образе И. И. Обломова: «Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга; но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или дремоте» [45].
Для продолжения личностного роста, по словам гуманистических психологов, нужно не избегать напряжения, а принять тревогу, связанную со страхом неопределенности, и идти сквозь нее. «Переживание тревоги, — по словам Р. Мэя, — показывает, что существует некая новая возможность бытия; некоторая потенциальность может реализоваться, но ей угрожает небытие» [46]. Для осуществления личностного развития человек должен выбирать новые возможности. В таком случае, если человек идет сквозь неизвестность, осуществляя свободный выбор личностного роста, тревога должна уменьшиться.
Пафос экзистенциально гуманистической психологии — в подчеркивании личного мужества, ответственности, свободы, и это вызывает симпатию. Однако, подчеркивая решимость, отвагу, стремление идти сквозь тревогу, как не обратить внимание на содержание выбираемых возможностей? Разве любая новая возможность и потенциальность ведет к личностному росту? Любая ли новая возможность является возможностью бытия, не является ли реализация некоторых новых возможностей, скорее, приближением к небытию, нежели к бытию?
Если мы обратимся к творческому опыту и интуиции русских писателей, выраженному в их творчестве, то увидим, что далеко не все новые открывающиеся возможности ведут к личностному росту.
Ф. М. Достоевский ясно показывает, что стремление Родиона Раскольникова к личностному росту и к реализации новых возможностей имело совсем иные последствия.
Помогла ли личностному росту Анны Карениной реализация ею новых открывающихся возможностей? Очевидно, не любая новая возможность и потенциальность достойна реализации, и осуществление некоторых внутренних устремлений приводит к росту тревоги и депрессии. Может быть, критерий здесь — достижение личного блага? Те возможности и потенциальности, которые ведут к личному благу человека, должны реализовываться, иначе он потеряет себя и будет проживать не свою жизнь? Но Каренина стремится именно к личному благу, к личному благу стремится и П. П. Лужин. Во главу угла он ставит достижение личного блага, для него такое стремление возведено в принцип, «поскольку уж и наука доказала естественность и нормальность заботы о личном благе» [47]. Получается, что наиболее личностно развитый, ответственный, свободный человек — Лужин?
В экзистенциально-гуманистической психологии, в «позитивной» психологии утверждается, что люди, строя свое благополучие, заботясь о себе, стремясь к личному благу, строят и благополучие других. Но разве опыт не подсказывает нам, что весьма часто люди, пытаясь построить свое собственное благополучие, разрушают благополучие окружающих и способствуют их неблагополучию?
Другой возникающий вопрос: можно ли считать выбор под влиянием страсти, спонтанный, искренний, казалось бы, соответствующий внутренним устремлениям человека, свободным выбором? В психологии широко распространено положение, что игнорирование эмоций, представляющих в сознании потребности, желания, мотивы, приводит к ложным жизненным выборам, совершаемым на основании внешних норм, а не собственных склонностей и интересов. А разве следование своим эмоциям не может приводить к ложным жизненным выборам, превратив человека в раба своих страстей?
Свободный выбор — это выбор, согласующийся с основными устремлениями человека, а не навязанными ему, но для такого выбора нужно верно понимать, чувствовать свои подлинные устремления. Не любое стремление, желание, которое кажется самому человеку подлинным, значимым, ценным для него, на поверку действительно оказывается таковым.
За выбором, который человек делает, стоит определенный проект желаемого им будущего. Делая выбор, принимая решение и реализуя его, мы строим определенное будущее. Разве редко случается, что по мере продвижения к желаемой будущей действительности, по мере реализации проекта, осуществления планов, человек понимает, что ему это не нужно? Понимает, что он заблуждался, полагая желаемую будущую действительность ценной для себя, понимает, что сделал неверный выбор, двигаясь по направлению к этой желаемой им реальности.
Осуществляя внутренние устремления, человек нередко полагает, что личностно развивается, становится аутентичным, подлинным. Формирование общественных представлений о ценности самореализации, ценности следования своим внутренним желаниям, своим собственным потребностям, без упоминания о необходимости оценки их содержания, не так безобидно, поскольку побуждает человека некритично относиться к своим устремлениям, желаниям. Именно так думал и понимал происходящее, например, герой рассказа Алексея Варламова «Балашов», использовавший новые возможности, открывшиеся вследствие некоторых благоприятных изменений в обществе, и погрузившийся в новую, интересную, богатую жизнь, полную новых впечатлений, переживаний и ощущений.
«У Балашова началась другая жизнь, он много ездил, скитался, часто менял места работы, <…> — это был вкус к жизни, жажда чего-то нового каждый день, нового человека, нового ощущения, нового переживания. И этот вкус к жизни Балашов ставил превыше всего — ни деньги, ни карьера, ни уют, ни почести, ничто так не влекло его, как ощущение полноты жизни, того, что она, жизнь, бесценна в каждом своем мгновении и от этого мгновения нужно взять как можно больше. Это было чудное, незабываемое время — люди разгибали спины, переставали бояться, теряли свою подозрительность и отчужденность, и среди этих людей Балашов был удачлив. Стремительный, он нравился своим огнем, привлекал многих, легко и без сожаления расставался с ними, рано вставал и мог долго идти, не зная толком, где приклонит голову на следующий день. <…> Изредка вспоминая о жене и людях, ей подобных, Балашов чувствовал жалость — Антонина осталась в прошлом и не сумела себя от него излечить. В самом деле, как можно было жить изо дня в день на одном и том же месте, делать одну и ту же работу, не зная ничего нового, пряного?» [48]
Однако в конце своей такой, казалось бы, богатой жизни, полной переживаниями, новыми впечатлениями, новыми связями, он, больной и брошенный всеми, оказывается у Антонины, пожалевшей его. Он пересматривает свою жизнь, переживает свое предательство, мается душевной болью: «Целыми днями он мучился и думал. Вспоминал свою жизнь и расспрашивал жену, как она жила без него в самые тяжкие годы, и сопоставлял, и высчитывал, и получалось так, что именно тогда, когда задыхался и умирал его маленький сын, он познавал сладкий вкус жизни. И, чем хуже и отчаяннее было Антонине, тем, как назло, по годам и числам, было легче и веселее ему» [49].
Богатство переживаний, богатство ощущений обернулись иллюзией, пустотой, жизнь, казавшаяся полной, на поверку оказалась бессмысленной и предательской.
Получается, внутренние устремления внутренним устремлениям рознь — главным является их содержание. Человек нередко честно верит в то, что подсказывают ему внутренние стремления, и следует этому. По замечанию К. С. Льюиса [50], своим внутренним устремлениям следует завистник, он верит любой лжи о том, кому завидует; пьяница верит, что еще одна рюмочка ему не повредит; вор думает, что иначе жить и нельзя, поскольку все воруют, и он не виноват, что у него возможностей воровать больше, чем у других. У каждого из них — своя правда, и они в нее верят. Они честно верят в то, что подсказывает им внутренние стремления, и следуют им.
Верный или неверный выбор определяется не тем, последовал ли человек внутреннему импульсу или внешнему побудителю, а в том, насколько по содержанию этот выбор близок объективно ценному, в том, насколько он соответствует духовному «Я» человека, его совести. Дело не столько в том, внешним советам или внутренним желаниям следует человек. Можно привести много примеров, когда мы жалеем о выборе, сделанном под влиянием родителей или следуя общественному мнению. «Жалею, что слушал советы, не всегда доверял себе…» «Жалею, что пошел в вуз под влиянием родителей. Область, им знакомая, помогли бы потом с работой.» «Жалею, что вышла замуж, боялась остаться одна.» «Жалею, что вступила в отношения с этим молодым человеком, но как-то интересно было. Да и принято, чтобы кто-то был.»
Действительно, такое влияние может увести человека от собственного призвания, собственного пути. И можно привести не меньше примеров, когда человек жалеет о собственном выборе, сделанном вопреки советам, вопреки традиционным представлениям, поскольку такой выбор также может противоречить его глубинным ценностям. «Жалею, что не послушал родителей в свое время, увлекся „красивой жизнью“.» «Жалею, что не послушал совета. Даже и не спросил, потому что в глубине души знал, каким он будет, и не хотел ему следовать.» «Жалею, что не послушала родителей и вступила в отношения с ним.»
Осуществляя выбор и принимая решение, человек поступает в соответствии с ценностями, которые он полагает значимыми и важными для себя. В процессе ценностного выбора можно выделить несколько моментов: выбор той или иной альтернативы, оправдание выбора, дискредитация отвергнутых ценностей и положительная оценка выбранных, принятие решения, оправдание принятого решения, осуществление решения. внутреннее оправдание выбора и принятого решения осуществляется в ходе работы переживания, направленной на перестройку ценностной сферы, дискредитацию отвергнутых ценностей и усиление, закрепление ценностей выбранных.
Впрочем, нередко человек ошибается, действует в соответствии с ценностями, не столь значимыми для себя. Осуществляя ценностный выбор, он нередко идет против совести, выбирает ценности, не очень значимые для себя, принимает решение об их реализации, действует и выстраивает свою жизнь в соответствии с ними. Такой выбор нередко воспринимается им как субъективно верный, правильный, свободный, и работа переживания направлена на оправдание принятого решения и подготовку к его осуществлению. Но при этом он все же не соответствует глубинным ценностям человека.
Приведем пример из психологической практики работы с женщинами, отказывающимися от ребенка. Молодая мать отказывается от новорожденного, полагая, что для нее в данный момент гораздо важнее другое. В ходе беседы она рассказывает, что «им с мужем многое нужно»: «Хочется квартиру хорошо обставить, машину купить». По ее словам, все знакомые хорошо живут, имеют машины, дачи, а им «приходится всё с нуля начинать». Она утверждает, что приняла окончательное решение отказаться от ребенка, так как не может его обеспечить. Консультант расспрашивает, что они с мужем купили, что собираются еще приобрести. Она рассказывает об этом довольно уныло. Выясняется, что планирования, тем более ожидания и радости от будущих покупок нет, она и не думает сейчас об этом. Ценности, провозглашаемые ею, по-видимому, не слишком для нее значимы. «Почему же вы выбираете их?» — «Я уже выбрала». — «Ведь вам нелегко, вы мучаетесь! Зачем, ради чего вы обрекаете себя на такое страдание? Вы ведь против чего-то в себе идете, вы хотя бы понимаете это?» Женщина соглашается с этим утверждением, кивает. «А надо ли это делать, тем более что вам это так тяжело?» — «Видимо, надо…»
Женщина выбирает «многое», отказываясь при этом от самого нужного, важного и дорогого для нее, и наблюдается поразительная настойчивость в осуществлении выбора и принятого решения. Она утверждает: «Пусть мне тяжело, пусть я буду мучиться! Я уже приняла решение и не изменю его!» (В дальнейшем они с мужем изменили свое решение и воспитывают малыша.)
В данном случае женщина поступает вопреки внешней норме (в обществе все же доминирует представление о том, что бросать своих детей не следует) и прислушивается к своим внутренним желаниям. Но почему же она так мучается? Очевидно, у нее есть и другие внутренние стремления, к которым она не прислушивается. А как определить, какие желания, стремления наиболее подлинные, аутентичные? Те, на осуществлении которых человек настаивает и которым следует? Если исходить из представления о том, что любой внутренний выбор человека является его подлинным, свободным выбором, которому надо поспособствовать, то нужно поддержать любой выбор женщины. Действительно, если мы отрицаем наличие совести в человеке, отрицаем его духовное достоинство, то нам следует принять любой выбор, на котором он настаивает.
Но разве редко случается так, что, чем меньше у собеседника уверенности в правильности выбора, тем настойчивее и убежденнее он отстаивает его правильность? Разве не может измениться оценка решения и выбора, на котором настаивает человек, на прямо противоположную, причем довольно быстро?
В рассмотренном случае нет никаких гарантий, что через некоторое время женщина не будет раскаиваться, не будет пытаться изменить ситуацию, не будет разыскивать брошенного ею ребенка. В таком случае она будет крайне негативно оценивать работу специалистов, поддержавших ее прежний выбор.
Выбор истинный, верный, подлинный и продуктивный происходит, когда обнаруживаются некие объективные ценности, глубинные, ключевые ценности личности. Когда человек пробивается к своей совести, он обнаруживает глубинное основание для сопоставления альтернатив. И вот когда такое основание человек обнаруживает, он делает выбор подлинный, о котором не жалеет. Оценка такого выбора со временем не меняется, и появляются силы на принятие и реализацию решения, и тревоги в душе нет. А когда это основание не найдено, человек выбирает что-то менее важное для себя, меньшее, чем потенциальные возможности бытия, меньшее, чем то, к чему призывают глубинные ценности.
У нас немало различных стремлений, желаний, когда мы выбираем нечто противоположное нашим глубинным ценностям; такой выбор часто воспринимается как верный, и он оказывает властное влияние на нашу жизнь. Оценка его как субъективно верного может, конечно, со временем измениться. Не всегда внутренние устремления человека соответствуют его духовному «Я», а внешние нормы — противоречат. Наташа Ростова приняла решение о бегстве с Курагиным вполне искренне и вопреки общественному мнению, и что, разве это решение соответствовало ее глубинным устремлениям? Нормы, традиции, «нельзя» и «не должно» могут не только мешать, но и помогать выбору, который соответствует духовному «Я». Дело в их содержании, — если они соответствуют духовно-нравственным ценностям, то следование таким нормам не мешает, а помогает человеку сделать верный выбор. Если мы признаем наличие совести, образа Божия в человеке, то не любой выбор является подлинным и верным. В таком случае возникает серьезный вопрос, каким образом можно поддержать голос совести, не навязывая, не морализируя, «не работая чужой совестью»? Психологическая закономерность заключается в том, что, отвергая «ценностей незыблемую скалу» (шкалу) и основанные на ней установления, нормы и традиции, пытаясь во всем утвердить свою волю, человек становится игрушкой страстей и навязчивых влечений разного рода. По замечательному выражению Гоголя, «свобода не в том, чтобы говорить произволу своих желаний: да, но в том, чтобы уметь сказать им: нет» [51].
Выбор, сделанный под влиянием страсти, нередко воспринимается как свободный, верный, подлинный. Однако «свобода» от совести, освобождение от нравственных ценностей оборачивается зависимостью от страстей и становится свободой разрушения личности, вследствие чего человек погружается в тревогу.
Традиции, общественные представления, нормы, основанные на нравственных ценностях, не противоречат свободе человека, не мешают, а помогают его свободному выбору. Потому тревога распространяется в переломные эпохи, когда формирующиеся новые общественные представления, утверждающиеся новые ценности противоречат тому, что для человека действительно важно, ценно, и он переживает чувство беспомощности и дезориентации. Тревога охватывает человека, когда обесценивается действительно объективно важное и значимое, когда он внутренне не согласен с формирующимися новыми общественными представлениями и нормами. Тревога связана с разрушением традиций, которые помогают человеку приблизиться к духовному в себе, к своей глубине. Если происходящие перемены согласуются с совестью человека, то тревоги нет, а если они вступают в противоречие с нравственными законами, то тревога возникает, несмотря на то, что на уровне сознания мы можем считать грядущие перемены положительными, полезными и необходимыми.
Например, А. А. Блок писал в дневниках о своих надеждах, связанных с переменами в начале XX века. Он слишком хорошо видел недостатки, несправедливость дореволюционной жизни, чувствовал правду возмущения трудовых людей, верил в приближение новой, живой, могучей и юной России. Революция вначале воспринималась им как торжество стихии музыки над серостью, приземленностью, пошлостью, и он приветствовал революционное обновление жизни, которое должно смести все старое, косное, ложное, мещанское. Он призывал слушать музыку революции, но в его стихах звучат тревожные ноты, например:
- О, если б знали вы, друзья,
- Холод и мрак грядущих дней!
Или:
- Двадцатый век… Еще бездомней,
- Еще страшнее жизни мгла
- (Еще чернее и огромней
- Тень Люциферова крыла).
Тревога связана с осуществлением некоего не подлинного, не настоящего «Я». Не реализуя свое настоящее «Я», человек приближается к небытию, о чем и свидетельствует тревога. Реализация этого неподлинного «Я» может быть очень сильной, резко выраженной, но при этом возникает угроза небытия, которую мы переживаем как тревогу. Человек не живет в полную силу, не реализует дарованное ему. Тревога — это не борьба с небытием, тревога — следствие приближения к небытию. О каком же «Я» идет речь? Что такое подлинное и неподлинное «Я»? Каков этот таинственный путь к себе?
Глава 5
О наличном и духовном
Человек принадлежит двум мирам, он не только природное, но и духовное существо. Природа человека побуждает его жить в горизонтальном измерении, в противостоянии другому человеку и борьбе за существование. Главная цель жизни в таком случае — приспособиться, по возможности устроиться, по словам одного клиента, «занять полку повыше». Иногда такая жизненная ориентация настолько доминирует в обществе, что другого почти и не видно. Формируются социальные представления о том, что доносительство — это борьба с врагом, воровство — это норма жизни, ложь — это правда, любовь — это эмоциональная привязанность или сексуальное влечение, счастье — это высокий уровень потребления, полнота жизни — это богатство ощущений и переживаний; личностное развитие — это самореализация, выявление природных потенций «внутреннего Я», забота о личном благе. Сознание и воля человека становятся орудиями утверждения самости.
О таких временах А. А. Ахматова писала в поэме «Реквием»:
- Это было, когда улыбался
- Только мертвый, спокойствию рад.
- И ненужным привеском болтался
- Возле тюрем своих Ленинград.
По словам Евгения Трубецкого [52], во времена обнажения мирового зла и бессмыслицы сообщество начинает напоминать животный мир: «Перед нами проходили картины взаимного пожирания существ — яркие иллюстрации той всеобщей беспощадной борьбы за существование, которая наполняет жизнь природы» [53].
Чувство нравственной тошноты и отвращения достигает в нас наивысшего предела, когда мы видим, что, вопреки призванию, жизнь человечества в целом поразительно напоминает то, что можно видеть на дне аквариума, где «победителем в борьбе с рыбами, моллюсками, саламандрами неизменно оказывался водяной жук, благодаря техническому совершенству двух орудий истребления: могущественной челюсти, которой он сокрушал противника, и ядовитым веществам, которыми он отравлял его» [54]. Само наличие этого отвращения свидетельствует о том, что для человека такая жизнь противоестественна, что он призван к другому.
Недаром такое отношение к ближнему считается бесчеловечным. Но милосердие, любовь, терпение, самопожертвование не исчезают и в такие бесчеловечные времена, их просто не так заметно. Насколько бесчеловечным был режим в нацистской Германии, но существовало сопротивление, существовала «Белая роза» [55]!
Идея потенциального, духовного «Я» в различных формулировках проходит через всю историю культуры. За очевидностью «наличного Я» человека сокрыто незримое, не очевидное «духовное Я», духовная индивидуальность.
В отечественную психологию понятие «духовного Я» введено Т. А. Флоренской [56]. «Это сокровенная глубина души человека, устремляющая его к добру и совершенствованию. В нем звучит голос вечности, неповторимое жизненное призвание человека. „Духовное Я“ обычно не сознается или смутно осознается человеком, в отличие от „наличного Я“, представляющего собой совокупность психологических характеристик человека и состояний его души» [57]. Неоправданно давать определения духовному, но мы можем говорить о его психологических проявлениях — совести, самопожертвовании, милосердном отношении к другому, о творческой интуиции.
Что заставило Януша Корчака [58] не уйти из Треблинки, как ему не раз предлагали сотрудники лагеря, а остаться с детьми до самого конца? Что побудило великую княгиню Елизавету Федоровну [59] ухаживать за ранеными и больными? Почему доктор Гааз [60] наживал неприятности в борьбе за облегчение жизни заключенных, в организации больниц для бесприютных? И сейчас есть немало людей, по мере сил помогающих ближнему. О некоторых из них мы слышали: они создают фонды помощи, добиваются строительства больниц и хосписов. О большинстве же мы, конечно, не знаем, и начинает казаться, что и нет их, что это явление исчезает из нашей жизни, но это неправда! Люди, живущие рядом с нами, наши близкие, родители, бабушки, дедушки, друзья, — разве на памяти каждого нет воспоминаний о том, как они помогали, жертвовали многим и ради нас, и ради других?
Что побуждает людей не устраиваться за счет ближнего своего, не наживаться на горе и страдании людей? Что побуждает человека просто честно жить? В те времена, о которых писала А. А. Ахматова, бесчисленное число наших сограждан не приспособились к доносительству, не наживались на бедах и страданиях окружающих… В недавние времена множество людей, честно работавших на заводах, фабриках и в колхозах, не обогащались на распаде страны, которую они строили, не приспособились к воровству.
Наиболее близким каждому человеку проявлением «духовного Я» является совесть. В настоящее время это слово воспринимается почти архаичным, устаревшим, и как-то почти неловко стало произносить его, а между тем это реальность, с которой сталкивается каждый человек.
Нередко совесть понимают как продукт присвоения моральных норм. Однако даже поверхностное, «школьное» различение понятий морали и нравственности помогает избежать такого неверного представления. В отличие от нравственных, моральные нормы отражают общественно-исторические, преходящие ценности. Совесть же связана с непреходящими духовно-нравственными ценностями. Совестные переживания являются характерными для человека, в том числе и в атеистических культурах.
Сопереживание, сочувствие — эмоциональная основа совести. Испытывая угрызения совести, человек нередко ставит себя на место того, перед кем провинился. Чувство общности, сопричастности другому живет в каждом нормальном человеке. В самом слове «совесть» — приставка «со» указывает на сообщность, сочувствие, сотрудничество, единство людей. Однако переживание эмоциональной общности с группой может побудить человека к совершенно бессовестным поступкам, как бы санкционированным, оправданным социумом. Так, дети могут переживать некоторую эмоциональную общность на фоне совместного жестокого преследования сверстника, в то время как каждый из детей поодиночке не преследовал бы его и не обижал. Эмоциональная общность с одним человеком, сочувствие, сопереживание ему могут побудить к жестоким и бессовестным поступкам по отношению к другому (Алеша Валковский). Кроме эмоциональной, связанной с сочувствием, сопереживанием другому, и когнитивной, связанной с усвоением моральных норм, есть еще одна сторона совести — связанная с обнаружением этого феномена в своем опыте по отношению не обязательно к близкому, приятному, располагающему к себе человеку, и даже вопреки тем или иным моральным групповым нормам.
В работах Т. А. Флоренской показано обнаружение подростками совестных переживаний, открытие совести, прослежена возрастная динамика ее развития [61]. Наряду с открытием «Я», в старшем подростковом возрасте происходит осознание совести как «второго Я». Раскрывая содержание этого понятия, подростки исходят из своего внутреннего опыта, они «не проходили», что такое совесть, но они знают о ней.
Открытие «второго Я» совершают подростки, критически и негативно относящиеся к моральным требованиям взрослых, склонные к «автономной» подростковой морали. Это становится аргументом против распространенного мнения о совести как результате усвоенных моральных норм и требований старших.
По словам подростков, совесть — это «второе Я» человека, обязательное у всех, «лучшее Я», «совесть, вторая душа, обладающая только хорошими качествами». Они пишут не только о «мучениях совести», но и о том, что совесть подсказывает, как повести себя в той или иной ситуации.
Такое понимание противоположно пониманию совести как болезненного проявления, как некоего комплекса (З. Фрейд), как экрана для проецирования агрессии и жестоких требований, отчуждаемых от себя (Ф. Перлз).
По мнению Перлза, совесть представляет собой перенесенные внутрь внешние нормы, силу которым дает неосознаваемый гнев человека, направленный на объект, препятствующий осуществлению его желаний [62]. Совестные переживания нередко неверно отождествляют с чувством вины, с невротическими самообвинениями. Однако это — разные явления; переживая угрызения совести, человек пытается смотреть на неверно сделанный выбор, неверный поступок, неверное отношение, не преувеличивая и не уменьшая его, старается найти, что ответственно за этот шаг в нем самом, и работать над действительным преодолением этого. Самообвинение выносит осуждающее заключение, что вся личность нехороша, и останавливается на этом. За невротическими самообвинениями стоит тщеславие, гордость, они казнят человека (или, точнее, охваченный гордостью человек сам себя казнит) за несоответствие своему идеализированному, возвеличенному «Я».
В традиции отечественной философии совесть понимается как внутренне присущая человеку. И. А. Ильин [63] отмечает, что совесть — «живая и цельная воля к совершенному» [64]. Повеление (совести), по словам С. Л. Франка [65], «не вторгается в нашу душевную жизнь помимо ее личного центра, а проходит именно через глубочайший ее центр в лице „Я“, <.. > глубина моего я в нем соучаствует и служит его органом и вестником» [66].
Совесть, по выражению С. Н. Булгакова [67], — внутренний свет, в котором совершается различение добра и зла в человеке, исходящий от Источника светов. «В совести своей, необманной и нелицеприятной, столь загадочно свободной от естественного человеческого себялюбия, человек ощущает, что некто совесть, соведает вместе с ним его дела, творит суд свой, всегда его видит» [68]. Е. Н. Трубецкой писал, что человеку присуща совесть как весть о безусловном, совесть — суд истины обо всем переживаемом и о должном в действиях человека [69].
Мучения совести болезненны: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста» [70]. Без такой боли нет изменения, нет отвращения от совершенного зла. Дело в том, как человек обращается с этой болью. Он может враждовать с голосом совести и вытеснять такую боль. Но это делает человека врагом самому себе, так происходит отчуждение от опыта собственной жизни, от правды собственных чувств. Человек не слышит своего сердца, он игнорирует свои наиболее глубокие, подлинные, аутентичные, как сказал бы психолог, чувства, тогда, когда он вытесняет свою совесть. Так мать может отказываться от малыша вопреки всей своей природе, вытесняя и материнское чувство, и привязанность к ребенку, полагая для себя более важным что-то совершенно иное. Ее сердце кричит о заблуждении, но она не слышит, полагая, что делает правильный выбор, уверяет себя и окружающих в верности своего свободного решения.
Приведем следующий пример из психологической практики. Женщина приняла решение отказаться от новорожденного: «Не знаю, как объяснить.
Давно уже приняла решение, собиралась сделать аборт, но затянула, и врачи отказались делать. Сказали, что нужна веская причина. А какая причина еще нужна? Достаточно того, что я не хочу этого ребенка». По словам собеседницы, семья вполне обеспеченная, муж «зарабатывает прилично, не пьет». У них уже есть ребенок, и второго они сейчас не хотят. Наша героиня не работает, «дома много дел: уборка, стирка, на кухне все блестит, ребенок много времени отнимает (читаем, пишем, считаем). Вечером приходят гости, кроссворды вместе отгадываем, разговариваем. У всех по одному ребенку. Мы не видим необходимости впадать в нищету». — Консультант переспрашивает: «В нищету?» — «Нет, конечно, но, в первую очередь, нет желания еще иметь детей. Мне кажется, я буду чувствовать, что первого ущемляю». По словам собеседницы, «денег ей всегда мало, чем больше их появляется, тем больше нужно». Она стремится улучшить свой быт: «Хочется иметь побольше всякого барахла, и чтобы всё было новое…»
В рассказе женщины встречаются удивительные слова и фразы, которые свидетельствуют о ее глубоком, хотя и не осознаваемом понимании происходящего. Ей нужно многое, но это «многое» она называет «барахлом». Она отказывается от новорожденного, подчеркивая свою привязанность к старшему ребенку, рассказывает о своей жалостливости, но признает, что проявляется она «не там, где нужно». Сочувствуя героям сериалов, она остается равнодушной по отношению к по-настоящему близким людям: «Бывает, попереживаешь немного, но в душу не западает».
Собеседница вспоминает об отце, и сама затрагивает тему совести. Совесть, по ее словам, это что-то, что «внутри находится, как нервная клетка, которую нельзя трогать. Совесть мучает, очень точное выражение: „мучает“, если что-то идет не так. Только вот иногда совесть путается со стыдом».
Слова героини свидетельствуют о наличии внутреннего опыта, связанного с переживанием совести. На вопрос, мучила ли ее когда-либо совесть, отвечает: «Нет, не мучила, единственно, может быть, сейчас. Но я еще не ощущаю ничего, может быть, потом будет мучить». Плачет: «Стараюсь не думать, я еще не видела». Пытается справиться со слезами и говорит: «Я уверена, в больнице все угнетает, давит. Детей приносят кормить… Дома я легче перенесу. Не знаю, забуду или нет.» И резко, твердо, стараясь убедить слушателя: «Тяжело, но я знаю, что это из-за того, что я здесь!» Вспоминает сына: «Им заполню время», — утверждает, что «все потребности ребенка надо удовлетворять. Он должен все иметь. Не так, чтобы мы удовлетворяли его капризы, а как нечто само собой разумеющееся». Плачет: «Мне тяжело, но я в себе уверена. Мне тяжело потому, что боль — свежая, но время лечит, день ото дня будет легче». На вопрос: «Как ты себя чувствуешь?» — отвечает: «Пусто. Пустота.»
Женщине нелегко осуществить принятое решение, но в этом случае наблюдается поразительная одержимость идеей осуществления отказа. По мере развития внутреннего противостояния, вытесняется и материнское чувство. В то же время женщины отмечают, что если принимается решение отказаться от ребенка, то «пустота на душе, вообще ничего, пустота.»; «ощущение смерти, как будто все умерло вокруг, и я — полумертвая».
В данном случае женщина признает, что причина ее отказа — в нежелании иметь ребенка, она не ссылается на неблагоприятную ситуацию. В чем же причина такого нежелания? Возникает предположение об отсутствии материнского чувства, привязанности к ребенку; на этом поначалу настаивает и сама героиня. Почему же при отсутствии материнского чувства ей все же тяжело, прорываются слезы, «все давит, напоминает, мучает»? Значит, есть и материнское чувство, которое подавляется и скрывается не столько перед собеседником, сколько перед собой. внутренний разлад, глубокое вытеснение совести приводят к крайне навязчивому решению об отказе, складывается впечатление о неспособности женщины противостоять этому решению. внутренний разлад с совестью приводит к состоянию плененности своими потребностями, к неспособности осуществить свободный выбор. По мере избавления от совести появляется не свобода, а тирания долженствований, такое помрачение разума, что человек делает ненужное ему, при этом считает полезным и даже необходимым это делать.
Отвержение совести приводит женщину к одиночеству, к отвержению даже от самых дорогих ей людей. По ее словам, ей жаль нищих и бездомных, но она старается не обращать на них особого внимания, чтобы лишний раз не расстраиваться. При этом она не сочувствует близким и абсолютно уверена, что ей тоже не сочувствует никто. Женщина признается, что она — одинокий человек: «Я уверена в том, что касающееся меня больше никого не интересует. Всё, рассказанное мною, кроме как мне, никому не важно».
Нашу героиню, по ее словам, «бесит» ее отец, который стремится жить по совести, в то время как над ним все смеются. внутренняя борьба с совестью воплощается во внешнюю борьбу с отцом. Но, вопреки осознаваемому неприятию отца, прорывается жалость к нему. Также, вопреки осознаваемому неприятию новорожденного, прорывается жалость и стремление к нему. Обнаруживается это, когда начинает открываться конфликт, связанный с совестью. По мере того, как проявляется совесть, открывается и подавляемое женщиной материнское чувство и жалость к малышу.
Человек может остановиться на переживании своей внутренней боли. В этом случае появится раскаяние, но не будет покаяния. Эта боль не станет началом новой жизни, началом изменения человека. Совесть не только «терзает», она подсказывает нам, как следует поступить в той или иной ситуации. Совесть — возрождающая сила в душе человека. Когда он прислушивается к совести и делает верный выбор, происходят удивительные события, изменяются жизненные обстоятельства и уходит тревога.
Глава 6
Путь к себе и тревога
Тревога свидетельствует о том, что личностному развитию угрожает опасность, предупреждает о конфликте между «наличным Я» и «духовным Я». Тревога возникает и углубляется по мере того, как человек уходит от себя, от своего «духовного Я». Путь к себе, открытие себя — это открытие своей совести. Когда человек прислушивается к голосу своей совести, в его душе как раз и происходит внутренний диалог «наличного Я» и «духовного Я». внутренний диалог может характеризоваться различной степенью глубины, и, чем ближе человек к Богу, тем глубже его внутренний диалог. Но мы будем говорить не о сокровенных глубинах внутреннего диалога, когда человеку приоткрывается Промысел и перед ним раздвигаются границы времени и пространства, а об очень простых вещах — о послушании голосу нравственной интуиции, голосу совести.
Послушание человека голосу «духовного Я», голосу совести и внутренняя борьба с бессовестными желаниями и стремлениями преодолевает состояние тревоги и приводит к состоянию внутреннего мира и гармонии. Личностное развитие невозможно без внутреннего мира с духовным и идет путем внутреннего диалога. Оно заключается в развитии способности последовать совести, в том числе, и приятии слова «нет», а не в свободе реализации спонтанных желаний и импульсов и реализации открывающихся возможностей по принципу: «Почему бы и нет?»
Если мы обратимся к человеческому опыту, выраженному в отечественной литературе, то заметим, что гармония, внутренний покой, отсутствие тревоги не только не противоречат личностному развитию человека, а, напротив, являются необходимыми условиями такого развития. Тревога предупреждает о том, что личностному развитию угрожает опасность, свидетельствует о конфликте между «наличным Я» и «духовным Я».
Задумаемся, кто из персонажей пушкинской «Капитанской дочки» личностно развит? Петр Гринев, капитан Миронов, Пугачев, Швабрин? Страстный, казалось бы, сильный, умеющий постоять за себя и свои интересы Швабрин, не лишенный лоска и блеска, приличных манер и внешней привлекательности, оказывается слабым, неверным, непорядочным, мелким и мстительным, не способным любить и личностно не развитым. А на поверхностный взгляд, почти смешной, слабый, нелепый, управляемый женой капитан Миронов, а на самом деле — трогательный, сдержанный, не склонный к громким словам и пафосу, глубоко любящий, снисходительный к слабостям и характеру жены, уступающий ей в мелочах, но твердый в значимом для него, оказывается героем. В решающий момент действия его умны и оправданны: он не оробел и сделал все, что было в его силах. Капитан Миронов и Василиса Егоровна могут восприниматься как не слишком образованные, несколько нелепые провинциальные обыватели, простые, смешные, недалекие… Полное пренебрежение имиджем, полное отсутствие блеска, неспособность (да и нежелание) самопрезентации, говоря современным языком… Но на поверку все оказывается иначе. внутреннее достоинство и благородство присуще как раз этим простым людям. Спокойно и сдержанно ведут себя и капитан Миронов, и Василиса Егоровна в ситуации страшной опасности и реальной угрозы жизни. «.Прощай, мой Иван Кузьмич. Отпусти мне, коли в чем тебе досадила!» — «Прощай, прощай, матушка! — сказал комендант, обняв свою старуху. — Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан» [71].
Они не наивны, они реально оценивают положение дел, но не стенают и даже не выносят это свое понимание вовне, подбадривая друг друга.
Если мы обратимся к собственному опыту, то трудно, наверное, не заметить тревогу, охватывающую нас в ситуациях опасности, реальной или мнимой. Даже если мы припомним случаи, когда такая опасность не связана с угрозой для жизни, а лишь предполагает некоторые житейские осложнения и неприятности, если всего лишь не оправдываются наши завышенные ожидания и возникают ситуации неопределенности, то заметим, как щемящее чувство безысходной тоски овладевает нами. Чуть только возникает угроза нарушения привычного хода жизни, тревога охватывает нас.